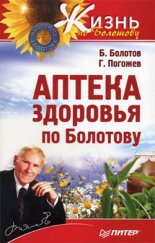Руны Вещего Олега Задорнов Михаил

В Кафе, куда пригнали свою добычу хазары, всех заставили войти в воду и омыться, приказав раздеться догола. С тех, кто мешкал, особенно с девушек, не хотевших разоблачаться из природной стыдливости, хазары со смехом срывали одежду, вспарывая завязки концами клинков. Несколько купцов-жидовинов, один из которых был старым и припадал на ногу, затеяли долгий и горячий спор с хазарами, а иногда и меж собой, выторговывая каждого невольника как можно дешевле.
Звенислава едва не лишилась чувств от омерзения и ощущения собственной беспомощности, когда хромой купец, подойдя к ней, деловито помял её девичьи перси заскорузлым пальцем с искривлёнными грязными ногтями, а потом похлопал по ягодицам, которые тут же покрылись гусиной кожей.
Второй раз она была на шаг от того, чтобы вцепиться в глотку обидчику и умереть от его ножа или меча. В первый раз это случилось на вечернем привале, когда взявший её в полон ещё довольно молодой хазарин, глотая слюну и блестя очами, принялся ощупывать и гладить её тело, запуская руки под одежду. Никто и никогда не делал с ней этого, и в предощущении самого ужасного, что должно было произойти, ненависть, страх и отвращение ударили в голову, пред очами потемнело. Она с радостью выхватила бы костяную рукоять ножа на поясе вражеского воина и после удара в горло хазарина вонзила бы клинок в себя… Но руки были туго связаны волосяной верёвкой. И тогда Звенислава решила вцепиться в его шею зубами. В этот момент послышался резкий женский возглас, и к ним подошла пожилая хазарка. Она за что-то ругала молодого, оживлённо махая руками. В её возбуждённой речи несколько раз повторялось «силик кыз». Молодой воин высвободил руку из-под одежды пленницы и, криво усмехнувшись, что-то пробормотал по-своему и отошёл. Пожилая хазарка, насколько поняла Звенислава, мать воина, присела подле, внимательно оглядела и ощупала её.
– Силик кыз? – спросила она. И видя, что пленница не понимает, объяснила на ломаном славянском: – Эйр, муж, знать? – и для пущей убедительности показала красноречивый жест из пальца, входящего в кольцо.
Звенислава отрицательно покачала головой.
– Яхшы, – довольно кивнула женщина и, принеся что-то в пиале, напоила пленницу.
И сейчас старый купец опять оглядывал её и ощупывал, как лошадь или корову. Наконец старый согласно кивнул и сделал знак отвести девицу к четырём молодым пленницам, которые уже стояли отдельно под присмотром двух крепких угрюмых охранников. Едва она успела одеться, как к ней подбежал младший брат Грозы, глядя затравленным волчонком и сжавшись в комок, стал подле Звениславы, вцепившись в её руку, и охраннику пришлось оттаскивать его силой.
– Я без него никуда не пойду, слышишь, купец! – крикнула, неожиданно наливаясь изнутри яростью, дева. Здоровенный, втрое тяжелее её охранник, не мог сдвинуть хрупкую Звениславу. – Ты слышал, купец, я убью себя, всё равно убью, и ты потеряешь свои деньги, если не возьмёшь моего младшего брата!
Купец сделал знак воину, и тот перестал тянуть строптивую деву. Жидовин не спеша подошёл к полонянке. Её горящий яростью и решимостью взгляд сказал всё опытному торговцу живым товаром. Есть люди, которые громко кричат о своей храбрости или угрожают, но так ли это на деле, всегда видно по очам. Когда-то ещё начинающим работорговцем он не поверил вот такому взору, полному спокойной решительности, и потерял хорошие деньги. Досада до сих пор скребёт изнутри, когда он вспоминает тот случай и какую сумму тогда потерял, хотя уже многократно умножил собственный достаток с тех далёких времён. Теперь он мудр и опытен, и не допускает таких потерь.
– Хорошо, я выкуплю твоего брата, и он будет с тобой. Я стану вас хорошо кормить, но ты мне должна обещать, что ничего с собой не сделаешь, иначе ему будет очень плохо, – на хорошем словенском, но со своим особенным выговором ответил работорговец, владевший также хазарским, греческим и арабским языками, – тех народов, с которыми ему чаще всего приходилось вести торг.
Дюжие хазары-охоронцы привели отобранных старым жидовином невольников в его обширное подворье, на глухой задний двор через ворота для скота. Здесь их освободили от пут, усадили за длинный стол, и рабыни, что обслуживали хозяйство, впервые покормили их. Потом мальчиков собрали отдельно, а жён и девиц отдельно. Звенислава забеспокоилась.
– Погодите, но купец обещал, что мы будем с братом вместе! – встревожено воскликнула она.
– Да будете вы вместе, как обещал хозяин, – угрюмо обронила одна из служанок и почему-то опустила очи. – Тихо, Косая идёт!
Пришла старуха, рыхлая и скрюченная. Она с какой-то неприязнью и радостной удовлетворённостью одновременно оглядела жён своими выцветшими очами, на одном из которых было бельмо, отчего глаз косил. Шамкая полубеззубым ртом, Косая повелела идти за ней. Она говорила на смеси нескольких языков, но полонянки понимали, чего она требует, и выполняли указания. Тех же, кто мешкал, она стегала небольшой тонкой, как ивовый прут, плёткой. Им снова пришлось раздеться. Теперь уже старуха придирчиво осматривала каждую из пленниц, заставляя иногда приседать, поворачиваться, наклоняться. Вот все пятеро стали ликами к стене из светло-серого известкового камня. Звенислава чувствовала на себе жадные взгляды нескольких охоронцев, которые, стоя поодаль, о чём-то переговаривались, гогоча, как жеребцы. Старуха подошла сзади, приказала раздвинуть ноги, ещё шире, потом наклониться. Девица замешкалась под откровенными взглядами охоронцев, и тут же получила удар по спине плетью. Дрожа от стыда, она выполнила приказание и вдруг почувствовала, что палец старухи входит в её девичье лоно. От неожиданности она снова дёрнулась и тут же получила по разным местам голого тела несколько хлёстких ударов и порцию грязных злых ругательств на смеси языков. Всё повторилось, теперь она сжала зубы и старалась не двигаться, ей было стыдно, она не могла поднять очи, ещё более ощущая себя несчастным животным. Наконец, им позволили одеться, и, под сальные возгласы охоронцев, полонянки побрели за старухой в хлев, где вместо загона для животных были расположены вдоль стен лавки с какими-то брошенным на них тряпьём. Это было место ночлега. От тех же рабынь, прислуживавших в доме работорговца, они узнали, что старуха Косая всегда самолично осматривает всех купленных рабынь и, в первую очередь, отбирает девственниц, ведь на восточных рынках девственницы, особенно из славян, ценятся очень высоко. Значит, их готовят для перепродажи? Как быстро обрушилась жизнь: гордые и свободные жёны и юные девы превращались в скот, который продают. Нет, не скот, а неизмеримо хуже: скоту не ведом стыд и позор, оскорбления и унижения, которым каждая пленница многократно подвергалась каждый день. Многие из них, как и Звенислава, сидя в этом хлеву, в очередной раз думали о спасительной смерти, которая краше невыносимого рабства. «Если не вернут Калинку, то и я не буду более жить!» – твёрдо решила девица. Мальцы и отроки вернулись только через два дня к вечеру. Вернее, их привезли на возах, некоторые были без сознания, иные стонали и метались в горячке. Все, кто ждал их возвращения, почувствовали, что произошло нечто страшное. Дюжие охоронцы быстро перетаскали всех отроков в соседний хлев. А вскоре пришла Косая с кучей тряпья.
– Ты и ты, – ткнула она хлыстом в Звениславу и ещё одну женщину, – иди ухаживать, только не давать ни пить, ни есть!
Женщины вошли в полутёмное помещение и сразу бросились к отрокам. Калинка был без сознания, низ его рубахи пропитался кровью.
– Что с тобой, малыш, что с тобой сделали? – В испуге воскликнула девица. Несмело приподняла его длинную рубаху и в ужасе вскрикнула. На мужском месте был кровавый сгусток, прижжённый, очевидно, раскалённым железом.
Оскоплённых мальчиков работорговцы продавали в гаремы арабам, ромеям и прочим богатым вельможам, в качестве охоронцев и домашних слуг. Потому здесь, в Кафе, торговцы невольниками и создали специальное заведение, где захваченных детей, а иногда и взрослых мужей оскопляли или кастрировали по желанию торговцев. Да, это стоило им некоторых денег, поскольку выживали не все, но спрос на кастратов и скопцов очень высок, а значит затраты вернутся сторицей, главное знать, где и каких рабов выгоднее продать. Обычно удалением семенников – кастрацией, или полным удалением мужских членов – оскоплением – занимались жидовины, у которых сие деяние велось издревле. Проживая в полупустынных либо гористых местах, где мало плодородной земли и пропитания, сии народы ограничивали собственную плодовитость кастрацией младших сыновей. С переселением на новые угодья такая необходимость отпала, остался лишь ритуал в виде обрезания крайней плоти. А навыки пригодились для кастрации рабов и животных – разница невелика. Старая жидовинка Косая, что оценивала жён и определяла девственниц, была родственницей торговца и получала от него плату за свою работу. Всё это Звенислава узнала потом, а в те дни диких событий пленения, торга, позора, превращения вольных людей в скот, оскопления маленького Калинки, разум едва не покинул её.
Как-то рано поутру, проходя меж спящих, Звенислава увидела двух совсем молоденьких – её возраста, может, немного постарше девиц, – что лежали, разметавшись, в тёмных лужах. Она даже не вскрикнула, столь привычным стал вид крови и смерти за короткий час полона. Чуть ранее взрослая женщина, мать того самого мальца, что пытался взобраться на скалу, повесилась на вбитом в стену крюке. От оскопления померли трое отроков. Теперь не выдержали ещё две женских души. Звенислава тронула одну и другую за плечи, обе были холодными. Жизнь покинула тела несчастных вместе с рудой из их разрезанных запястий. Никому ничего не говоря, она в полусне отупления от всего происшедшего побрела дальше. Вскоре поднялся шум и суета, разъярённый купец, вмиг обретя прыть, метался по хлеву, орал на охоронцев. Двоих схватили, сорвали одежду, отходили плетьми до беспамятства и за руки утащили прочь. За пленными с этого дня жёстко усилили надзор.
Наверное, только страх за младшего брата Грозы, даже не страх, которого уже не было, а ответственность за него, помогали ей переживать все ужасы и мерзости неволи.
Звенислава часто хваталась рукой за место подле солнечного сплетения, где у неё раньше висел обережник, отобранный молодым хазарином, который первым ощупал её. Обережник подарила Звениславе мать в дни зрелости, когда Луна впервые источила из неё кровь-руду. Отчего-то это прошло болезненно, мать забеспокоилась и посоветовалась с бабушкой. Та, в свою очередь, велела матери сходить к волхву Хорсовиту и попросить у него женский науз.
Звенислава весьма обрадовалась, когда получила круглый медный медальон с изображением на нём змееногой богини с воздетыми руками. На обратной стороне были выбиты слова: «Храни нутро от чёрной дъны», и две буквы ЗС.
– ЗС – это твоё имя, Звенислава, – пояснила мать. А Берегиня, как сказал волхв Хорсовит – богиня земли и плодородия, хранительница вод, растений и всего сущего, будет всегда охранять тебя от всякой дъны, что есть воплощение нежити и немочи.
Вечером бабушка тоже поговорила с внучкой, рассказав про матицу.
– Внутри каждой жены находится матица, от которой зависит твоё здравие и здравие твоих детей, коих ты родишь из неё. Она размером с кулак и словно лягушка, имеет четыре ноги, состоящие из жил толщиной с порядочный шнурок. Приведённая в беспокойное состояние или «сдвинутая со своего места» родами или чрезмерным усилием при работе, матица охватывает своими руками внутренности человека и производит сильное сжимание, порождающее страшную боль в животе и сильную головную боль.
У мужей в утробе тоже есть своя мужская матица, только находится она не посредине чрева, как у жён, а несколько ниже, и также может сдвинуться от «надрыва живота». Коли неладно у мужа с матицей, то нет детей у семейной пары, коли неладно у жены, то же самое происходит. Оттого такие обережники, их называют ещё змеевиками, носят и мужчины, и женщины. Помни, внучка, что мы всегда пребываем под защитой Великой Матери.
Как теперь не хватало Звениславе материнского обережника! Однако она представляла его мысленно и всегда обращалась к Берегине с просьбой о поддержке и защите. Науз-то был именной, и никому, кроме неё, силу свою передать не мог.
Купец сбирал живой товар расчётливо и тщательно, он был опытен в своём деле и ведал когда, куда и сколько рабов и рабынь следует отправить, чтобы торг был выгоден и скор. Прошло около трёх седмиц, а может чуть более, чувство времени как-то стёрлось для юной полонянки. Калинка, пребывавший от тяжкой горячки на Калиновом мосту, что отделяет мир живых от мира мёртвых, её заботой и мольбами стал возвращаться в явский мир. Понемногу он начал ходить, есть, раны почти затянулись. И вот прошёл слух, что большую часть рабов сегодня увезут. Про то сообщила шёпотом одна из рабынь, что приносили еду. Она сунула быстрым движением кусок лепёшки за пазуху рваной рубашонки Калинки, бросив на ходу: «на дорогу». Звенислава вновь заволновалась не на шутку, а вдруг запамятовал старый жидовин, что обещал их с Калинкой не разлучать? Когда после обеда рабов стали делить на две части, она и вовсе замерла от страха, как дикая косуля под прицелом охотничьего лука. Работорговец с равнодушным усталым видом шёл меж рядов рабов и красивой отделанной перламутром клюкой, на которую опирался при ходьбе, указывал двум дородным стражникам, кого из рабов в какую из двух ватаг определять. Перед Звениславой и мальцом, глядящим большими, полными боли и страха очами, купец остановился на миг дольше, чем перед другими и, встретившись взглядом с девицей, побелевшей от волнения, наконец, сделал знак охоронцу, и их вместе отвели к тем рабам, что столпились с правой руки.
Весь отобранный живой товар повели к морю. После долгого стояния на уже ставшем набирать жаркую силу солнце им повелели взойти по шатким мосткам на две лодьи. После погрузки товара, суда вышли из залива и стали удаляться от берега.
– А куда мы плывём? – тихим голосом спросил Калинка. Он впервые в жизни оказался на такой большой лодье и увидел отдаляющийся берег со стороны моря. А Звенислава молчала, потому что сердце зашлось такой тоской и печалью, что она не могла вымолвить ни слова, только крепче прижимала к себе худенькое тельце в рваной и грязной рубашонке и гладила давно нечёсаную голову мальца. В отличие от него, она остро ощутила, что, может, больше никогда не увидит родной земли, синевы моря за белыми скалами, и никого из родных и близких людей, кроме этого искалеченного ради прихоти и купеческой выгоды юного существа, роднее которого отныне нет никого. Свежий морской ветер холодил тело, но не дарил облегчения, дышать стало совсем тяжко, будто крепкими обручами сковало грудь. Она глядела на уходящую вдаль землю, но видела её теперь размытой сквозь пелену горячих слёз. Простое слово «никогда» вдруг предстало во всей своей ясной и страшной сути: ни-ког-да – это значит без единой надежды на когда-нибудь! В очах потемнело, ноги подкосились и, чтобы не рухнуть на настил, она с трудом, медленно села.
– Что с тобой? – сквозь набежавшую на сознание черноту пробились встревоженные детские всхлипы. – Не умирай, только не умирай, я без тебя тоже умру – тихо причитал малец, прижимаясь мокрыми от слёз ланитами к её груди. – Не бросай меня, слышишь, Звенислава…
Сознание медленно возвращалось, полонянка ощутила свежий морской ветер на челе и доверчиво свернувшееся рядом комочком тело Калинки. Берег виднелся слева в сизой дымке, и нигде не было видно второго корабля с рабами.
– Лодья туда ушла, – заметив её ищущий взгляд, указала одна из девиц. «Значит, попади мы на разные суда, – мелькнуло у юной полонянки, – то навсегда удалялись бы теперь друг от друга»…
Их путь в неизвестность был долгим. Плыли на полночь, потом на полуночный восход, а потом и вовсе покинули море, войдя в реку. Вверх по реке взрослые рабы и лодейщики тащили лодью, а потом ещё перетаскивали волоком на катках, пока не спустили в большую и широкую реку. Всё время тяжкой работы кормили их плохо, пленники исхудали, одежда их вовсе изветшала. Но после переволока и спуска на воды необычайно широкой реки всё изменилось. Теперь лодья шла по течению, тащить её не было нужды. Кормить их стали лучше. Рыбы в большой реке было столь много, что рыбаки брали для продажи только лучшую, а остальную выбрасывали обратно, или за сущий бесценок продавали на корм скоту, если случался покупатель. Таким покупателем и стал их купец-жидовин. Отъедаясь на жирной юшке и варёной рыбе, безо всякой работы, пленники быстро приходили в себя, становились справными. На бесчисленных островках и в заводях водилось столько различных птиц, что их стаи затмевали собой солнце, многих тавро-русы видывали впервые. Даже несчастный Калинка ожил и своими синими, округлившимися от удивления очами глядел на эти чудеса и на время забывал о своей горькой участи. После узких рукавов и проток лодья вновь вырвалась на настоящий морской простор. Когда на едва различимом с правой стороны берегу показались синие горы, старый торговец принялся ещё раз осматривать каждого раба, что-то прикидывая и бормоча на своём языке, и все почувствовали, что это означает скорый конец путешествия в неизвестную землю, от которой рабам вряд ли стоило ожидать чего-то хорошего. Но человек устроен так, что всегда надеется на лучшее. Большинство из них, пройдя через смерть близких, разлуку с родиной, унижение и мерзость неволи, почти примирились со своей участью и теперь мечтали, чтобы тот новый хозяин, который их купит, был лучше и добрее прежнего.
Глава четвёртая
Потворник
Ранним утром, спустившись к небольшой реке, волхв Хорыга со своим потворником – крепким отроком лет четырнадцати – прошли к старой деревянной баньке-мовнице, срубленной прямо на берегу, чтобы далеко не таскать воду. А воды требовалось изрядно, поскольку в сей мовнице не только парились сами, но и лечили людей. Пройдя по небольшому мостку, волхв с отроком привычно совершили омовение. Затем отрок взял прислонённое к стенке мовницы бревно в простую сажень длиной и принялся приседать с ним, поднимать, вертеть в руках, наклоняться и подкидывать его вверх. Тут же лежало несколько больших и малых каменьев для разных управ, которые развивают силу и ловкость. Пять лет тому он мальцом начал делать эти управы вместе с отцом Хорыгой.
Закончив с управами и встретив восход животворящего Солнца, простлавшего по воде золотисто-розовую дорожку, отрок, разоблачившись, легко пробежал по толстому бревну, лежавшему одним концом на берегу и зажатому с двух сторон забитыми в берег кольями, а другим концом на скрещённых жердях, вбитых в песчаное дно. Взмахнув руками и, подобно птице, взвившись в утренний свежий воздух, через мгновение он почти без всплеска вонзился в розовую плоть курящейся туманом реки. Отрок долго плыл под водой, наслаждаясь её тихой и упругой стихией. Потом, с шумом вынырнув средь разлитых по воде багрянцев рождающегося дня, он быстро поплыл, впитывая крепким молодым телом первые лучи восходящего светила и мягкую податливость воды. Вместе с телом мощь воды и солнца наполнила радостью и чаровной силой сердце и самую душу. Оказавшись на берегу, юный потворник несколько раз «поиграл» силой, подаренной ему Водяным и Хорсом, посылая её то от рук к ногам, то из чрева сразу во все конечности и, одевшись, присоединился к учителю. Они заторопились обратно к своей лесной избушке, стоящей на небольшой полянке среди дубов, сосен и диких груш, в сотне шагов от реки.
Здесь, разделив промеж собой нехитрую снедь, волхв и его потворник, что у кудесников значит помощник, владеющий уже целительской наукой настолько, что может сам творить кое-какую волшбу и помогать при лечёбе целителю, принялись за прерванное со вчера дело. Они стали готовить и укладывать в холщовый мешок древние свитки из бересты и кожи, а также связки дощечек, тщательно перекладывая их сухими травами, чтобы ни грызуны, ни древоточцы не могли причинить урона бесценным письменам. В избушке стоял густой горько-пряный дух пижмы, донника, хвои и иных трав, что отпугивают вредителей.
– Прости отче, но мыслю, зря ты с людьми княжескими повздорил, когда мы в Киев ходили, беду накликать недолго, – рассудительно, незаметно для себя подлаживаясь под манеру и голос старого волхва, молвил его основательный ученик.
– Эх, брат Дубок, не можно уже терпеть, когда самую душу древнюю из народа принудительно изымают. Ежели все молчать будут, так и Русь вся под Визанщину ляжет! – С горечью ответил кудесник, не прекращая работы.
– Добре, что люди нас от княжеских воев защитили, стеной стали, а потом вывели с торжища задворками, иначе могли нас там и прикончить, – озабоченно продолжал Дубок, тщательно оборачивая две связки дощечек чистой холстиной и помещая их в мешок.
– Нет, сыне, они не так глупы, прилюдно казнить не станут, хоть сила у них, да всё одно народа боятся, – заметил волхв, задумчиво глядя на работу своего помощника. – Видишь, как оно всё не по-божески складывается, – то хазары пришли, народ обирали и били, требуя побольше дани; то Аскольд явился с варягами и нурманами, хазар прогнал, да потом с визанцами сдружился, князя Дира убил, а народ киевский в чужую веру силком тянет. Беда, кругом беда Руси приспела, и нет силы, кому против сей беды народ собрать и направить. Я вот от варягов с Новгородчины ушёл, так они, на тебе, тут объявились, неподобства творят. Ладно бы Аскольд с дружинниками да торговцами сами крестились, то их дело, народ-то почто в веру чужинскую загонять? Кудесников византийских привёз и власть им полную дал. Оттого и не сдержался я. Потому, про всякий случай, письмена древние надо подальше запрятать, чтоб только мы с тобой знали.
– Большую-то часть мы вчера снесли, последняя осталась, – желая хоть чем-то ободрить учителя, молвил Дубок. – Трав бы ещё добавить, – заметил он.
– Слазай на горище над мовницей, там чернобыльник уже должен был высохнуть.
– Добре, отче, я мигом! – и потворник, подхватив суму для трав, вышел из жилища.
«А ведь как повзрослеет, да в силу войдёт, то и вовсе богатырь будет», – с гордостью сам себе проговорил кудесник, глядя вослед крепкой стати ученика. Мысли сами собой вернулись к той их случайной встрече, хотя Хорыга, как и любой волхв, в случайности не верил, но разумел их, как знаки божеские, которые только понять надобно.
Он проходил тогда по небольшой веси и на околице узрел дерущихся мальцов, лет от девяти до тринадцати. Причём бились четверо против одного, и хоть был тот один уже в кровоподтёках и ссадинах, и ростом поменьше, но, утирая руду из разбитого носа, не сдавался и не убегал прочь. Крепкий как кряж малец упорно сопротивлялся, даже когда его гурьбой свалили наземь.
Рассерженный волхв стукнул оземь своим посохом и так рыкнул на драчунов, что они, как горох, рассыпались в стороны и сторожко замерли у кустов.
– А ну, прекратить свару, хазарские дети! – грозно насупил кудесник брови.
– Мы не хазарские дети, – ответствовал старший, с расцарапанной щекой и подбитым оком.
– Как не хазарские, коли вчетвером на одного навалились, разве неведомо вам, что сие не по прави? – промолвил волхв с такой укоризной в голосе, что мальцы потупились.
– Так он нашего пса забрал и не отдавал, – молвил средний, потирая шишку на лбу.
– Потому забрал, – подал, наконец, голос тот, кого били, с трудом шевеля разбитыми в кровь устами, – что вы в него хотели из лука стрелять.
Будто чуя, что говорят про него, к мальцу подошёл чёрный с рыжими подпалинами на боках щенок с обрывком пеньковой верви на худой шее.
Хорыга спросил мальца о родителях.
– А тебе-то что? – с некоторым вызовом ответил малец, привлёкши к себе щенка и стараясь ещё дрожащими после схватки руками развязать узел верви.
– Его отец с дерева сорвался, хребет повредил, с ложа не встаёт, – молвил кто-то из недавних соперников.
– А тебя кто за язык дёргает? – явно озлился на него малец и уже опять готов был вступить в драку.
– Ну, будет, будет, – успокоил их волхв. – А не угостит ли меня твоя матушка квасом, что-то в горле пересохло, – обратился он к мальцу. – Как зовут-то тебя, воитель? – спросил старик по дороге.
– Дробком кличут, – нехотя отвечал тот, поглядывая на бездомного щенка, что осторожно трусил рядом со своим отчаянным спасителем.
– Опять что-то утворил? – испуганно всплеснула руками мать, узрев изорванную, в бурых пятнах рубаху, припухшие уста и ссадины на лике сына. А когда следом в дом вошёл незнакомый старец с волховским посохом, то и вовсе обомлела от страха.
– Здрава будь, хозяйка, ничего худого с твоим сыном не стряслось. К тому же он рёк, что такого квасу медового, как его мать делает, я более нигде не испробую.
– Квасу, какого квасу? – растеряно переспросила огнищанка. Потом с явным облегчением махнула крепкой, привыкшей к любому труду рукой. – Так квасу… да, у меня есть. – Она засуетилась с посудой, а потом, сунув в руки сына большую глиняную крынку, велела ему сбегать в погреб.
Когда молчаливый отрок вернулся в дом с крынкой, доверху наполненной холодным квасом, то застал мать сидящей за столом с незнакомцем, они о чём-то негромко беседовали. Воспользовавшись этим, Дробок тихо ускользнул, чтобы умыться в ручье и попробовать отстирать с рубахи кровь-руду, пока она ещё свежа. Но вскоре за ним прибежала младшая сестрёнка и сказала, чтоб он быстро шёл домой. Оказалось, что его случайный избавитель, отставив посох, оглядывает спину отца, который после падения с сосны и удара о корягу потерял силу в ногах и не мог ходить.
– А ну-ка, сыне, придержи отца, вот так, а теперь так, а теперь давай с тобой осторожно его перевернём на бок, вот так, добре, – неспешно приговаривал гость, осматривая хворого.
– После того как Брячеслав упал, мы знахаря позвали, он сказал, что коли начать кости ему править, то может беда случиться, и он вовсе помрёт, – всхлипывая и вытирая очи концом головного повоя, рекла огнищанка. – Два лета уже так лежит. На Дробка теперь столько забот легло, и по хозяйству, и вместо Брячеслава товар купцам в Киев возит, кули тяжёлые им таскает…
– Ничего, хозяйка, всё будет ладно, а сын у тебя не Дробок, а настоящий Дубок! – одобрительно проговорил волхв, ощупывая перстами хребет хворого. – Всё верно ваш знахарь растолковал, – молвил он, – коли чуть ошибётся костоправ, плевра, в которой спинной мозг заключён, повредиться может, и он вытечет, как жир из дырявого кувшина.
Почти седмицу пробыл у огнищан волхв Хорыга. Через день топил Дубок мовницу, но не до удушливой нестерпимой жары, а так, как велел кудесник, в четверть обычного, чтоб у лежащего в мовнице отца появлялись на теле только крупные капли пота, после чего звал кудесника, и тот начинал свою волшбу. Дубок при этом прилежно выполнял всё, что тот ему велел. Поворачивал отца то на спину, то на живот, придерживал его тело там, где говорил Хорыга.
– Давай-ка, пробуй сам, ничего особо хитрого тут нет, – ободряюще говорил отроку старик. – Кладёшь три перста хворому на хребет и ведёшь сверху вниз. Коли какая косточка от общего порядка ушла, ты боковыми перстами почуешь, а коли вдавилась или наоборот выше других торчит, то средний из трёх твоих перстов о том подскажет.
– Так ведь темно в мовнице, видно плохо, – нерешительно возражал отрок.
– А тебе видеть и не надо, ты перстами чуять должен да сердцем своим. Персты-то научить чувствительности можно, для того особые управы есть, а вот сердцем зреть сложнее, дар божий нужен, который тоже, конечно, растить и холить надобно каждодневным трудом. А у тебя сердце доброе, к тому ж хворый – отец твой, так что всё у тебя получится, – уверял кудесник.
– Вот тут, ниже лопаток, кажись, одесную ушла кость, – не совсем уверенно молвил отрок. – А тут, ого, одна торчит выше всех в ряду, а эта вниз ушла в тело, будто решила за соседними спрятаться…
– Верно, молодца, будет толк у тебя в волшбе, будет! – довольно и, как показалось, с облегчением, молвил кудесник.
– А как исцелить сии сдвиги, как, скажем, вытащить ту косточку хребтовую, что под другие почти спряталась?
– А вот это мы сейчас и будем сотворять, только помалу и со всем тщанием, – и кудесник с каким-то еле заметным трепетанием перстов, похожим на мелкую дрожь, принимался ладить косточки.
Через седмицу бортник встал и, опираясь на сына и волхва, проковылял первые несколько шагов своими непослушными ещё ногами. Жена плакала от радости, привычно утирая слёзы краем повоя.
– Ну вот, брат Брячеслав, будешь через месяц-другой снова по деревьям лазать, только вдругорядь будь осторожен и спину крепи управами, какие я тебе показал, – наставлял бортника кудесник.
– Отче Хорыга, реки, чем могу я отплатить тебе за чудо свершённое, ведь мои ноги есть жизнь и благополучие всей семьи, – дрожащим от волнения голосом вопрошал огнищанин, опираясь на выструганные сыном берёзовые рогатины.
– Я силою Хорса и Даждьбога исцеление творю, а разве за свет солнечный мы платить кому-то обязаны? Богам нашим понимание да уважение нужно, как и любому родителю. Чтить богов, силу и жизнь нам даровавших, жить достойно, чистотой тела и души к ним приближаясь, – в том и вся плата, брат Брячеслав, – похлопал по широким плечам бортника волхв. Потом взглянул на Дробка, которого называл Дубком, и молвил растроганному огнищанину. – А из сына твоего знатный костоправ выйдет, да и не только костоправ, коли учиться будет.
– То доброе дело, людей на ноги ставить, – согласно кивнул головой отец, – только кто же его в ученье возьмёт?
– Так я и возьму, – ответил кудесник, – коль родители согласны.
– А я не хочу костоправом быть! – Упрямо насупившись, молвил отрок. – Я воином буду, драться у меня лепше других получается, даже ребят старше себя поколотить могу, я сильный!
– Верно речёшь, – молвил Хорыга, – только тебе, кроме силы воинской, ещё и силу кудесную боги даровали, сердце чуткое да помыслы чистые. Какая стезя более подойдёт, тебе самому решать, однако её опробовать надо. Да и в воинском деле, кто ж руду кровь соратнику остановит, рану затворит, кость сломанную сложит, чтоб правильно срослась, кто выбитый сустав на место поставит, кто на ворога морок наведёт, чтоб дать сотоварищам уйти в трудный час? Только тот, брат Дубок, кто волховскую науку усвоил, то-то же. А воинские управы я сам люблю и по возможности их сотворяю.
Малец недоверчиво глянул на Хорыгу: разве может кудесник быть воином?
Видя его сомнения, Хорыга подошёл ближе и предложил толкнуть себя. Дробок усмехнулся и толкнул старика, но не шибко, как бы жалея его. Кудесник даже не шелохнулся. Тогда Дробок толкнул сильнее, – старик остался стоять, как ни в чём не бывало, зато Дробка отбросило на шаг неведомой силой. Малец осерчал, и, уже не обращая ни на кого внимания, напустился на Хорыгу как молодой упрямый бычок, но…отлетел назад, зацепился за корневище и едва не упал.
– А теперь я тебя легонько толкну, держись! – спокойно молвил Хорыга и безо всякого напряжения едва коснулся перстами Дробка, которого тут же отбросило так, что на этот раз он на ногах не удержался и растянулся на траве.
Тогда и услышал слова волхва, которые запомнил навсегда: «Твоя слабость в твоей силе, сынок».
Вначале он не понял, как может быть слабостью сила, которая его столько раз выручала.
– Как же так, отче, что же я – зря столько времени свою силу растил, выходит, нет нужды тело укреплять?! – совсем сбитый с толку воскликнул ученик.
– Отчего же зря, тело, как и разум, нам богами даны, и мы о них заботиться должны. Мало добрую свирель иметь, надобно ещё и играть на ней научиться, иначе от самой лучшей никакого проку ни тебе, ни людям не будет. Мышцы завсегда с разумом, да ещё и с душой твоей в ладу должны быть.
Малец растерянно перевёл взор на отца, который, глядя на сие действо, впервые рассмеялся.
– Ступай с волхвом, сынок, – молвил Брячеслав. – Я теперь с новой силой за дела прежние возьмусь, чую, как она прибывает во мне, будто вода вешняя. А тебе учиться надобно, глядишь, и нужным всем человеком станешь, порадуешь и нас, и богов светлых.
Вот так нежданно-негаданно появился у волхва Хорыги ученик, – крепкий да ладный, немногословный, с доброй открытой душой и чутким сердцем. И принялся отец Хорыга бережно записывать на той чистой поверхности, как на белой бересте, древние знания, хранящие душу и память Руси.
Скрипнувшая дверь вернула волхва из марева воспоминаний. Дубок выложил на стол серебристые стебли чернобыльника, и новая волна крепкого травяного духа разнеслась по жилищу. Юноша принялся добавлять принесённую траву в мешок с дощечками, и тут оба услышали стрекотанье сороки. Ей ответила другая, защебетали прочие птахи.
– Никак, идёт кто? – встревожился Хорыга.
Волхв с учеником вышли из избушки и сразу узрели на узкой лесной просеке воз, запряжённый одной лошадью, и двоих людей в огнищанской одежде, идущих подле. На возу недвижно лежал человек.
– Хворого везут, – озабоченно молвил отец Хорыга.
Они подождали, пока подъедут огнищане. Поздоровавшись, кудесник первым делом подошёл к хворому, вполуха слушая жалобные просьбы его родичей о помощи. Бледный желтоватый лик, закрытые очи и прерывистое дыхание сразу указали на тяжкий случай.
– Вот что, не снимайте его пока с телеги, повезём прямо в мовницу, – принялся распоряжаться кудесник. – А ты, Дубок, – повернулся он к ученику, – ступай по нашим делам.
– Так если хворый тяжкий, может, мне остаться помогать тебе, отче?
– Ничего, я справлюсь, тут целых два помощника, всё сделают. – А ты иди, сынок, иди. – И кудесник заторопился к огнищанам. Дубок вернулся в избушку, уложил последнюю деревянную книгу в мешок, вскинул его за спину, поправил лямку на плече и углубился в лес.
– Вот зачем волхву крепкие ноги да сильные плечи, очень пригождаются иногда, – вслух проговорил отрок, садясь под старым дубом на его корневище, торчащее узлом из земли, и смиряя дыхание, сбившееся от бега и быстрой ходьбы по малохоженым тропам. – Всё, нужно идти, немного уже осталось! Нужно скорее упрятать книги в тайник, а потом идти на помощь старому волхву, он ведь обычно после лечёбы тяжёлого хворого едва на ногах стоит. – Отрок, с трудом разогнув уставшие ноги, поднялся, поправил мешок за спиной и двинулся дальше.
Вот и тайное место. Удостоверившись, что всё ладно, отрок убрал сухие жердины и проскользнул в схрон. Бережно переложил свою ношу на полку из жердей и, бегло проверив, в порядке ли остальные свитки и дощки, щедро посыпал полки принесёнными вместе с книгами сухими душистыми травами. «Добре, теперь ни древоточцы, ни грызуны долго сюда не пожалуют»! Выйдя наружу, опять замаскировал вход в пещеру, незаметный среди кустарника и редкого сухостоя. Для верности свершил над тайником заклятье, чтобы никто чужой не смог сюда войти.
Теперь поскорей назад. Но едва юноша отошёл на десяток шагов, как услышал то, чего никак не ожидал. Может, почудилось? Нет, в самом деле, его острый слух различил средь шума дерев и птичьего щебета собачий лай. Это ещё что за чудо, тут волки ходят, а собака откуда?
Нехорошее предчувствие остро пронзило тело.
Может, охотник какой поблизости с собакой бродит? – ещё сомневался разум. Но подсознательное чутьё уже знало: собака идёт именно по его следу. Отрок бросился бежать, стараясь уйти подальше от бесценного схрона.
«Коли собаку по твою душу пустили, то оплошал ты, Дубок, надо было следы особой травой присыпать, что нюх собаке отбивает, а теперь-то что делать?» – горько укорял себя отрок, лихорадочно соображая на бегу. Как ни торопился, а собака быстрее, уже совсем близко слышен остервенелый лай и хриплое рычание. Ещё миг – и раззадоренный погоней пёс ухватит сзади за ногу… Дубок на ходу мельком глянул на руки: его силе всегда дивились, и даже трём сверстникам нелегко было сладить с ним одним, а уж собаку… «Твоя слабость в силе, – вдруг прозвучали слова Хорыги. – Волховская мощь в разуме, а не в кулаках»…
Всё произошло неожиданно даже для самого отрока. Он высоко подпрыгнул, как кузнечик, и вместо ноги беглеца пасть крупного лохматого пса «схватила» воздух, громко щёлкнув зубами. В тот же миг перед изумлённым животным возникло огромное неведомое существо, – тёмно-коричневое, чешуйчатое, с влажной разинутой пастью, полной страшных загнутых жёлтых зубов. Чудище злобно зарычало, воздев две когтистых лапы, и бедная псина всем своим чутьём уловила мысль ужасного зверя разорвать её на куски, первым делом перекусив огромными челюстями хребет, как рыбью косточку…
Отрок, сам не ожидавший такого исхода дела, увидел лишь, как лохматая живая молния мелькнула и пропала в зарослях. Только визг её, похожий больше на истошный человеческий вопль, продолжал разноситься окрест, постепенно затухая в лесных зарослях. Теперь нужно приготовиться к встрече тех, кто идёт за ищейкой. Отрок, оглядевшись, подошёл к разлапистой сосне и тесно прислонился к ней спиной.
Три мужа шли по едва различимой звериной тропе, придирчиво оглядывая каждую сломанную ветку.
– Сколько живу на свете, – растерянно рёк один с заметным нурманским выговором, – но не видел, чтоб собака могла так быстро бегать, пронеслась мимо нас, едва с ног не сшибла!
– Хазарка явно не в себе, визжит, будто кто его беспрестанно стегает плетью-семихвосткой, – отозвался молодой.
– Недоброе дело задумал князь, с волхвами воевать, ох, недоброе. Никого мы не сыщем, ещё и сами, как наш пёс, умом тронемся, истинно вам реку… – негромко ворчал пожилой воин, явно из киян. – Всё, далее никаких следов нет, – остановился он. – Будто сквозь землю сей отрок провалился или в камень обернулся.
– Лишь бы он нас в камень не обернул, – с опаской молвил молодой и, на всякий случай, трижды перекрестился, оглядываясь по сторонам и держа наготове небольшой лук. Его сотоварищи тоже сторожко оглядывались вокруг, сжимая в руках, один – боевой топор, а другой кинжал.
– Что-то тяжко мне, в голове давит и в чреве как-то нехорошо, – молвил старший.
– А мне чудится, будто кто глядит пристально, словно буравит очами. Уходить надо, – зашептал молодой и отступил назад на несколько шагов. – Недобро тут, ой, недобро!
Вслед за ним попятились, не выпуская из рук оружия, и двое его сотоварищей.
– А что Зигурду скажем? Он нас плетьми выпорет за то, что наказ не исполнили, – засомневался нурман.
– Да за что пороть-то, ну пропал отрок, лес большой, а Хазарка сбёг, – зачастил молодой.
– Этот тоже колдун небось, хоть и малой ещё, ну его к лешему! – выдохнул киянин. – Пошли!
И они с видимым облегчением устремились в обратный путь, сторожко озираясь по сторонам.
Ученик волхва разрешил, наконец, себе вспомнить, что он не сосна с шероховатой, тёплой от солнечных лучей корой, а человек, медленно возвращаясь в свой привычный облик. Вот он отделился от ствола старой сосны, что возвышалась напротив большого плоского камня, на котором ещё недавно стояли трое воинов. Медленно опустился на траву, одеревенение тела сменилось слабостью. Всё-таки второй образ за короткое время – это трудно. Пошевелил пальцами, прислушался к себе и одновременно звукам вокруг, от пальцев ног по всему телу к пальцам рук прогнал невидимую волну, настраивая тело на звуки леса. Погоняв туда-сюда волну по телу, встал, сильнее пустил волну из чрева, уже видимую, прошёлся ею по рукам, ногам и хребту. Одеревенение ушло, и он опять стал прежним собой. Вынул из дупла свою рубаху, положенную туда, прежде чем «стать деревом», накинул её плавным волнообразным движением, и неслышным кошачьим шагом направился вослед ушедшим. Движения его ускорялись как бы сами собой, и вот он уже перешёл на лёгкий почти неслышный бег, уклоняясь на ходу от ветвей, перепрыгивая через корневища, проскальзывая ужом сквозь кустарник, как бегали они с отцом Хорыгой, когда вместе занимались воинскими управами.
«Откуда в лесу взялись воины, да ещё с ищейкой? – Мучила тревожная мысль. «Недоброе дело задумал князь, с волхвами воевать…» – не выходили из головы слова одного из них. «С волхвами воевать… воевать… Скорее, скорее назад!» – билось в висках юного потворника.
Согнувшись под дверным косяком старой, будто вросшей в берег мовницы, Хорыга вышел и обессилено уселся на выступающее из сруба бревно со стёсанным – для удобства сидения – верхом. Внутри ещё всё трепетало после тяжкой лечёбы, слегка подташнивало, голова гудела, что медное било, а в коленях ощущалась противная слабость. Целитель встал, держась за сруб десницей, потом медленно побрёл к реке, протекавшей в нескольких шагах. Умывшись, почувствовал себя немного лучше, но противная слабость осталась в членах. Родичи хворого уже суетились вокруг него, под руки выводя из узкой и низкой двери мовницы.
На выступающее бревно-скамью огнищане поставили узел с едой и одеждой в благодарность за излечение, но Хорыга только рукой махнул и предупредил, чтобы хворый ничего не ел три дня, только пил, а потом осторожно начинал с малого, сдерживая желание наесться.
– Помните, коли нарушите, что сказано, болезнь может вернуться! – строго рёк им на прощанье волхв, усаживаясь на бревно рядом с оставленными дарами.
Вот уже и скрипучий звук воза затих в лесу. Хорыга, уйдя в себя, принялся, как обычно после трудного лечения, «чистить» своё тело, постепенно проходя по нему, как по своей лесной избушке: выметая сор, пыль и липкую грязь чужой хвори и немощи. А как же иначе, – только восприняв чужую хворь, как свою, можно всецело понять её и справиться с ней. Только тяжко что-то нынче, никак не удаётся изгнать немощь. Жаждущему отдыха разуму не даёт покоя какая-то неясная тревога, пробивающаяся извне, будто холодный сквозняк сквозь частые щели в худую избу.
Того, что ринулся на него с топором из-за угла мовницы, кудесник едва успел привычным выплеском силы из чрева, пропущенной через руку, отвести чуток в сторону, развернуть вкруг и перехватить топор другой рукой. Далее уже действовал, как обычный воин, – силы волховской у него осталось слишком мало. Ногой толкнул стоявшее под стеной мовницы бревно, чтобы перекрыть путь второму воину, а третьего встретил молниеносным взмахом топора. Продолжая движение по дуге, сразил своим оружием того, который споткнулся о брошенное бревно, с удивлением узнав в нём недавнего «родственника хворого». На долю мига замешкавшись, Хорыга повернулся к тому, у кого отнял топор, и тут почуял, как под левую лопатку остро и глубоко вошло жало сулицы. Руки кудесника ослабели, удар топора по плечу он уже ощутил тупо, как будто секли совсем не его тело. Последней догадкой, когда уже отделялся от своего распростёртого на траве тела, был ясно возникший образ, как помощник Аскольда повелевает своему человеку найти тяжёлого больного и свезти его к дерзкому волхву по имени Хорыга…
Тропа разделилась. Потворник заколебался на мгновение, – разум твердил, что надо идти к избушке, ведь лечёба уже закончена, и кудесник, наверное, отдыхает; а ноги сами несли в противоположную сторону. Дубок со всех ног помчался к реке, словно боясь опоздать.
Он выбежал к мовнице на берегу и первое, что увидел около старого сруба – это недвижно распростёртое тело отца Хорыги. Дальше лежали ещё двое мёртвых – один в огнищанской одежде. Слёзы сами собой хлынули из очей отрока. Он бросился к учителю. В груди старого волхва зияла рубленая рана, правое плечо и бок тоже были изрублены, рядом лежал топор, а земля вокруг была истоптана и щедро обагрена кровью. Кровь была и на бревне, которое Дубок использовал в воинских управах. Обычно оно было прислонено к стене мовницы так, чтобы на него не попадал дождь.
– Вот и подручный старого колдуна вернулся, а то бегай за ним по лесам, – услыхал сзади себя издевательски-довольный голос отрок и, обернувшись, в расплывчатом тумане слёз, в нескольких шагах перед собой узрел тех троих, что шли за ним по следу. Тут же из-за мовницы выехали два незамеченных им ранее всадника.
Горе от потери родного человека и порождённая им ярость выплеснулись в отчаянный, похожий на вой ночного зверя крик. Способность действовать телом быстрее, чем мыслью, снова спасла потворника. Он гибкой волной простёрся над истоптанной землёй, подхватил своё бревно и, не останавливая движения, бросил в стоящего одесную усатого, который едва успел уклониться от необычного «метательного орудия» и выставить свой кинжал. Но Дубок нежданно для воина прянул не на него, а в сторону, и, выбросив вперёд обе руки, «рыбкой» пролетел под брюхом коня, на котором подскочил один из воинов, и, коснувшись травы, живым клубком покатился по ней. Испуганный конь прянул вбок, а юноша помчался по берегу реки, которая благодаря старой, но ещё достаточно прочной деревянной плотине, видимо построенной бобрами, разливалась здесь, образовывая озерцо. Всадники с воинами ринулись вдогонку, молодой выстрелил из лука, но ученик волхва успел пробежать по бревну, что одним концом покоилось на берегу, а другим – на козелке из жердей, образуя мосток, и, снова выбросив руки вперёд, нырнул в воду. Воины остановились. Подбежавший молодой быстро извлёк и вложил в тетиву лука вторую стрелу, приготовившись к стрельбе, как только в воде появится голова отчаянного беглеца. Но мгновенья пролетали, а отрок всё не появлялся.
– Куда он подевался, может, утоп? – озадаченно спросил один из воинов.
В это время показались трое всадников во главе с десятником, – они возвращались от избушки волхва, в которой производили сыск.
Воины рассказали ему про молодого колдуна, который вернулся, а потом, видно, от горя утопился.
– Ладно, скоро стемнеет, в Киев пора возвращаться, – озабоченно молвил десятник. – Про отрока сего никому ни слова. Нам велено было старого чародея кончить, про молодого разговора не было, а небыль, как говорится, на быль не повесишь. Добро ещё, Зигурд озаботился, чтоб тяжёлого больного привезти, при лечении таких колдуны на время силу свою теряют.
– Ага, коли он в немощи двоих добрых воев порешил, то что бы с нами сотворил, будь в силе своей колдовской, – с опаской в голосе молвил пожилой воин с киевским выговором.
– Всё, быстрее отсюда! Надо засветло из этого проклятого леса выйти. Вы трое, – десятник указал на тех, что шли по следу отрока, – заберёте Будилу и Иггельда, в Киев доставим, они по христианскому обряду схоронены должны быть.
– А волхва, может, тоже утопим? – предложил кто-то.
– Ещё возиться с ним, – фыркнул десятник. – И так звери сожрут. Только амулет колдовской с него снимите, Зигурду передадим.
Дубок сразу пронырнул, как делал каждое утро при омовении, к плотине и вынырнул в бывшей бобровой хатке. Сквозь сплетение сучьев и ветвей он наблюдал за убийцами, слушал их речи, пока они не покинули берег реки. Без единого всплеска переплыл отрок снова к мостку, взобрался на него, чутко ловя все привычные звуки родного леса. Сейчас он выкрутит порты и рубаху и пойдёт вслед за убийцами отца Хорыги. Они должны непременно поплатиться за то, что свершили. Как бы в раздумье он дважды вынул и вновь вставил в ножны свой нож, с которым почти никогда не расставался, – то гриб срезать, чтобы не повредить грибницу, то корень выкопать, то бересту добрую для туеска или для писания добыть, – много для чего в лесной жизни нож необходим. Но теперь для него есть задача, которую Дубок ещё никогда не совершал в своей жизни. Как лепше поступить? Навести на убийц оману и заставить их бродить до утра кругами по ночному лесу, подкрадываясь и убивая по одному? Он это сможет, и убить без единого звука, даже если нет оружия, он тоже, наверное, в состоянии, ведь одними и теми же волнами-трепетами можно излечить человека, а можно и убить. Потом вернуться и схоронить отца Хорыгу, или сжечь на великом кострище, как правильней?
– Отче, я сейчас пойду и покараю твоих убийц… – тихо прошептал отрок.
– Ни обо мне, и ни о себе ты думать не должен, а о книгах бесценных, о мудрости, волхвами многие века сберегаемой мыслить обязан, вот о чём! – вдруг будто в яви услышал он голос старого Хорыги. – Дороже наших жизней те знания, что заключены в древних книгах и свитках. Они суть – связующая нить тысячелетней мудрости волховской. Теперь только ты один о них ведаешь и можешь людям передать. А с убийцами Дивы лесные разберутся, их жалкие жизни не стоят и одного листка тех бесценных письмен…
Потворник замер: не услышит ли он ещё голоса наставника из Нави. Но всё было тихо, только ночные птицы подавали свои голоса или шуршали лесные обитатели в травах и кустах. И вдруг перед затуманенным взором привиделось, как утром из ближней веси приходит женщина с корзинкой и застаёт отца Хорыгу мёртвым. Забыв о корзинке с дарами, она с плачем бежит обратно, потом приходят люди, и с почестями сжигают тело старого волхва на большом кострище.
– Уразумел, отче, прости за необдуманное, – снова прошептал потворник и бесшумным шагом двинулся вдоль плотины. Пройдя её, в зарослях рогоза в сгустившейся темноте не сразу отыскал малую лодчонку. Загребая небольшим веслом, он поплыл по течению, чтобы избежать возможности новой встречи с княжескими воинами.
С самого пробуждения день был каким-то особенным. Гроза проснулся, как всегда, на рассвете, но шевелиться не хотелось, тело было ещё расслаблено и пребывало там, в ночных грёзах. Во сне он снова видел дом, родителей, братьев и сестёр. Они с Калинкой, как в детстве, играли в прятки, и младший смеялся заливисто и счастливо. Потом появилась Звенислава и почему-то, как мать, молча гладила его по голове. И от этого присутствия и прикосновения на душе было так хорошо, до дрожи, что на очах выступили слёзы, хотелось подольше растянуть эти мгновения до пробуждения в явь. Пастух поворочался на своём ложе из травы, выпростался из-под бараньих шкур и услышал первые голоса птиц, уже начавших приветствовать божественное светило, дарующее жизнь всем, – от мелкой, почти невидимой глазу букашки, до огромных дерев, как тот Священный Дуб, который срубил греческий философ Иллар.
Открыв очи, Гроза узрел первые лучи солнца, пробившиеся сквозь утренний туман и редкую крону сосны, под которой он ночевал. Может, благодаря чудному сну, сегодня все чувства были обострены, и пробуждающийся божий мир ощущался как-то по-особому ярко и зримо. Первой птицей, которую он увидел в небе прямо над собой, был огромный ворон. Гроза не знал, тот ли это старый знакомый, который жил близ их селения, или другой, но такой же вещий и мудрый.
– Здрав будь, старина, что ты решил мне поведать, коль явился первым? Может, смерть близко ходит, что ж, благодарствую за напоминание, буду осторожен, мне пока помирать никак нельзя.
Пастух потянул в себя свежий горный воздух, ощущая, как чистой струёй потёк он по телу от головы до кончиков пальцев, насыщая каждую клеточку благодатной силой жизни. Одновременно он чуял, как то же самое происходит вокруг: как солнечные лучи будят и насыщают каждую травинку, согревают поверхность молчаливых камней и стволы тысячелетних можжевельников, и они раскрываются навстречу новому дню. Искривлённая сосна, предоставившая ему ночное убежище, цепко ухватившаяся корнями за каменные расщелины, тоже вдохнула этот живой свет и заискрилась на солнце капельками смолы.
Гроза снова прикрыл очи, чтобы во вздохе единого пробуждения теснее слиться с сосной, камнями, клубами тающего утреннего тумана, просыпающимися птахами и зверями. Сегодня у него это получилось очень здорово, давно так не было! Он почувствовал себя огромным и невесомым, частицей одновременно всего сущего. И услышал, как где-то вдалеке по его каменной груди, пугая чутких птиц и животных, движется отряд верховых, как сторожко идут всадники, озираясь по сторонам. Этот путь опасен, но короток, и жители долины обычно не ожидают нападения со стороны гор.
Ощущение было кратким, но явственным, как и нынешний сон. Сердце Грозы забилось одновременно в радостном и тревожном предчувствии. Кажется, сегодня будет охота! С самого первого мгновения тело стало двигаться мягко и плавно, в единой волне с просыпающимися горами.
Они появились оттуда, откуда он ожидал. Гроза ящерицей прополз по каменным глыбам, проверяя, всё ли ладно с западнёй и не улетели ли вниз приготовленные к обрушению камни. Ворон ещё раз «прошёлся» над ущельем со своим неторопливым, похожим на хриплый человеческий голос «кар-кар-кар». Он тоже ждал удачной охоты, ведь тогда можно полакомиться самым сладким, – человеческими очами.
Как долго они не появлялись, или выбирали другую тропу, и вот, наконец, боги сделали так, чтобы они пришли! Гроза почти нежно погладил берестяную оплётку лука и бережно положил его на большом плоском камне, а рядом колчан со стрелами. Бесценная добыча досталась ему в бою. Как сей настоящий многослойный, проклеенный рыбьим клеем и обёрнутый берестой русский лук оказался у хазар, он не ведал, но обрадовался ему, как подарку небес! Весьма дальнобойный, не боящийся сырости пещер и утренних туманов, с прочной кожаной плетёной тетивой, сработанной по особой древней манере, с долгим вытягиванием, намачиванием, сушкой да пропиткой. О таком луке когда-то рассказывал наставник по воинской здраве Вергун. И вот теперь сей лук стал основным оружием Грозы.
Жажда мести и стремление узнать о судьбе близких были той единственной силой, что уже несколько лет понуждала его жить в пещерах, переносить зимние холода и летний зной, устраивать засады и терпеливо ждать появления врага. Иногда он подряжался пасти овец, или помогал отогнать их на торжище. Брался доить овец и делать брынзу. Но что бы он ни делал, страшная жажда, высушивающая изнутри душу, не покидала Грозу ни днём, ни ночью. И он опять уходил в горы, где жил только для того, чтобы найти и покарать.
Сегодня везучий день, они опять пришли! Гроза замер на верхнем карнизе, чтоб даже дыханием не выдать себя.
Вот отряд поравнялся с завалом, который надлежало обрушить первым, – ещё чуток, ещё шагов пять до отмеченного места, и вот он – главный миг, пора!
Но… вложенный в завал обломок сосны отчего-то никак не освобождался, видно его сильно сдавило, скорее… Первые три конника уже проехали место, где их должны были настичь камни, ну же!… Он дёргал, пытался расшатать обрубок сосны, – всё бесполезно, ствол дерева будто сросся с огромными валунами и не поддавался слабым человеческим усилиям. В отчаянии Гроза набросил на него хазарский волосяной аркан и, упёршись ногами в огромный камень, потянул на себя, побелев от натуги так, что перед очами заплясали цветные пятна, сокрыв на миг солнечный свет. Сосна, наконец, подалась, и камни с грохотом устремились вниз на тропу. Поздно, слишком поздно, большая часть отряда уже прошла! Теперь скорее, ко второму подготовленному складу, чтобы хоть оставшиеся хазары не успели уйти!
Гроза метнулся к другой куче камней, здесь всё получилось быстро. Двое из повернувших обратно к входу в ущелье всадников угодили под обвал, остальные растеряно сгрудились между двумя камнепадами, самые сообразительные, спешившись, попытались перевести коней через завалы под уздцы. Вот тут и пришёл черёд боевого лука. Гроза успел снять стрелой одного, двое же устремились к завалу, стараясь укрываться за камнями. Теперь попасть в них было сложнее, ещё немного – и они пройдут завал. Одному из них это уже удалось, и он, вскочив на коня, бросился прочь по тропе. Из двух стрел, пущенных в последнего хазарина, одна прошла мимо, а вторая поразила коня. Конь рванулся, заплясал на месте, оступился и, поскользнувшись, придавил к каменной глыбе ногу седока. Когда хазарин всё-таки выбрался, Гроза вскинул лук, но, подумав, опустил его, потому что хазарский воин не стал перебираться через завал, как сделал его сотоварищ, а прильнул спиной к скале, а потом полез вверх и вправо, чтобы всё время быть закрытым от прицельного выстрела телом выступающей части скалы.
Пастух, прихватив аркан, заторопился к тому месту, куда должен был вылезти хазарин. Конники-то они добрые, а вот по горам лазать не обучены. Гроза бежал, стараясь не оступиться на округлых камнях, не сильно расслаблять и в то же время не напрягать излишне ноги, как бегают животные. Переводя дыхание, он прильнул к нагревшемуся боку горы, ожидая, когда появится враг. Но хазарин всё не появлялся. Подойдя к краю, осторожно глянул вниз и увидел вражеского воина лежащим внизу на камнях. Пригляделся: кажется, живой. Перевернулся и сел, – значит, сорвался с небольшой высоты, но никуда не убегает, скорее, пока он оглушён!
Когда пастух спустился к хазарину, тот выхватил из ножен большой кинжал.
– Не подхатить, моя твоя резать! – Прокричал хазарин, затравленно вращая очами. Гроза остановился в нескольких шагах, внимательно глядя на противника. Голова и руки, да и стан хазарина двигались, а ноги лежали, как-то странно вывернувшись, и даже не шелохнулись.
– Понятно, значит, хребет сломан, – проговорил пастух. – Не воин ты более…
Хазарин меж тем то с трудом открывал очи, то снова их закрывал, будто его настигал неодолимый сон. Гроза уселся на камень в нескольких шагах. Он кое-что уже знал по-хазарски и по-гречески, потому что на торжище приходилось объясняться со стражей, конными разъездами, да и овец часто покупали у него те же хазары и греки. Хазарин же, судя по словам, тоже немного говорил, а ещё более понимал речь русов.
– Ты кто? – спросил хазарин.
– Я тот, кто убил твоих товарищей, – устало ответил Гроза.
– Большинство наших ушли, и больше никогда не пойдут этой короткой дорогой, – сузив очи от ненависти и боли в спине, проговорил сквозь зубы хазарин.
– Ничего, я встречу их в другом месте, кроме гор есть ещё леса, есть ночные тропы, есть дороги у моря, я найду, где их встретить.
– Зачем ты это делаешь, кто тебе платит? – начиная чаще дышать и покрываясь испариной, проговорил хазарин.
– В лето, когда греки срубили Великий Дуб, вы, хазары, напали на наше поселение, что находилось рядом, убили моих односельчан и похитили мою девушку и моего брата. Я хочу найти тех, кто это сделал, я хочу знать, куда их продали. Я всегда при удачной охоте стараюсь оставить в живых одного вашего воина, чтобы спросить, где он был в то лето, и знает ли что о моём брате и девушке, но не всегда удаётся пленить живого… – тавро-рус замолчал, глядя куда-то вдаль.
– Я был там в то лето, – ответил хазарин, который, видимо, понял, что жить ему осталось немного. Ему вспомнилось, как в наказание за то, что в одном из походов два нукера взяли много золота и утаили от старшего, он приказал перед всеми сломать обоим хребты и бросить подыхать в степи, как лёгкую добычу шакалам да степным грифам. Они тогда, тоже сильные и злые воины, беспомощно стенали и просили добить их, но старший не разрешил это сделать и сам стоял подле, пока весь отряд не проехал мимо. И лишь тогда, пнув каждого из брошенных, он вскочил на коня и поехал прочь. Всё это разом предстало перед хазарским воином, он понял, что его конец близок. Как бы в подтверждение над ущельем пролетел огромный ворон и громко каркнул.
– Я понимаю, что скоро умру, и могу рассказать тебе всё, что знаю, – проговорил хазарин. – Ты воин, и месть горит в твоих глазах. Я расскажу, если ты добьёшь меня. Услуга за услугу… – его побледневшие уста выдавили подобие ухмылки.
– Хорошо, я добью тебя, – пообещал Гроза. – Слово руса.
Хазарин некоторое время собирался с силами, а может, вспоминал, и наконец, заговорил.
– Мы тогда тоже пришли этой короткой дорогой, прошли через долину, где рос тот огромный дуб, старый, как мир, и ворвались в селение. Мне повезло, я заарканил красивую молодую девушку. До сих пор помню её белую с красным одежду и косу с красной лентой. А ещё на ней было вот это… – хазарин снял с шеи и бросил к ногам пастуха медный медальон. – Он не спас меня, похоже, чужие духи рассердились…
Гроза поднял, и руки его дрогнули. Это был обережник Звениславы, который ей подарила мать. Вот и две знакомые буквы ЗС.
Пастуху стало трудно дышать, потом в его очах мелькнули молнии, и он едва не бросился на хазарина, но каким-то чудом сдержал себя и прикрыл очи, переносясь мыслями в тот страшный день.
– Когда мы возвращались, какой-то старик стал сбрасывать сверху камни, и мы потеряли время на то, чтобы достать его стрелами, из-за этого нас догнали и отбили часть добычи…
– Что ты сделал с той девушкой? – не открывая очей, спросил с великим усилием пастух.
– Она действительно была кыз, девушкой, а это хороший, дорогой товар, гораздо ценнее, чем женщина. Купец, хромой Авдим, тогда заплатил мне хорошие деньги, я целый месяц мог не ходить за добычей и есть вдоволь мяса.
– А отрок?
– За отрока точно не знаю, в том походе мы добыли несколько мальцов. Один был убит при попытке сбежать. Кыз потребовала у Хромого Авдима, чтобы он продал её вместе с одним малым, сказала купцу, что иначе убьёт себя.
– И что же купец? – прохрипел, находясь, словно в полу сознанье, Гроза.
– Он согласился, но как там было дальше, знает только Хромой…
– Что ж за племя вы такое, хазары, грабите и убиваете людей, что трудятся на своей земле?! Крадёте жён и детей, продаёте их торговцам, которые несказанно богатеют на этом, а сами живёте жалкой несчастной жизнью, беднее любого нашего огнищанина, рискуете своей головой, мечтая о великой чести стать охоронцем купца-жидовина. Что создали вы на этой земле, что оставите потомкам, если даже мёртвых своих не можете достойно проводить в мир иной и просто бросаете на вершинах холмов в безводной степи, где их пожирают звери и птицы и заносят песком пустынные ветры… – воскликнул Гроза, и тут же услышал странный хрип. – Хазарин дёргался в предсмертной судороге, нож его был в крови, которая толчками исторгалась из его разрезанного горла. – Ну вот, и смерти лёгкой не дождался из-за своего неверия, привыкли всех обманывать, думаете, что и другие такие же лжецы… – с брезгливостью и некоторой обидой выговаривал хрипящему в последних судорогах врагу молодой пастух.
Долго сидел Гроза, глядя на распростёртого хазарина, которого столько лет пытался найти и наказать. Всякие кары он придумывал для врага, расправляясь с ним в мыслях, а порой и во снах. И вот он лежит, окровавленный, поверженный и бездыханный, а в душе ни радости, ни торжества победы, – ничего, только гулкая и холодная пустота, несмотря на яркое полуденное солнце. Нет, месть не сладка, она пустая и стылая, как безлюдная зимняя степь. И только обережник, зажатый в кулаке, жжёт, как раскалённый в горниле слиток…
Глава пятая
Князь Аскольд
Юный норманн с трудом удерживался на ногах: с чёрного низкого неба громыхало, шнеккар скрипел от натиска огромных пенящихся волн, а холодный ветер рвал убранные паруса и растяжки, намереваясь швырнуть всё, что плохо закреплено, в бездонную морскую пучину. Было жутко противостоять такой могучей и необъятной силе. Пальцы левой руки, намертво вцепившиеся в спасительный канат, пронзала тупая боль.
В сей миг небо треснуло так, что в голове зазвенело, а необычайно яркая вспышка заставила сжаться в комок. Когда малец осмелился взглянуть вверх, то тут же окаменел от страха… о, боги! – из туч с грохотом неслась… бронзовая колесница самого Тора! Она летела сверху неимоверно быстро, козлы, влекущие колесницу, таращили жёлтые глаза и дико смеялись. Потом козлы превратились в рычащую пасть чудовищного волка Фенрира, которая неотвратимо приближалась. Жуткий страх разрывал маленькое сердце, а грохот барабанные перепонки! Малец отступил назад и вдруг ощутил, что летит вниз с высокого борта корабля прямо в бушующее море. Сердце замерло в ожидании удара о ледяную воду… Он закричал и… проснулся.
За прочными бревенчатыми стенами громко бесновался ливень, и небесный Тор, в самом деле, звучно катал бронзовую колесницу по чёрному небосклону, подсвечивая себе путь серебряными вспышками Мьёлльнира. И шуйца болела по-настоящему, а в чело над правым оком будто забили толстый железный гвоздь, от которого голову пронизывало тупой болью.
«Сколько меня будут преследовать старые боги, и терзать по ночам мою душу, возвращая её, как сегодня, в детство и прошлую жизнь…»
На стоны и крик подскочил спальник, который ночевал тут же в горнице на широкой лаве, устланной пушистыми шкурами.
– Что с тобой, княже, надо чего? – молвил по-словенски Зигурд, сын верного Хродульфа, боярина и начальника личной охороны.
– Нет, Зиги, просто дурной сон, – садясь на ложе и крестясь в дальний угол, где сквозь ночную темноту, иногда вспарываемую белыми отблесками молний, несмело пробивался желтоватый огонёк лампады, освещая суровые лики мрачных святых, ответил по-свейски, как говорил только что во сне, тот, кого молодой слуга назвал князем. Перестав креститься, он схватился десницей за чело, где засел проклятый «гвоздь». – Потри мне, – уже словенской речью молвил он. Зигурд принялся перстами медленно и сосредоточенно растирать чело князя вначале над бровями, а потом выше, выше, пока не закончил на затылке. И так раз за разом. От мерных движений рук, умело массировавших голову, становилось легче. Затем спальник привычно обернул левую руку князя, по которой когда-то пришёлся удар франкского меча, краем мехового одеяла.
От тепла чуть отпустило, князь со стоном снова опустился на широкое ложе, предаваясь мыслям, порой столь же неожиданным, как шальные порывы ветра за стенами добротного терема. Видно, от перемены погоды, сопровождаемой небесным грохотом, спалось нынче плохо, ломило суставы. В непогоду всегда откликались много раз промокавшие в давних переходах по бурному морю ноги, а голова, да и всё тело помнили жуткие предрассветные дуновения пронизывающего до последней косточки северного нордвинда, словно он опять на драккаре преследовал китов, неприятелей или отбившихся от каравана купцов. Сейчас бы помогла мазь из китового воска, да где её возьмёшь в Киеве? Надо будет приказать старшему сборщику податей на торговой пристани, как его… вспомнил, Крыга, – пусть разыщет, он же в каждый тюк прибывающего товара суёт свой нос…
Если бы тогда, в детстве, или даже потом, когда он уже был отличным воином и певцом, выжимавшим слезу даже у жестоких, как северный ветер, и беспощадных, как ледяное море, собратьев-викингов, если бы кто сказал, что он станет князем далёкой и сказочной своими богатствами Киевской земли, ха-ха-ха, да он сам не поверил бы!
Картины детства, как волны мимо скрипучих бортов драккара, опять побежали сами собой, сменяя друг друга. Его отец был простой воин, не ярл, даже не кормчий, а мать – из словенских рабынь. И хотя отец признал его сыном, сводные братья и сёстры, да и прочие мальчишки, дразнили его и называли «грязным траллсом».
Приходилось отчаянно драться со многими. Но однажды он уразумел, что побеждать можно не только силой и оружием, но и сообразительностью. А этим, да ещё умением петь, унаследованным от матери, он отличался почти с самого рождения.
Обидчик был на голову выше и опытнее в схватках.