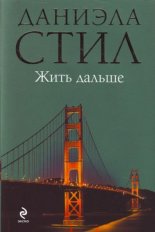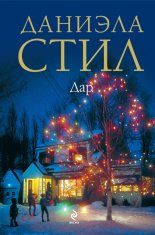Господин Гексоген Проханов Александр

– Есть программа, которая показывает основные тенденции в обществе.
Копейко остановился у компьютерного стола, за которым работала красивая женщина, чье лицо казалось смуглым от легкого грима, веки были перламутровыми, как две темные раковины, а волосы отливали стеклянным блеском. От нее едва слышно веяло дорогими духами, и пальцы в кольцах плавно перебирали бесшумные клавиши.
– Мы можем проследить темпы спада в промышленности, кривую вымирания населения, износ оборудования на атомных станциях, нарастание вывозимых за рубеж капиталов. Можем предсказать возможность техногенных катастроф на флоте и в авиации, вероятность народных волнений и рельсовых войн, приближение военных конфликтов в Чечне и Дагестане, где распространяется ваххабизм.
Женщина перебирала пальцами, из-под которых бежали разноцветные графики. Сплетались, возносились, падали. Отображали умирание огромной страны, попавшей в катастрофу, находившейся под капельницей на операционном столе.
Белосельцев остро смотрел, понимая с полуслова, читая орнаменты графиков, как музыкант читает по нотному листу партитуру. Он отыскивал среди множества линий ту синусоиду, что изображала его мятущуюся мысль, всплески его надежды, провалы его безнадежной тоски.
Они покинули компьютерный зал и сидели теперь в уютной ампирной гостиной за овальным, отделанным бронзой ореховым столиком, перед горящим камином, на котором стояли фарфоровые часы с купидонами. Им принесли крохотные чашечки кофе из старинного усадебного сервиза с изображениями Наполеона и Александра I, молочник и сахарницу с золотыми каемками. Белосельцев с наслаждением делал маленькие глотки, глядя на пылающее смоляное полено. Ни о чем не расспрашивал. Довольствовался тем, во что его посвящали. Он должен был многое узнать о проекте, прежде чем ему укажут его место.
– В основе Проекта Суахили лежит теория конфликтов. – Копейко любезно, на правах хозяина, налил молоко из фарфоровой горловины в чашки Гречишникова и Белосельцева. – Наше умение искусственно создавать конфликты и управлять ими есть способ проникновения во власть и устранения препятствующих факторов. Мы создаем в монолитной обороне противника серию надломов и трещин, ведущих в Кремль, сквозь которые осторожно, шаг за шагом, продвигаемся в сокровенный центр власти. В этой гостиной во время тихих собеседований рождаются активные мероприятия, которые воздействуют на Думу, на членов кабинета, на самого Президента, и каждая «активка» неуклонно приближает нас к победе. Теория победы в конфликтах есть главный инструмент овладения властью, разработанный генералом Авдеевым…
Белосельцев упивался, вслушиваясь в формулировки, от которых отвык среди бессмыслицы фальшивых лозунгов, ханжеских молитв, лживых деклараций. Это был язык его племени, на котором изъяснялся его народ, рассеянный, поруганный, изгнанный из дома, потерявший своих вождей и пророков. Он узнавал своих единородцев по неповторимому языку, сохраненному ими после падения Вавилонской башни. Открывал единоверцев по их речениям, сбереженным среди смешения языков и народов. Теорию конфликтов он изучал под Кандагаром, прочесывая с отрядом спецназа пустыню Регистан, где вертолетным ударом был разгромлен караван моджахедов; раненные насмерть верблюды отрывали от песка плачущие глазастые головы, солдаты распарывали ножами полосатые тюки, вываливая груз автоматов и мин, уцелевшему погонщику в чалме и хламиде крутили веревкой руки. Теорию конфликтов он познавал в долине реки Кунене, где двигались батальоны ЮАР, горели тростниковые хижины, отряд ангольской пехоты, побросав оружие, убегал среди белесой травы, и «Канберры» на бреющем раздували траву до земли, косили солдат из пулеметов. Эту теорию управляемых локальных конфликтов он постигал на берегу Рио-Коко, где сандинисты в сыром окопе наводили пушку на коричневый блестящий поток, по которому скользило каноэ, индейцы-мескитос уходили от погони, и снаряд подымал на воде высокий гулкий фонтан. Эту теорию тлеющих конфликтов он проверял в кампучийском храме Ангкор перед золоченым Буддой, чье деревянное тулово было прострелено очередью; за окном устало пылила вьетнамская пехота, лязгали трофейные американские танки и тянулись унылые вереницы погорельцев и беженцев.
Теперь, слушая старого товарища, он наслаждался его жесткой, металлической лексикой, которая как наждак счищала с души ржавчину пустопорожних, обрыднувших слов.
– Публика, наблюдая Зарецкого, его влияние на семью Президента, неутомимую деятельность, что увеличивает его миллиардное состояние, виртуозные политические комбинации, от которых сотрясается страна, падают правительства, начинаются приграничные войны, – наша близорукая публика считает, что я являюсь его слугой и рабом, послушным исполнителем его воли, копьем, продлевающим его руку. – Копейко обвел смеющимися глазами гостиную, любовно осматривая каждый хрусталик в люстре, каждый завиток на лепном карнизе, каждую золотинку на фарфоровых часах с игривыми купидонами, наслаждаясь завершенностью старомодного интерьера, его музейной подлинностью. – Но никто не догадывается, что все финансовые операции и политические проекты, сделавшие Зарецкого миллиардером, осуществлены с нашей помощью, с использованием наших связей, нашей разведки, наших аналитиков и исполнителей, которых вы, Виктор Андреевич, могли встречать в Афганистане, в спецподразделениях нашего ведомства.
Копейко наслаждался окружавшим его комфортом. Тяжелым поленом в камине, над которым витало золотисто-голубое пламя. Ореховым полированным столом, в котором, как в ледяной поверхности, отражались фарфоровые чашки и кофейник. Высоким полукруглым окном, полным серебристого дрожащего солнца. Он прислушивался, словно за дверью, в соседнем танцевальном зале, вот-вот раздадутся звуки рояля.
– Это мы проникли в государственные банки и, взломав защиту, с помощью фальшивых авизо выкрали огромные деньги, перебросив их на зарубежные счета Зарецкого, списав это воровство на чеченцев. Мы, используя связи среди полевых командиров Афганистана, таджикских военных, русских пограничников и таможенников, организовали транзит наркотиков из Лашкаргаха через Россию в Западную Европу, с последующим отмыванием денег в игорном бизнесе Варшавы и Будапешта, контролируемом Зарецким. Мы создали хитроумную цепь подставных фирм и офшорных зон, куда сбрасываются кредиты Валютного фонда, выделяемые России, утекают в нью-йоркские банки, пополняя богатство Зарецкого на миллиард долларов в год. Мы помогли ему завладеть крупнейшим телеканалом, устранив опасного конкурента, о котором до сих пор рыдают либеральные журналисты, отмечая ежегодно день трагического убийства, когда этот кумир толпы и ловкий еврейский коммерсант был найден в подъезде с окровавленными усами. И именно наши специалисты, работающие с изотопами, заложили капсулу с калифорнием в спинку кресла, на котором любил сидеть один из удачливых соперников Зарецкого, после чего тот умер от скоротечного рака мозга. – Копейко бережно тронул фарфоровую чашечку, столь тонкую, что она просвечивала на солнце, как розовая мочка женского уха. Император Наполеон в военном мундире был чуть стерт от множества прикосновений, словно потускневший узор на крыле бабочки, которую помяли дожди и ветры. – Может показаться, что всем этим владеет Зарецкий. Но это иллюзия. Его богатство устроено нами так, что оно висит на тоненькой паутинке. Оно отрежется от Зарецкого и упадет нам в руки. Мы копили это богатство, лишь используя его имя, не для него, а для нас. Сбереженное, сконцентрированное, действующее, оно станет работать не на магната Зарецкого, которого похоронят в безвестной могиле где-нибудь в латиноамериканской стране, а на русское государство, которому мы присягнули на верность…
Белосельцев чувствовал, как у него по-молодому горят щеки, словно в блеклую усталую плоть, в стынущую, вялую кровь впрыснули молодящий гормон. Глаза, подернутые влажной пленкой, смотрели зорко, различая крохотные выбоины на мраморной плите камина. Ноздри чутко ловили запахи елового дыма и горьковатого бразильского кофе. Слух улавливал слабые потрескивания горящего полена, в котором закипали смоляные соки. Услышанное не пугало, а восхищало его. В борьбе с отвратительным злом, которое убивало народ, с преступным и мерзким укладом, в котором, как в кислоте, погибала и растворялась страна, были дозволены все методы, все без исключения средства, если они служили борьбе и победе. Он, разведчик, был готов сражаться по правилам беспощадной войны, для которой его готовили, в которой он был разгромлен, и теперь, найдя уцелевших соратников, был счастлив продолжить войну.
– Вместе с Зарецким мы втянули в незаконный бизнес множество высоких чиновников, министров правительства, действующих генералов, офицеров безопасности. Мы осторожно и незримо включили в его доходные, криминальные дела Администрацию Президента, дочерей и родственников Истукана, самого Истукана, запятнав его нефтяными кляксами, кровавыми брызгами, усыпав бриллиантами пальчики его сластолюбивых дочек, возведя в Австрийских Альпах, на Лазурном Берегу, на побережьях Испании особняки и виллы, записанные на августейшее семейство. И когда все спутались в преступный клубок из взяток, незаконных хищений, нераскрытых убийств, мы сделали утечку. Сначала во французские газеты – о русских счетах в отделениях банка «Барклай». Потом в американские – о незаконном отмывании денег в «Бэнк оф Нью-Йорк». Потом поместили в английских журналах фотографию виллы в Баварии, подаренной президентской дочери богатым банкиром. Потом передали швейцарской прокуратуре некоторые сведения о взятках и операциях с наркодолларами. И скандал начал разрастаться, как махровый георгин с жирными, мясистыми лепестками. О нем заговорили в американском Конгрессе, о нем зашептались на международных форумах, им стали заниматься прокуроры нескольких стран. И главное – им стал заниматься наш Прокурор, о нем стали писать наши газеты. Постепенно Кремль стал казаться местом, куда свозят краденое, где угнездилась грязная мафия, где хранятся наркотики, складируются фальшивые доллары, происходят содомитские оргии. Президент со своим окружением стал мишенью беспощадной критики со стороны конкурентов, Лысого Мэра, мечтающего въехать в Кремль, множества зубастых, как пираньи, журналистов, купленных Мэром, и главное – Прокурора, который открыл уголовное дело о коррупции в кремлевских верхах. Возник конфликт, в который вмешиваются все новые и новые силы, раскалывая правящий класс надвое. Раскалывают армию, систему безопасности, правительство, сообщество олигархов. Ибо соперник Зарецкого, которым незримо управляет наш умный соратник Буравков, талантливый и мерзкий Астрос, включился в конфликт на стороне Прокурора и Мэра со всей мощью своей телевизионной империи, своих капиталов, международных еврейских связей, превращая эту схватку в прелюдию гражданской войны. В монолитных льдах открылась трещина, появился просвет свободной воды, куда мы направили наш маленький юркий челнок – пирогу Суахили. – Копейко сочно расхохотался, показывая ровные вставные зубы, делающие его вечно молодым.
Белосельцев испытывал утонченное наслаждение, как от звука любимой музыки или созерцания любимых картин. Изощренное искусство управления людскими пороками, страстями и похотями, разработанное в иудейских молельнях, усовершенствованное в святилищах египетских жрецов, проверенное в римских дворцах и термах, блистательно применяемое ватиканскими нунциями, воплотилось в политику Сталина, сумевшего стравить и рассорить своих злейших врагов. Руками одних уничтожить других, а последних, обессиленных в кровавом конфликте, приковать к своей политической колеснице и протащить, как по булыжной мостовой, через пятилетки, коллективизацию и чистки. После чего он остался единственным властелином огромной Красной Империи, которую сделал мировой и космической. Этот метод, опробованный с библейских времен, в совершенстве освоенный Дзержинским и Берией, был теперь единственным средством борьбы, которую вело подполье разведчиков. И он, Белосельцев, не испытывал угрызений совести. Владея методом, он был готов включиться в борьбу.
– В этот разлом, постоянно его расширяя, не давая сомкнуться, мы ввели Избранника. Ведем его незримо для глаз. Мне поручено курировать Зарецкого. Управлять его действиями. Его руками подвигать Избранника к власти. А потом уничтожить магната. Я использовал тысячу способов, чтобы сделать его могучим. И знаю тысячу средств, чтобы его сокрушить. Нам известны его привычки, одна из которых побуждает его запираться в ванной и там, среди пенистых шампуней и зеркал, заниматься любовью с самим собой. Нам известны стихи Бодлера, которые он выучил наизусть и в которых видит отражение своего мазохизма и своего патологического честолюбия. У нас есть полная история его болезней с самого детства, включая психические расстройства и венерические инфекции. У нас есть отпечатки его пальцев, слепки с зубов, рентгеновские снимки скелета, пробы волос, данные о генетическом коде. Есть модели его поведения в случае успеха, неудачи, смертельной угрозы, приступов мизантропии. Когда кольцо вокруг него сомкнется и он убежит из России, сделает себе пластическую операцию, наденет парик, отрастит усы, мы все равно его вычислим. Найдем в каком-нибудь крохотном пуэрто-риканском городке на берегу океана, и наш снайпер пустит пулю в открытое окно, у которого тот будет дремать в плетеном кресле с книжечкой Бодлера в руках. Мы закопаем его в рыжую глину насыпи, по которой пройдет трансамериканское шоссе, и над его костями будут проноситься бессчетные автомобили тех, кому он хотел нравиться, кем желал повелевать, кого презирал и боялся и кто никогда о нем больше не вспомнит.
Гречишников все это время молчал, чуть прикрыв сухими пепельными веками оранжевые глаза, полагая, что из уст Копейко Белосельцев получает исчерпывающие сведения, необходимые на первых шагах. Но вот веки его поднялись, круглые глазки воззрились на часы с купидонами.
– Нам пора, – сказал он, вставая, – нас ждут в Кремле. Не следует опаздывать…
Белосельцев, не переспрашивая, ничему не удивляясь, вверяя себя товарищам, вышел из гостиной.
Глава четвертая
Они погрузились в знакомый «Мерседес» с молчаливым шофером в кепи. Поместились в него, как в замшевый мягкий футляр для дуэльных пистолетов. Пересекли Каменный мост, с которого Кремль казался уходящей в синеву горой с красными, белыми и золотыми ступенями. Повернули к Троицкой башне, где милицейский пост оглядел номера их глазированного лимузина, возжег зеленый огонь светофора, пропуская под каменный свод. Машина, похрустев по брусчатке, оказалась в Кремле, среди сияния дворцов и соборов, молчаливых куполов, в каждом из которых светилась золотая солнечная сердцевина. И в душе Белосельцева возникло давнее, никогда не исчезавшее чувство нежности, изумления, ожидания, словно вот-вот должно случиться чудо, и на эту черно-блестящую мостовую, вровень с колокольней Ивана Великого, с его сияющей золотой головой, опустится босоногий ангел в белых одеждах, прижимая к спине пышные дрожащие крылья, чтобы не задеть куполов и крестов, не смахнуть невзначай серебряные и золотые шлемы.
Автомобиль остановился на Ивановской площади, где уже стояли несколько дорогих тяжеловесных машин. Они вышли и двинулись через площадь к дворцу, мимо колокола и пушки, принадлежавших когда-то племени великанов – звонарей и артиллеристов, которые ушли из Москвы за Волгу, за Уральский хребет, в Сибирь, на Енисей, где окаменели, превратившись в Красноярские столбы.
Для Белосельцева Кремль был таинственным, родным, самым теплым и нежным местом земли, которое питало его, словно млечная материнская грудь, соединяло с бесконечной красотой и любовью, хранило среди кромешного бытия, не давая душе погрузиться во мрак. Детские рисунки с зубчатой стеной и башнями, над которыми горели огромные пятиконечные звезды и взлетали разноцветные букеты салютов. Новогодняя елка в Кремле, куда привела его бабушка, и он, запрокинув голову, смотрел на смоляное душистое диво, увешанное хлопушками и шарами, среди хрусталей и белого мрамора. Георгиевский зал с золотой геральдикой гвардейских полков, куда его приглашали на вручение наград, и он получал боевые ордена за афганский поход, за Кампучию и Африку, за разведоперацию в сельве Рио-Коко. Мистическое явление Кремля, когда он скрывался от зноя в подбитом вьетнамском танке на таиландской границе, в обугленной башне, среди ржавчины и пепла сгоревшего экипажа. На берегу океана, на белых песках Мозамбика, среди смертей и сражений, явился Кремль из зеленых туманных вод, возвращая силу и веру.
Он шел по Кремлю и мучительно чувствовал, что Кремль у него отобрали. Эти звезды и кресты были теперь не его. Во дворцах и церквах поселился враг, и солнечный блеск куполов, и белые камни соборов были покрыты едва различимой дымкой, словно плавала гарь, источалось чье-то больное дыхание.
На парадном крыльце их встретили охранники, дружелюбно и почтительно поклонившиеся Гречишникову и Копейко как хорошо знакомым и уважаемым визитерам. Они стали подниматься по широкой пустынной лестнице. Белосельцев глядел на огромную, приближавшуюся картину в золоченой раме, где суровыми, сумрачными красками была изображена Куликовская сеча. Вспомнилось, как он смотрел на эту же картину много лет назад, поднимаясь среди множества торжественных депутатов в кремлевский зал, где проходила сессия и обсуждались планы и свершения страны. Прошли по дорогому паркету, под высоким озаренным плафоном. Сквозь бело-золотые приотворенные створки, словно ослепительная глыба льда с отблесками хрустального солнца, мелькнул Георгиевский зал. Приблизились к дверям, за которыми Белосельцев, волнуясь, ожидал увидеть знакомое пространство главного зала страны, с рядами дубовых кресел, со ступенчатым возвышением президиума, с резным гербом на тяжелой деревянной трибуне. С этой трибуны, перед черными чашечками микрофонов, на протяжении полувека, сменяя друг друга, читали доклады вожди. Зал, рукоплеская, вставал, глядел с обожанием на усатое лицо, на плотно застегнутый френч. И Ленин, высеченный из лунного камня, слабо светился в нише.
Дверь растворилась, Белосельцев ахнул, зажмурил на мгновение глаза. Не было строгих рядов, туманно-сумрачных ниш, деревянной трибуны с гербом, статуи из лунного камня. Блистал ослепительный зал из мрамора, малахита и яшмы. Сверкали драгоценные люстры. Золото било в глаза. Со стен свисали шелковые знамена и флаги, голубые атласные ленты. Фрески, картины украшали высокие стены. Уходили ввысь лепные потолки и плафоны. Черно-желтые, с цветами и листьями, блестели узоры паркета. Казалось, вот-вот грянет музыка, офицеры в белых лосинах, в серебряных и золотых эполетах влетят в ослепительный зал, закружат по паркету легконогих нарядных красавиц.
Белосельцев стоял изумленный. Казалось, половину Кремля, суровую, сумрачную, пропитанную железным духом эпохи, отпилили и куда-то унесли. А вместо отпиленной приставили новую, изготовленную мастерами драгоценных декораций, художниками костюмов, музейными собирателями гербов и старинных знамен. Зал, блистая позолотой и краской, казался склеенным из папье-маше, и хотелось подойти, тронуть пальцем малахит или яшму, чтобы почувствовать мякоть картона, клейкость плохо просохшей краски.
– В новые мехи новое вино, – усмехнулся Гречишников, заметив изумление Белосельцева. – Царя еще нет, а покои готовы…
Они прошли великолепное пустое пространство. Два охранника растворили перед ними новые двери, и они оказались в другом ослепительном зале, еще богаче и великолепнее первого. Белосельцев изумленно-испуганными глазами успел разглядеть возвышение с царским троном и огромным пологом из горностая, просторные, полные солнца окна и, в пустоте, окруженный сиянием, овальный стол, уставленный яствами. Сидевшие за столом люди, легко узнаваемые, поразили Белосельцева, и он смотрел теперь только на них, желая убедиться, что это не актеры, играющие первых лиц государства, а сами эти лица, парящие в пустоте, с перевернутыми отражениями, чуть удлиненными и размытыми в льдистом паркете.
Зарецкий поместился в середине стола, как хозяин и заправила, жестикулируя, привлекая к себе внимание, и Белосельцев удивился его сходству с большой чернявой белкой, чей узкий череп покрывал линялый, с плешинами, влос, узкие плечи переходили в длинные подвижные руки, удерживающие какой-то плод, то ли крупный орех, то ли сморщенный гриб, большие резцы в ощеренном рту были готовы грызть и точить, а выпуклые черно-вишневые, почти без белков глаза смотрели настороженно и часто моргали.
Подле него сидел Премьер-министр, с розовым, воспаленным, напоминавшим мятый распаренный корнеплод лицом, без подбородка, с выпуклыми щеками, маленькими холодными глазками, не перестававшими наблюдать и высматривать, в то время как детский румяный ротик смеялся чьей-то шутке, кажется, Зарецкого, которому Премьер что-то угодливо подкладывал на тарелку.
По другую руку от магната сидела молодая женщина с крепким, казавшимся мужским лицом, розовая от выпитого вина, налегая на стол сильной грудью, замечая, что на ее грудь с отпечатанными выпуклыми сосками смотрят участники застолья. Снисходительно, весело сощурив глаза, она слушала Зарецкого, высунув кончик языка, проводя им по верхней губе. Белосельцев узнал в ней младшую дочь Президента, показавшуюся здесь, в застолье, более женственной и привлекательной.
Тут же сидел щуплый, сутулый, похожий на богомола человек, свесивший на слабой шее длинную рыжеватую голову с лысым лбом и подслеповатыми глазками. Он мучительно улыбался, словно слышал невыносимые для себя высказывания, и только правила хорошего тона мешали ему встать и уйти. В этом замученном, с несовершенным сложением человеке Белосельцев узнал могущественного главу президентской Администрации, откуда непрерывно истекали интриги и каверзные замыслы, пугавшие депутатов Думы, раздражавшие губернаторов, вызывавшие злые нападки язвительных журналистов.
Вольно развалившись на стуле, подбоченясь одной рукой, с удовольствием сытого и пьяного весельчака внимая застольным речам, сидел главный хозяйственник Президента. На его большом, красивом, начинавшем полнеть лице остро блестели маленькие плутоватые глазки. Они весело перебегали с Зарецкого на Премьера, с главы Администрации на президентскую дочь, словно их вид, а также еда, которую они поглощали, вино, которое они пили, доставляли ему наслаждение. Казалось, это он придумал поставить стол посреди великолепного зала, зажечь посреди стола свечи в серебряных подсвечниках, поместить у дверей служителей в старинных камзолах с галунами, в белых чулках и напудренных, завитых париках.
Еще один гость поставил на стол локоть, подпирая щепотью пальцев большую благородную голову. В белой манжете сверкала бриллиантовая запонка. Рука, белая, тонкая, с заостренными пальцами, розовыми ухоженными ногтями, небрежно касалась щеки. Умные, зоркие глаза внимательно озирали застолье. Сжатые, утратившие свежесть губы сложились в едва заметную презрительную усмешку. Это был известный художник, чьи выставки в Манеже собирали пол-Москвы, приходившей подивиться на огромные картины, похожие на кипящие котлы, в которых варились комиссары и белые офицеры, священники и красноармейцы, мученики царского семейства и жестокие вожди. В этом вареве рушились храмы, возводились железные капища, двигались окровавленные армии, бесновались развратные толпы. Теперь этот автор мистерий взирал на застолье, словно старался запомнить сидящих, чтобы поместить их на свой еще не законченный холст о царстве Антихриста. Сидящие позировали, не догадываясь, что их скоро нарисуют в виде уродливых и похотливых наездников, оседлавших ягодицы и спину Вавилонской блудницы.
Помимо тех, кого сразу узнал Белосельцев, присутствовали двое ему неизвестных. Густоволосый генерал в новом мундире, громко хохотавший, отчего во рту его загорались золотые зубы, словно он откусил часть купола на Успенском соборе и теперь пережевывал. И молча взиравший на шумное общество худой, очень бледный брюнет, завесивший шелковый галстук и черный атласный костюм белой салфеткой.
Все они не сразу обратили внимание на вошедших и еще минуту допивали и доедали, видимо, сопровождая вином и закуской произнесенный тост.
– А вот и моя безопасность! – воскликнул Зарецкий, воздевая руки, как конферансье, демонстрирующий выход артистов. – Бес опасный! – попытался он произнести каламбур и, чувствуя, что неудачно, повел рукой, отметая неполучившуюся шутку. – Садитесь! – указал он на остававшиеся свободными места, возбужденный вином, на правах щедрого и своевольного хозяина. Щелкнул пальцами, подзывая служителей, указывая на пришедших и тут же о них забывая. И пока наклонялась над бокалом черная французская бутылка, обернутая в белую салфетку, и золотились галуны на малиновом камзоле, Белосельцев, пользуясь невниманием к себе окружающих, стал наблюдать и слушать.
– Итак, достопочтенные господа и вы, наша блистательная дама. – Зарецкий склонил лысоватую, с желтыми проплешинами голову в сторону Дочки, блестя над ней черными веселыми глазами. – Не случайно мы выбрали для нашего торжества этот императорский дворец, ибо, если хотите, день рождения Татьяны Борисовны, который мы празднуем здесь, в самом торжественном зале России, является своеобразным венчанием на царство! – Глаза его смеялись, превращая в насмешку произносимые славословия, а длинные руки, узкая голова и подвижное сутулое тело двигались и возбужденно волновались, наподобие тонкой водоросли. – Русской государственности в переломные периоды было свойственно выдвигать на первые роли женщин, которые умели собрать вокруг себя блистательных мужчин, верных сынов Отечества, и направить их таланты и добродетели на служение Матушке-России. Не боюсь впасть в преувеличение, но я нахожу прямое сходство между императрицей Екатериной и нашей блистательной Татьяной Борисовной. Государственный ум, смелость, способность сплотить таланты, понимание ближней и дальней перспективы – все это делает нашу именинницу дочерью своего отца, продолжательницей великих реформ, вершительницей великих деяний. – Глаза Зарецкого блестели, тело сотрясалось от беззвучного смеха. – В такие эпохи, как наша, одни люди сгорают дотла, превращаясь в горстку ненужного пепла. Другим, редчайшим, удается уголь своей сгорающей жизни превратить в алмаз. Татьяна Борисовна принадлежит к последним. Она – бриллиант нашей политической элиты, и я счастлив моим подарком подтвердить это сравнение. – Зарецкий сунул руку в карман пиджака, извлек сафьяновый футляр. Как фокусник, показал его собравшимся, поворачивая разными сторонами, словно убеждая зрителей, что он пуст. Отворил его, и на черном бархате возникла ослепительная струйка бриллиантов, словно волшебная золотая змейка в солнечной чешуе, лежащая на темном камне. – Вашу ручку, августейшая Татьяна Борисовна! – Зарецкий, чуть кривляясь, с шутовскими смешными ужимками, но и с глубочайшим почтением, с нескрываемым обожанием укрепил на запястье именинницы драгоценный браслет, успевая оглаживать ее пальцы. Прижал к своим малиновым губам ее ладонь, продлив поцелуй на мгновение дольше, чем следовало бы, позволяя собравшимся отметить это многозначительное страстное промедление.
Все поднялись и стали чокаться бокалами, шампанским. Дочь держала над столом хрустальный бокал, приветливая, милостивая, позволяя любить себя, восхищаться собой. Она рассылала верноподданным бриллиантовые лучи своей власти и славы.
Почти без перерыва, не давая источиться возникшему в застолье воодушевлению, поднялся Премьер. Сдержанный и деликатный, осознавая свое достоинство и значение и одновременно тонко чувствуя свое место среди влиятельных персон, он стал говорить. Слегка ироничный, немного развязный, однако собранный и чуткий внутри, премьер зорко озирал лица, наблюдая, не возникнет ли на них тень неудовольствия и раздражения от его жестов и слов. Он был готов тут же отступить и стушеваться, если аковая появится.
– Мне, собственно, почти нечего добавить к вышеизложенному, где дана самая высокая аттестация достоинств Татьяны Борисовны. Как русский офицер, должен заметить, что служение для меня есть естественная потребность, подкрепленная воинской присягой. И я, пусть это подтвердят знающие меня, не изменял ей никогда. Служить под началом нашего Президента есть высшая для меня честь, а пользоваться расположением Татьяны Борисовны – высшая для меня награда. Мне думается, что в случае, если меня поддержат мои уважаемые коллеги и друзья, мы бы могли разработать законопроект о преемственности власти, аналог акта о престолонаследии, и добиться принятия Думой закона. Повторяю, для меня не будет выше чести и награды, чем возможность служить под началом Татьяны Борисовны. За что и предлагаю поднять наши звонкие бокалы!
Он быстро осмотрел всех круглыми настороженными глазками, проверяя, не наговорил ли лишнего, так ли были поняты его льстивые шутки, не переборщил ли он с выражением преданности. Перед тем как поднести хрустальный бокал к маленькому вялому рту, сделал знак стоящему у дверей служителю. Тот на мгновение исчез, вернулся к столу, неся нарядную, золоченую, в драгоценных камушках шкатулку. Премьер принял шкатулку, нажал в ней какую-то кнопку, ящичек с мелодичным звоном раскрылся, из него выпорхнула крохотная, выточенная из слоновой кости балерина и под переливы хрустальной музыки стала кружить, поворачивая во все стороны хрупкую ножку. Премьер с поклоном передал подарок имениннице, и та с любопытством, приоткрыв от удовольствия влажные губы, стала рассматривать забавную шкатулку. Затем благодарно коснулась плеча Премьера.
Все пили шампанское, тянули из блюд лепестки красной рыбы, розовые ломти языка, рассеченные надвое яйца с горкой красных икринок. Балерина в драгоценной шкатулке продолжала танцевать и кружиться.
Поднялся Главный Администратор, столь слабый телом, что казалось, его изможденная шея и хилые плечи едва удерживают тяжелую лысую голову с остатками рыжей растительности. Он держал ножку бокала двумя руками, словно боялся, что не справится с тяжестью хрусталя, и прежде чем начал говорить, некоторое время шевелил губами, словно вспоминал, как произносятся забытые слова.
– Помимо всех перечисленных достоинств, которыми природа щедро наделила нашу дорогую именинницу, я бы особо отметил еще одно, быть может, необязательное для красивой женщины, но абсолютно необходимое для государственного деятеля. Это бесстрашие, умение рисковать и идти до конца во имя поставленной цели. – Администратор, похожий на богомола, поймавшего в лапки добычу – хрустальный бокал, – произнес эти слова шелестящим, будто шелушащимся голосом, напоминавшим ржавчину, такую же рыжую и сухую, как и его желтоватые, местами сохранившиеся волосы. – Мы пережили много трагических, предельных минут, когда решалась судьба страны, судьба власти, наша личная судьба. Кровавый коммуно-фашистский путч. Чеченская война. Последние президентские выборы, совпавшие с опасной болезнью Президента, повлекшей за собой операцию на сердце. Во всех перечисленных случаях власть качалась на шатких весах, нам грозила смертельная опасность. И всегда Татьяна Борисовна проявляла отвагу, жертвенность, неутомимость, и часто благодаря ее воле и оптимизму мы исправляли безнадежную ситуацию. За нашу воительницу, за русскую Жанну д’Арк!
Он поднял двумя руками бокал, как священник подымает дароносный сосуд. Сделал служителю знак выпуклыми, печально увлажненными глазами, и тот поднес к столу старинный кокошник, шитый золотой нитью, убранный речным жемчугом, который переливался нежным теплым перламутром.
– Позвольте, Татьяна Борисовна, я увенчаю ваше чело этим древним русским убором.
Он отпил шампанское, осторожно поставил бокал и, выйдя из-за стола, так же осторожно поместил кокошник на голове именинницы. Та распрямила плечи, приподняла подбородок, свежая, властная, полная соков и сил, поводя блистающими глазами, дыша белой шеей и полуоткрытой грудью. Все аплодировали стоя, а Главный Администратор, довольный, осторожно вернулся на место, схватил вилкой вкусный, скользкий грибок.
Хозяйственник Президента, которого за глаза многие любовно называли Плут, наслаждался обильной сладкой едой, разносолами, выпивкой, вкушая не просто яства, но и речи, казавшиеся такими же аппетитными и вкусными, как и сама еда. Приподнял свое тучное тело, облаченное в тонкий дорогой костюм, и жестом опытного застольного декламатора повел рукой, привлекая к себе внимание. Радостно и любовно заморгал лукавыми искристыми глазами.
– Это все, – распахнул он руки, умещая в объятия роскошный зал с гербами, знаменами, золоченой геральдикой, с резным троном и горностаевым пологом, – это все я готовил для вас, для народа, для России. Кто-то говорит, что это-де слишком дорого, не по карману, когда кругом такая разруха и голодуха. Но это, скажу я вам, обычное лицемерие. Люди в своей бедности, в напастях, из темных углов придут сюда и радостно ахнут: «Вот она, Россия! Жива, сильна, царственна! Значит, можно и потерпеть, когда-нибудь и у меня будет радость!» – Плут поправил на животе расстегнувшуюся рубаху, из которой выглядывал полный живот с крупным пупком. Не смущаясь, зная, что его любят, ценят, глядят сквозь пальцы на его плутовство, он поднял бокал, обводя им золотые нимбы, гербы городов и княжеств, лучистые люстры. – Уважаемая Татьяна Борисовна, видит Бог, когда я торопился построить этот императорский зал и приглашал сюда лучших ювелиров, краснодеревщиков, скульпторов, я мечтал, что успею к вашему дню рождения. Я подымаю бокал в сердце Кремля, желаю вам счастья и повторяю слова запорожцев в адрес Екатерины Великой: «Будь здорова, как корова, плодовита, как свинья, и богата, как земля!»
Мужским плотским взглядом он осмотрел именинницу, ее открытую белую шею, выпуклую шаровидную грудь, вылепленные под тканью соски. Та благосклонно улыбалась, мерцая жемчужным кокошником, и соски ее еще больше набухли под шелком.
Служитель в белых чулках и завитом парике внес подарок – старинную икону Параскевы Пятницы, издали показывая гостям смуглый лик, тускло-золотой круг, алое облачение.
– Покровительница торговли и строительства. – Плут передал икону имениннице, предварительно поцеловав старинное дерево влажными от еды губами. – Будем торговать, будем строить, будем молиться.
Именинница приняла подарок, перекрестилась, приложилась к образу, и служитель отнес подарок к маленькому столику, бережно уложил рядом с другими подношениями.
Следующим говорил Художник с утомленным лицом умного царедворца. Его прищуренные глаза смотрели жестко и холодно на эпикурейское сборище, собравшееся среди имперского величия, воссозданного по его эскизам и рисункам. Он, рисовавший множество правителей и властелинов, которые бесследно исчезли из жизни, но сохранились на его парадных портретах, теперь был среди новых хозяев жизни, пригласивших его на пир. Когда-нибудь он поместит это застолье на свой огромный холст, положит на стол перед пирующими огромную отвратительную ящерицу, на голову именинницы вместо кокошника повяжет черную гремучую змею, Администратору в растворенных губах нарисует два кровавых клыка, карманы Плута будут туго набиты ворованными купюрами, Зарецкий будет держать на коленях голенький трупик задушенного им ребенка, на Премьере генеральский мундир будет надет на голое тело, а ляжки под столом будут женские, пухлые, с приоткрытым золотистым лобком. Но все это будет позже, когда присутствующие потеряют власть и влияние. Теперь же его выцветшие губы сложились в тонкую почтительную улыбку, и он с аристократическим поклоном обратился к виновнице торжества:
– Великие женщины России всегда были ревнителями искусств. Вы, уважаемая Татьяна Борисовна, служите России в том числе и на поприще искусств. Когда Мэр, невзлюбив меня, отказал мне в Манеже, и тысячи москвичей, ожидавших открытия моей выставки, были горько разочарованы, вы, Татьяна Борисовна, замолвили слово перед Президентом за скромного художника, и Москва две недели выстраивалась перед Манежем в тысячную очередь. Один очень тонкий наблюдатель заметил, что по отношению человека к моим картинам можно судить, как этот человек относится к России. Ваша любовь к России несомненна, и русские художники ожидают от вас дальнейших благодеяний.
Он махнул служителям, и те, распахнув узорные двери, внесли портрет в тяжелой золоченой раме. Дочь Президента была изображена в бархатном синем платье, с высокой прической. Ее строгое, надменное лицо выражало властолюбие и потаенную страсть, а на белой руке, на запястье, красовался бриллиантовый браслет, точно такой же, что недавно подарил ей Зарецкий.
Все ахнули, стали любоваться портретом, сравнивать нарисованные бриллианты с настоящими. Дочь встала из-за стола, подошла к Художнику, поцеловала его в бледную, слегка отвислую щеку. Тот верноподданно поклонился, осторожно прижал к губам ее пальцы.
Застолье продолжалось. Златозубый генерал подарил Дочери кавказскую серебряную вазу с узкой горловиной и черненым узором, сказав, похохатывая, что эта ваза принадлежала царице Тамаре и та, перед тем как идти на свидание к очередному возлюбленному, пила из нее любовный напиток. Бледноликий брюнет с длинными артистическими волосами оказался французским архитектором, проектирующим на Лазурном Берегу виллу для именинницы. Он подарил ей фломастер, который якобы принадлежал Корбюзье, на ломаном русском пригласил ее весной на Средиземное море справлять новоселье.
Белосельцев, едва лишь вошел и был приглашен к застолью, испытал мучительное изумление, больное непонимание: почему его привели в этот зал и сделали свидетелем сокровенной встречи? Ему, чужаку, показали закулисную сторону власти, куда не проникал посторонний глаз. Дали подсмотреть придворную сцену, один лишь кадр из которой стоил целого состояния. Кому из присутствующих было важно его появление? Кто из сидевших за овальным столом с яшмовой тяжелой доской и гнутыми золочеными ножками поручился за него, был гарантом его преданности, дал ему охранную грамоту? Пришедшие вместе с ним Гречишников и Копейко чувствовали себя среди своих, вступали в разговоры, смеялись, наливали в хрустальные бокалы шампанское. Белосельцев вставал вместе со всеми, протягивал над столом тяжелый, в золотых и лиловых отблесках бокал, слышал, как продолжают нежно гудеть от удара звонкие стенки.
Он стоял теперь с налитым бокалом, среди горящих свечей, нарядных тарелок, хохочущих возбужденных людей, к которым склонялись почтительные слуги в камзолах, с напудренными париками, и вспоминал, как много лет назад в строгом зале съездов, быть может, в той же точке пространства, он подымался вместе с тысячью рукоплещущих депутатов, приветствуя появление в президиуме правительственных и партийных вождей. Их темные пиджаки, чопорные одинаковые галстуки. Медлительный косноязычный старец, двигая тяжелым каменным ртом, читал с одышкой доклад, где рассказывалось о строительстве новых городов в Заполярье, о создании боевых кораблей и подводных лодок, о производстве урана и алюминия, о победе национальных движений на континентах Африки и Америки, откуда только что вернулся он, Белосельцев, загорелый, изможденный, с незажившей под рубахой раной, с орденом на груди. Он стоял теперь в той же точке пространства, где была испепелена огромная эра, свернулась, словно пыльный ковер, и была унесена прочь история его жизни. Невидимый, насмешливый и злой режиссер, изобретательный, как Мейерхольд, поставил его в бутафорский расцвеченный зал, перед муляжами гербов, перед пластмассовым троном, размалеванным бронзовой краской, над которым свисал искусственный мех, раскрашенный под горностая. Кому понадобился этот жестокий театр, в котором он играет роль страдальца с помутненным рассудком?
– Мне кажется, и пусть меня поправят, если я заблуждаюсь, нам бы следовало слегка придержать финансовые потоки на Кубань, к Кондратенко. – Премьер промокнул крахмальной салфеткой маленький, как у улитки, рот, приготовив губы, влажные от еды и велеречивых слов, к серьезному разговору. – Батька Кондрат своими антисемитскими высказываниями, дикими, на всю Россию, заявлениями о «жидах», становится опасен. Его влияние растет, и казачий юг России приобретает в его лице национального вождя, готовящего деникинский поход на Москву. Мне кажется, с этим больше невозможно мириться. Его следует наказать рублем. Пусть к его резиденции придут голодные пенсионеры, безденежные учителя и матери-одиночки, и он им расскажет о «жидах». – Премьер победно улыбнулся, довольный своей изобретательностью и изощренным чутьем, угадывающим царящие за столом настроения. Однако его настороженные стеклянные глазки продолжали бегать от Зарецкого к Администратору, останавливаясь на мгновение на Дочери, от которой он ожидал одобрения.
Дочь бережно сняла с головы жемчужный кокошник, вручая его подоспевшему служителю, этим самым давая понять, что праздничная программа выполнена и можно приступить к обсуждению государственных дел, во имя которых они и собрались в тронном зале Кремля.
– Я думаю, это рискованно и несвоевременно, – произнесла она задумчиво, прозревая всю глубину возможных последствий. – В ответ на это строптивый Батька может задержать у себя урожай кубанской пшеницы, что создаст угрозу голода в других регионах. К тому же Кондратенко станет мешать прокладке нефтепровода к новороссийским терминалам, а это больно ударит по нашим дружественным нефтяным компаниям. – Она многозначительно взглянула на Зарецкого, перехватившего ее взгляд и склонившего в знак согласия узкую беличью голову. – Я бы на месте правительства выплачивала ему деньги в полном объеме, но при этом просила бы ФСБ следить за их целевым использованием. В случае нарушений, что неизбежно, завела бы уголовное дело. Контроль рублем я бы заменила контролем спецслужб, которые смогут оказывать на Батьку-антисемита мягкое и эффективное давление. – Она завершила фразу и стала разглядывать бриллиантовый браслет, любуясь переливами света, позволяя остальным любоваться переливами изреченной мысли.
– Хотел посоветоваться. – Администратор молитвенно сжал у груди длинные сухие ладони, будто вымаливал совет у молодой властительницы, привыкшей облекать свои приказания в форму мягких дружественных советов. – Накануне голосования в Думе мы, как водится, провели профилактику депутатов, не выйдя за пределы установленных сумм. Ну, Жириновский, разумеется, взял все деньги разом, в одном конверте, не делясь со своим поголовьем. Коммунисты всегда берут стыдливо, с опаской, меньше, чем им выделяют, не зная себе цену, однако необходимое число голосов мы среди них наберем. А вот «Яблоко» по-прежнему сохраняет девственность, берет не деньгами, а исключительно министерскими портфелями. Может быть, я думаю, посулить Явлинскому пост премьера в следующем кабинете и держать его на этом крючке вплоть до голосования по бюджету? – Администратор умоляюще посмотрел в сторону Премьера, чье мятое бабье лицо от возмущения покрылось малиновыми пятнами. – Это не более чем уловка!.. Червячок для Явлинского!..
У Дочери возмущение Премьера вызвало едва заметную улыбку удовольствия, в которой сквозило легчайшее презрение к слабохарактерному несмелому человеку, чье лицо, пропитанное дурным розовым соком, как перезрелая, начинавшая бродить ягода, выражало смятение.
– То, что вы делаете с бедным Явлинским последние несколько лет, должно окончиться для него психиатрической клиникой, – сказала она, тронув Премьера за локоть, успокаивая, давая понять, что он по-прежнему в милости. – Бедный, он так стремится стать Премьером, а потом Президентом, так пылко об этом мечтает, репетируя перед зеркалом присягу на Конституции, что, когда в очередной раз проигрывает, с ним случается срыв, он рыдает, у него появляется тик, раздвоение сознания и он исчезает из политики на целое время года.
Она засмеялась своей шутке, остальные вторили ей. Плут от удовольствия щурил синие глазки. Военный гоготал, держа в зубах кусок позолоты. Художник тонко улыбался выцветшими губами, переносил их всех на невидимый, еще не написанный холст.
– Еврей, который хочет стать Президентом России, является врагом всех евреев, – зло произнес Зарецкий, жадно выпивая бокал. Дочь перестала смеяться, внимательно на него посмотрела.
– Прошу меня извинить, что я опять со своим. – Густоволосый генерал казалось сжевал и проглотил кусок золоченой кровли. – Может быть, я и не прав, но слухи относительно командующего Дальневосточным округом подтверждаются. Скрытый коммунист, ведет в войсках пропаганду. Высказывается в защиту сербов, хочет возглавить русский экспедиционный корпус на Балканах. Его опасно держать на таком посту. Все-таки у нас на востоке развернута одна из самых больших группировок. Я бы еще раз хорошенько его проверил да и отправил в отставку, чтоб не мутил воду. А то ведь в войсках сами знаете какая обстановка. Много недовольных офицеров. – Лицо генерала, минуту назад дурацкое и хохочущее, приобрело мстительное и жестокое выражение, словно крамольно мыслящий командующий был его личным врагом и генерал сводил с ним какие-то давние счеты.
Дочь обдумывала навет генерала, и ей, по-видимому, доставляла удовольствие мысль, что в ее силах вершить самые ответственные и деликатные дела государства. Однако это требовало обдумывания. Невозможно было рубить сплеча. И она обдумывала, придав лицу многозначительное, углубленное выражение, позволяя остальным наблюдать, как созревает в ней решение.
– Его нельзя отправлять в отставку, – произнесла она, когда воцарившееся молчание позволило ей наконец отыскать взвешенное решение, – он слишком влиятелен в войсках. Его отставка вызовет разнотолки не только у нас, но и в Китае, и в Японии. Я слышала, освобождается вакансия начальника Академии Генерального штаба. Вот туда его и назначим. От войск подальше, к нам поближе. Вы ведь сами говорили, что Академия в условиях сокращения войск готовит комдивов и командармов для несуществующих дивизий и армий. Вот и пусть формирует добровольческий полк из безработных генералов, едет с ними добывать Милошевичу Косово.
– Татьяна Борисовна, вам бы стать министром обороны, честное слово! – восхитился генерал, вновь, казалось, отгрызая невесть откуда кусок золота, то ли от двуглавого орла на троне, то ли от золоченого канделябра. – А то нынешний больно плох, одним ухом не слышит, одной ногой не ходит! – И захохотал, приглашая остальных потешиться над престарелым глуховатым маршалом, кого в войсках называли «дедуська».
– Ну уж если мы злоупотребляем временем, отведенным на праздник, и отвлекаем именинницу на решение государственных дел, – Администратор свесил голову на тщедушной шее так, словно его взяли, как нашкодившего котенка, за загривок и готовились выкинуть за дверь, – я бы хотел обсудить кандидатуру на Государственную премию по литературе. Вчера был в московском Пен-клубе, и там в один голос назвали замечательную книгу нашего известного писателя. – Администратор замолчал, пошлепав большими губами воздух, словно тренируясь перед тем, как выговорить трудное имя, а потом назвал писателя, чью книгу о судьбе гомосексуалиста, страдающего от непонимания и одиночества, азартно обсуждали газеты и журналы и по которой уже начал сниматься фильм с известной рок-звездой в главной роли. – Мне кажется, присудив эту премию, мы исправим несправедливость по отношению к сексуальным меньшинствам, страдающим от общественного порицания и церковного осуждения. Привлечем на свою сторону многих талантливых режиссеров, художников, модельеров, ждущих с нашей стороны подобных знаков внимания.
– Почему же только художников и модельеров? – Зарецкий зло хохотнул, ударив в хрустальный бокал зубами. – По-моему, многие в Администрации Президента воспримут эту премию как личную удачу! – И увидев, как в подслеповатых глазах Администратора вспыхнули зеленоватые огоньки ненависти, сделал рот бантиком и стал поводить плечами, изображая кокетливую женщину, намекая на известную всем аномалию Администратора.
Дочь с веселой гримасой наблюдала эту комическую, длившуюся несколько секунд сценку.
– Я думаю, повременим с присуждением премии. Мы должны дорожить нашими отношениями с Церковью. Хотя, как мы знаем, некоторые церковнослужители не уступят своими романтическими наклонностями самому Версаче. Я бы предложила другого писателя. – Она назвала имя прозаика, считавшегося последователем Юрия Трифонова. – Рекомендую его книгу о герое современного духовного подполья, в котором каждый из нас в той или иной степени узнает себя.
Она улыбалась, глядя остановившимися глазами в одну точку, на хрустальный подсвечник, словно мысленно погружалась в свое духовное подполье, где, невидимые миру, копились страсти и страхи, невыявленные пороки и неосуществленные добродетели. Все молчали, не мешая ей перемещаться вниз по вертикали на самое дно души, где та соприкасалась с преисподней. Были счастливы, когда она вынырнула наконец из бездны, снова оказалась с ними, среди роскоши кремлевских палат, за богатым столом, уставленным яствами и напитками.
Белосельцев боялся верить, что его допустили в самую сердцевину власти, где влажными от рыбьего жира губами, под дурные намеки и гнусные шуточки, принимают решения, от которых возносятся и гибнут карьеры, исчезают могучие армии и гаснут научные школы, нефть по огромной черной трубе, мимо остывших городов и голодных селений, утекает за море, и на этой трубе, как на спине огромного змея, восседает голая блудница в жемчужном кокошнике, сдавливает похотливыми ляжками сплющенную головку с мокрым языком и мигающими подслеповатыми глазками. К ее возбужденным соскам с сопением и чмоканьем припали плуты и мздоимцы, придворные брадобреи и лекари. Они сучат козлиными ножками, сосут из блудницы фиолетовое, пахнущее формалином молоко, и служители в париках и камзолах отирают их булькающие липкие рты.
Он хотел понять, чего желают соратники, заманившие его в этот помпезный зал, напоминающий позолоченную маску на лице мертвеца. Но Гречишников и Копейко, забыв о нем, с удовольствием поглощали вкусную еду, оживленно беседовали с соседями по столу. Белосельцев заметил, как с розовой куропатки, которую переносил в свою тарелку Копейко, упала на малахитовый стол жирная капелька.
– Пользуясь случаем, Татьяна Борисовна, как говорится, к столу будь сказано, – Плут щурился, рассылал во все стороны синие счастливые лучики, – не пора ли вашему уважаемому батюшке подписать президентский указ о строительстве зимней резиденции под славным городом Клином? Место изумительное – холмы, леса, трамплин, горнолыжная трасса. Тут же рядом охотхозяйство, подледная рыбалка. Сам ездил, осматривал. Проект резиденции готов. Не так ли, господин Дюран? – Плут повернулся к французу-архитектору, чье бледное лицо от выпитого вина не обрело румянца, но источало голубоватое лунное свечение. – Смета готова. Фирма-изготовитель проверена. Может, сделать кремлевский зал, или, если пожелаете, синагогу, или египетскую пирамиду, или виллу на Ривьере. Я, грешным делом, подумал, зачем ездить куда-то в швейцарские Альпы, когда рядом, почти под Москвой, своя Швейцария, только лучше. Тут тебе и слалом, и охота на лося, и теплый бассейн, и апартаменты по шестизвездочному стандарту. Давайте построим, Татьяна Борисовна! У каждого царствования своя архитектура и памятники!
Он радовался своему умению придать серьезному деловому предложению видимость веселой шутки. В застолье, на ходу, между прочим, в жаркой бане или в охотничьей сторожке ловко заключить рискованную сделку, устранить многотрудную проблему, уломать несговорчивого партнера, перехитрить осторожного конкурента, приумножить достояние своего кремлевского ведомства, насчитывающего множество пансионатов, оздоровительных баз, правительственных резиденций, курортов, больниц и лечебниц, куда съезжалась избранная, окружавшая Президента знать, укрываясь от назойливых глаз. Отдыхала, забавлялась, устраивала потехи, травила борзыми волка, била из карабина медведя, пускала фейерверки, гоняла на снегоходах, учиняла праздники на воде, погружалась в бурное пьянство, впадала в бесчинства и оргии, после которых сгорали дотла охотничьи домики и коттеджи, джипы с охраной увозили пьяных изможденных женщин, а доверенная служба безопасности прятала в капроновые чехлы, задергивала длинными молниями неопознанные, безымянные трупы.
– Может, кто-то и разрушал эти годы Россию, а уж мы в нашем ведомстве строили, как никто. Как при Петре и Екатерине Великой, дворцы и усадьбы!
Плут озирал гостей, ожидая одобрения от благодушной именинницы. Но та вдруг потемнела лицом, гневно подняла глаза, и на ее лбу пролегла злая тяжелая складка.
– Не хватит ли этих проверенных фирм-изготовительниц, от которых не отмыться, как от дерьма! Может, пора поумерить аппетиты, чтобы не лопнуть! Алексашка Меншиков и дворцы строил, и казну воровал, но ведь получал от царя затрещины! Вы втянули меня и отца в эти швейцарские дрязги, от которых идет гул по всем мировым газетам. Ничего не скажешь, вы дали отличный козырь врагам отца и врагам России, впутав меня в свои махинации. Вчера, когда отцу докладывали о ходе скандалов, связанных с этими кремлевскими залами, – она ненавидяще оглядела люстры, гербы и знамена, словно швырнула все это в испуганную и огорченную физиономию Плута, – когда ему читали вырезки из «Монд», «Шпигель» и «Нью-Йорк таймс», с ним случился приступ, и мы хотели снова везти его в Центральную клиническую больницу! Это ты, – она резко повернулась к Зарецкому, произнеся грубое площадное ругательство, – ты втравил меня и отца в свои дерьмовые махинации, чтобы связать нас одной веревкой и утопить вместе с собой. Не выйдет! Веревку обрежем, тони один! Многие у нас и за границей порадуются, увидев, как в твой труп впиваются раки! Да вот беда, – Дочь криво ухмыльнулась, цокнула ртом и полезла отточенным ногтем доставать из зубов застрявшую рыбью косточку, – ты все не тонешь, потому что легче воды!..
Зарецкий вздрогнул от оскорбления. Из суетливой белки превратился в малинового пятнистого осьминога с фиолетовыми выпученными глазами, жестоким нацеленным клювом. Казалось, из него во все стороны полезли ядовитые, усыпанные присосками щупальца, готовые впиться в обидчицу, впрыснуть в нее чернильный яд. Но он, вибрируя телом, больными конвульсиями вобрал в себя щупальца. Он сидел, мелко сотрясаясь, переваривая чернильные яды. Из жестокого моллюска снова превратился в злую, рассерженную белку.
– Не могу понять, как произошла утечка, – проговорил он, поворачиваясь к Копейко. – Мы спрятали все концы в офшорных зонах, засекретили банки, сделали переводы на подставные фирмы. Нигде не фигурировали имена, объекты и суммы. Неужели против нас работает ФСБ? Неужели долбаная служба работает против самого Президента? Неужели деньги, которые я закачиваю в этих поганых разведчиков, оборачиваются против меня? Сколько мы можем терпеть этого слюнявого директора во главе ФСБ? Он ведь враг, враг! Пора его вышвырнуть вместе с Прокурором и Мэром, пока они не спровоцировали импичмент!.. – Зарецкий последние слова произнес с тонким тоскливым вскриком. И, чтобы вернуть самообладание и скрыть появившуюся на губах пенку, он жадно, залпом выпил бокал шампанского, показывая служителю, что бокал его пуст.
– Мы обсуждали эту проблему, – смиренно сказал Копейко, – она сводится к тому, чтобы в ФСБ произвести замену директора.
– Не только директора! – Довольный тем, что гнев именинницы лишь краем его ошпарил, а весь пышный, душный удар огнемета пришелся по узкой плешивой голове Зарецкого, Плут изобразил высшую степень негодования, его полные, мясистые щеки стали похожи на две фляги с вином, губы оттопырились и задрожали, и только лукавые глазки искрились в глубине синим бисером. – Не только долбаного директора, но и долбаного Прокурора, и долбаного Мэра, и долбаного Астроса, вашего, я извиняюсь, недавнего друга! – Плут едко посмотрел на Зарецкого, желая его уязвить. – Президент столько им сделал добра, столько прощал, из рук кормил, а они, как неблагодарные суки, стали его кусать.
Премьер, испуганный нежелательным для него поворотом событий, боясь, что его заставят участвовать в щекотливом разговоре, произнес:
– Неблагодарность к благодетелю – самый тяжкий грех на земле. Великий Данте поместил грешника, предающего своего благодетеля, в центр ада, где сидит сатана и грызет зубами неблагодарного. Пусть меня поправят, но, мне кажется, наступило время унять Прокурора. У нас на глазах происходит подрыв государственной власти, а мы непростительно бездействуем. Я, как русский офицер, верен до конца Верховному Главнокомандующему. Пусть мне поручат, и я создам закрытый штаб, где мы изучим проблему. – Он мямлил, его розовое экземное лицо стало серым и дряблым, как «дедушкин табак», который рассеял по ветру горчичную пудру и мятыми кульками истлевает на овражных склонах.
– Ненавижу предателей! – Лицо Дочери огрубело, на нем выступили белые хрящи, малиновые воспаления. Оно отяжелело, стало почти мужским, в набрякших складках и линиях, в маленьких оспинах и пятнах пигмента. По этим внезапно проступившим чертам можно было судить, какой она будет в старости, когда исчезнут молодая припухлость щек и сочная женственность губ.
Все, кто сидел за столом, испугались того, как стала она похожа на своего отца. И только Художник, знающий законы преображения плоти, читающий маски смерти на лицах юношей, угадывающий былую красоту на изуродованных старостью ликах, спокойно и зорко, словно в анатомическом театре, изучал новый образ разгневанной женщины, перенося его на невидимый холст.
– Ненавижу! – повторила она. – Когда отец был здоров и в силе, они ползали перед ним по земле, целовали его ночную туфлю… Помню, Мэр приехал поздравить папу на Новый год. У нас гостила племянница, совсем малютка. Мэр опустился на четвереньки, стал изображать собаку, лаял, хватал зубами папу за брюки… Отец, вы знаете его шуточки, желая повеселить девчушку, кинул Мэру на пол говяжью кость, и тот, что бы вы думали, схватил ее по-собачьи и стал грызть!.. Теперь, когда папа слаб, болеет и мы все боимся, что он умрет, они на него ополчились! Травят, науськивают народ, оскорбляют прилюдно. Этот тайный блудник Прокурор, от которого веют тлетворные ветерки порока, – он готов завести на отца уголовное дело! Этот мерзкий жид Астрос, которому мы подарили телеканал, продали за копейки, в благодарность поливает нас грязью. У них одна мечта – отстранить отца от власти, выдать нас толпе, чтобы с нас сорвали одежды, стали топтать ногами, как Чаушеску! Или посадить всей семьей в клетку, в Ипатьевский дом, и держать там до расстрела!.. Это ужасно, ужасно! – Она закрыла лицо ладонями, и все подумали, что она зарыдает. Но слезы не достигли глаз, расточились по сосудам и венам. Она отняла от лица руки, сидела прямая, с покраснелыми веками, с пульсирующей синей жилой на шее.
Белосельцеву не было ее жаль. Он испытывал к ней гадливость, чувствуя ее несвежую, близкую к увяданию плоть, скрытые под дорогим платьем и тонким бельем запахи, болезненные выделения, слизистые покровы, требующие постоянного возбуждения и утоления. Ее страхи, семейное горе, близкие рыдания среди имперских знамен и штандартов, хрусталей и уральских самоцветов были смехотворны на фоне умирающей огромной страны. Невидимая за высокими кремлевскими стенами страна издавала непрерывный стон, словно выброшенный на отмель огромный кит, которому бессчетные птицы и гады выклевывали глаза, выедали внутренности, выгрызали в ребрах кровоточащие дыры. Белосельцев расценивал страдания Дочери как признаки надвигающегося неумолимого возмездия, которое настигнет ее вместе с отцом то ли через Прокурора, то ли через вирус СПИДа или болезнь Паркинсона. Он радовался, почти ликовал, ибо был свидетелем того, как реализуется теория конфликтов, о которой час назад поведал ему Копейко. Конфликт был налицо, он разрастался, пробивал в монолите власти змеистую трещину, куда, расширяя и углубляя ее, будет введен Избранник.
Высокие двери зала, украшенные гербами, золотыми кирасами, греческим меандром, растворились, и в зал вошел человек. Никто не обратил на него внимания. Он был невысок, ладен, в скромном сером костюме. Его лицо было спокойно, приветливо. Светлые глаза внимательно, без удивления осмотрели застолье, к которому он двинулся по паркету легким шагом, взмахивая правой рукой чуть сильнее, чем левой. Приблизился к насупленному, отяжелевшему от выпивки Плуту, наклонился и что-то сказал ему в ухо. Плут кивнул, ткнул пальцем в стоящий рядом пустующий стул, и вошедший послушно опустился рядом. Он не потянулся к шампанскому, не притронулся к вкусной еде. Молча, слегка улыбаясь, стал прислушиваться к разговору, стараясь уяснить для себя, в чем суть охватившего всех раздражения, как затронуты интересы и чувства присутствующих.
Белосельцеву показалось разительным его отличие от страстных, властолюбивых персон, каждая из которых сверяла свою величину и значение по влиянию и значению соседа, чутко следя за тем, чтобы неверным словом и жестом не была нарушена невидимая табель о рангах. Шутили, злословили, позволяли себе вольности и скабрезности, но при этом чутко соотносили себя с властной всесильной женщиной, способной среди смеха и возлияний учесть интересы каждого, каждому, по его заслугам и преданности, воздать своей милостью и расположением. Вошедший человек не был включен в эту невидимую иерархию. Был посторонен, асимметричен. Из иного чертежа отношений. И этим привлек Белосельцева.
– Кто это? – спросил он у сидевшего рядом Гречишникова.
Тот промолчал, передавая архитектору Дюрану блюдо с фиолетовым виноградом.
– Кто этот маленький человек, похожий на шахматного офицера, вырезанного из слоновой кости? – повторил вопрос Белосельцев.
Гречишников дождался, когда француз положит на тарелку тяжелую матово-фиолетовую гроздь. Поставил на место стеклянное блюдо с плодами. Повернулся к Белосельцеву и тихо сказал:
– Это Избранник.
Глава пятая
Белосельцев был поражен. Избранник явился без звука, без колокольного звона, без гонца и предтечи, возвещавшего о его приближении. Прошел по слюдяному паркету, как по тонкому льду, в который были вморожены золотистые цветы и листья. Лед выдержал его легкую поступь, не прогнулся, не хрустнул, словно вошедший был невесом. Он сидел за столом на пиру нечестивых, и мерзость застолья, скверна произносимых речей не касались его. Он был тих и невнятен, как дремлющее зерно. Таил в себе будущий урожай, несуществующее грозное время, к которому готовили его хлеборобы. Будущее, которое в нем содержалось, могло проявиться мятежами и войнами, невиданной грядущей победой или необратимым поражением. Белосельцев старался поймать у Избранника слабый жест, мгновенное выражение лица, невзначай произнесенное слово, чтобы угадать, каким будет будущее. Но зерно молчало, окруженное едва заметным свечением, терпеливое, тихое, уложенное в осеннюю землю, чтобы пролежать под снегом долгую зиму, вытерпеть бураны и льды, жестокие январские звезды, уцелеть до весны и с первым ручьем и теплом кинуться в рост.
Белосельцев был счастлив, что Избранник, находясь среди коварных врагов, ничем не обнаружил себя. Оставался ими неузнан. Был окутан невидимым облаком, сберегавшим его. Если бы чуткие, пугливые зрачки Премьера, или змеиные, упрятанные в костяной череп стекляшки Администратора, или беспокойные, подозрительно и остро взирающие глазки Зарецкого, или волоокий мутноватый взгляд Дочери, или умный, пронзительный взор Художника разгадали его, ему грозила бы немедленная гибель. Прямо здесь, за столом, множество клыков и когтей, раздвоенных жал и пупырчатых щупальцев растерзали и удушили бы его. Белосельцев восхищался его выдержкой и спокойствием.
Он перестал на него смотреть, чтобы своим пристальным вниманием не раскрыть его. И снова исподволь взглядывал, стараясь постигнуть суть человека, которому уже начал служить, принес присягу на верность и, если потребуется, за которого добровольно погибнет.
Избранник сидел прямо, в свободной позе, положив на край стола небольшие красивые руки. Белосельцеву чудилось едва заметное свечение вокруг его головы и рук. У переносицы, между светлых бровей, тоже ощущалось легкое трепетание света. Застолье продолжало шуметь, возмущаться, бурно бранить Прокурора и Мэра, усматривая в них угрозу своему благополучию и власти. Оно не ведало, что к ним за стол тихо подсела их смерть.
Эту их смерть Белосельцев должен был охранять и беречь, как свою жизнь, а также жизнь тех, кто еще не успел умереть. Опустив глаза, он молился о сохранении и сбережении Избранника.
– Он знает о нашем плане? – тихо спросил он у Гречишникова. – Посвящен в Проект Суахили?
– А разве обязательно знать?
Плут заволновался, заерзал. Глаза его стали бегать.
– Слушай, забыл свой мобильник в прихожей, – обратился он к сидящему рядом Избраннику, – сходи, принеси.
Тот послушно встал. Вышел из зала. Снова вернулся, неся телефон. Любезно, с легким поклоном протянул хозяйственнику. Плут, не поблагодарив, вылез из застолья. В дальнем углу зала, под имперским трехцветным знаменем, стал набирать светящиеся кнопки. Он не ведал того, что принял телефон из рук своей собственной смерти.
– Изумляюсь тебе, умной, отважной, дальновидной! – Зарецкий накрыл своей желтоватой рукой пухлую розовую ладонь именинницы. Он был возбужден выпитым шампанским, едкой, возникшей за столом атмосферой, пропитанной муравьиным спиртом, кислым уксусом, капельками пота, которые выделяли испуганные поры рассерженных людей. – Ты боишься народа? Боишься народного гнева? Русского бунта, бессмысленного и беспощадного? Боишься, что твоим пеплом зарядят Царь-пушку и пальнут через Кремлевскую стену? Что тебя задушат шелковым шарфом в коридорах Теремного дворца? Рванут бомбой твой «Мерседес» на Успенском шоссе? Что в Ипатьевский дом придут суровые стрелки и застрелят тебя, твою сестру, твоего отца и мать, весь ваш августейший род? Ты всего этого боишься? – Он смеялся, открыв желтоватые резцы. Его кожа на лице, на лысой голове, на волосатой руке стремительно желтела, наливалась таинственным пигментом, словно он был хамелеон и менял окраску в соответствии с переживаниями и эмоциями. Желтый гепатитный цвет соответствовал сарказму и иронии. – Ты хочешь сказать, что сегодня русский народ способен, подобно сербам, устроить этнические чистки и у русских есть свой поэт кровавого восстания Караджич? Полагаешь, что русские, подобно палестинцам, с камнями и бутылками способны пойти на танки и начать священную интифаду и у них есть свой вождь-федаин Арафат? Не бойся, здесь этого нет и не будет! Солнце русской поэзии, русской литературы, русской революции погасло, и мы живем под призрачным светом мертвой русской луны! – Его лицо стало мертветь, голубеть, по невидимым сосудам и жилам побежали фиолетовые соки, проступили на щеках склеротической сеткой, полированные, ухоженные ногти на руке, прижимавшие к столу ладонь именинницы, посинели, как у утопленника. – Русский народ мертв, он больше не народ, а быстро убывающая сумма особей, за популяцией которых мы пристально наблюдаем, регулируя ее численность исходя из потребности рабочей силы и затрат на ее содержание!
Эта мысль, произнесенная среди штандартов императорской славы, гербов и геральдики великих эпох, вызвала в нем прилив жара, и он стал краснеть, багроветь, как лакмус, опущенный в кислотный раствор. И возникла мысль, что это вовсе не человек, а таинственный гриб, или водоросль, или лишайник, меняющий свой цвет под воздействием растворов и соков.
– Мы вырвали у русского народа его волю, язык, глаза, отсекли семенники, наложили на него большую ременную шлею, и теперь это народ-мерин, больше не способный скакать, а может только жалко волочить по мерзлой обочине свои пустые сани, принимая от нас, как милость, охапку гнилого сена!
Все слушали его затаив дыхание, следя не столько за потоком его мыслей, сколько за преображениями его плоти, в которой совершалась волшебная химия, возникали разноцветные растворы, двигались волны цвета, сыпались лучи дискотеки, и он был частью колдовской цветомузыки. Одна его половина была малиново-красной и быстро темнела, как фонарь в фотолаборатории, а другая становилась золотистой, словно чешуя рыбы, скользнувшей под стеклом аквариума.
– Мы отняли у русского народа его страну, он отдал нам ее без боя, и мы разломали ее на части, как плитку шоколада, и поглощаем по частям эти сладкие ломтики. Мы отобрали у русских рабочих и инженеров великолепные заводы, где они изготовляли атомные реакторы и космические корабли, заставили их производить пластмассовые бутылки для пепси-колы, и они послушно их стали штамповать на поточных линиях, где еще недавно производились лучшие в мире перехватчики. Мы отняли у русских ученых циклотроны и обсерватории, компьютерные центры и научные полигоны, и атомные физики в обносках смиренно стоят на толкучках, продают турецкие колготки и китайские плюшевые игрушки. Мы покончили с русской военной мощью, перед которой трепетала Америка, привели в негодность танковые и воздушные армии, разрушили атомный флот, взорвали ракетные шахты. Мы уничтожили военную науку и Генштаб, перессорили генералов, а остатки бессильных контингентов кинули в Чечню, под гранатометы Басаева, набив морги неопознанными телами солдат. Мы остановили, развернули вспять, сбросили в овраг, завалили отбросами, залили бетоном русскую культуру, устроив на этом месте дансинг с бесплатной марихуаной, и исколотые девочки под музыку Купера танцуют, не ведая, что под ними, глубоко зарытые, истлевают иконы Рублева, книги Толстого, скульптуры Цаплина.
Зарецкий вдруг стал терять очертания, лишался формы и цвета, он растекался, словно студень, колебался, как огромная плавающая медуза. В его прозрачной синеватой глубине, среди слизи и влажных пленок, едва заметно темнела туманная сердцевина, таинственная скважина, соединявшая эту реальность с другой, запредельной, из которой вытек загадочный водянистый пузырь, чтобы снова в нее утечь и всосаться.
Белосельцеву казалось, что дурной Мейерхольд продолжает абсурдистский спектакль. Актер, загримированный под Зарецкого, с характерным носом и мимикой, играет роль русофоба, собрав воедино все подпольные русские страхи, все угрюмые толкования о заговорах, все болезненные знания и домыслы, напечатанные неразборчивым шрифтом в бессчетных брошюрах и книжицах, в мелких листках и газетках. Актер в красном, как стручок перца, трико, в клетчатой кофте футуриста, с колпаком скомороха пританцовывал в высоте на канате, протянутом от лепного Архангела к сусальному орлу, под хрустальной сверкающей люстрой. И все, кто сидел за столом, запрокинули головы, смотрели на акробата, слушали его слова, несущиеся из-под гулких сводов.
– Если захотим, мы сгоним их с территории к железной трубе, проложенной из-за Урала в Европу, по которой текут русские нефть и газ. И они будут жаться к этой трубе, как крысы, замерзающие на морозе, и из них уцелеют лишь те, кто сумел прислониться к нефтяной магистрали. Если они станут вдруг размножаться, мы прикажем их женщинам перестать рожать, предложим мужчинам безболезненную стерилизацию. Если это не поможет, мы столкнем их в гражданской войне, и пусть они убивают друг друга, пусть русские режут татар, татары стреляют в башкир, а якуты под бубны шаманов станут курить первобытную трубку мира, в то время как мы займемся их кимберлитовой трубкой. Зараженных СПИДом, туберкулезом и сифилисом, пьяниц и наркоманов мы отправим за Полярный круг, где они тихо уснут от переохлаждения, на радость песцам и росомахам. А у здоровых мы станем брать кровь и органы и продавать в медицинские центры Израиля, утоляя ностальгические чувства евреев – выходцев из России, чтобы у них не прерывалась связь с их второй Родиной.
Канатоходец в красном трико танцевал в вышине под сводами кремлевского зала, канат дрожал и пульсировал под напряженной стопой. Белосельцев подымал ввысь двустволку, выцеливал крючконосое под колпаком лицо, сажал на вороненые стволы, бил двумя выстрелами. Огромный тетерев падал, трепыхая крыльями, разбивался о паркет, и оставался лежать среди перьев, и из его клюва вместе с каплями крови выкатывались гроздья брусники.
Зарецкий налил себе полный бокал шампанского и выпил залпом, погрузив иссохшие от страсти губы в шипящую пену и хрустальные радуги. Он помолодел на глазах, на его лысеющем желтом черепе образовалась иссиня-черная волнистая шевелюра, лицо стало бледным и красивым, как у киноактера в немом кино, и на этом черно-белом жгучем лике краснел яркий сочный рот.
– Ты не должна бояться, – он крепко сжал запястье Дочери, вдавливая в плоть бриллиантовый браслет так, что она застонала, – ты находишься под нашей защитой, и тебе не страшны русские ряженые мужики из кинофильмов о Пугачеве и Ермаке, снятых на наши деньги для показа туземным зрителям. Мы сделали твоего отца Президентом, когда это было несложно, и русский народ слюнявил один на всех карамельный леденец под названием «демократические ценности». Но мы сделали его Президентом и тогда, когда это было почти невозможно, народ его ненавидел, а он сам умирал от гниения сердца. Я держал его холодное запястье без пульса, с малиновыми трупными пятнами, когда приборы кардиологического центра показывали клиническую смерть. Я послал самолет в Америку за еврейским стариком Дебейки, и пока он летел над Атлантикой, я поехал в банк донорских органов, где держали на искусственном кровообращении вологодского солдатика с простреленным черепом и с отличным, здоровым сердцем русского патриота. Я наблюдал за тем, как извлекают из грудной клетки сердце, как кладут его в хромированный сосуд с жидким азотом, а затем сам вез по Москве этот драгоценный сосуд русской государственности, торопясь доставить в клинику к прилету Дебейки. Этот великий кудесник, похожий на сморщенную обезьянку, пересаживал твоему мертвому отцу сердце юноши, и я видел, как оно погружается в пустую, похожую на синий сундук грудь твоего отца и на осциллографе возникает первый всплеск воскресшего Президента. Теперь, когда ты видишь, как у твоего отца проваливаются глаза и изо рта начинает пахнуть могилой, объясняй это тем, что он побывал на том свете. А когда он начинает буйно танцевать под «Калинку-малинку» или «Вдоль по Питерской», знай – это танцует в нем сердце юноши, которое не дотанцевало в другом, молодом теле.
Дочь, которую Зарецкий по-прежнему держал за запястье, оцепенела, глаза ее остановились и остекленели, из полуоткрытого рта едва доносилось дыхание. Она была под гипнозом, в полной власти красавца-чародея, надевшего на нее бриллиантовый наручник, приковавшего ее навеки к себе.
– Не бойся, милая, кроткого богоносного русского народа, за который день и ночь молится его Патриарх. Русский народ в душе монархист, пусть меня поправит наш великий живописец. – Зарецкий поклонился через стол Художнику, который фломастером Корбюзье делал эскиз на салфетке. – Под колокольные звоны и вынос чудотворных икон мы провозгласим твоего отца царем Борисом Вторым, а потом, при стечении духовенства, воинства и купечества, наш утомленный правлением царь, посасывая нарядную пустышку, сделанную из натурального соска певицы Мадонны, отречется от престола в пользу любимой дочери. В твою пользу, моя дорогая…
Белосельцев понимал, что это фарс, талантливая изуверская игра великолепного актера, который играл постоянно – на бирже, на взвинченных нервах истеричной публики, на противоречиях финансовых конкурентов, в казино, за ломберным столом, на слабостях немощного Президента, на скрипке, на саксофоне, на арене нарядного цирка, куда выходили обезглавленные политики, держа в руках свои окровавленные, с выпученными глазами головы, выкатывались толпы погорельцев и беженцев, неся в руках синюшных детей, выбредали разгромленные корпуса и дивизии, выволакивая из-под огня подорванные бэтээры. Он играл и сейчас, импровизируя, пугая игрой робкую горстку людей, которые зависели от его воли и прихоти. Белосельцеву стало тошнотворно и страшно. Ему хотелось подняться, приблизиться и ударить что есть силы в лицо красавца, плюща в кровь гордый нос с актерской горбинкой, малиновые насмешливые губы, мерцающие, как черные кристаллы, глаза. Он уже стал подниматься, но успел взглянуть на Избранника. Тот сидел спокойный, потупясь, едва заметно улыбался, и по-прежнему у переносицы его, чуть различимое, ощущалось трепетание света.
– Мы устроим твою коронацию в этом зале, при великом стечении народа. Будут наши генералы, командующие армиями и округами в плюмажах, лосинах и начищенных ботфортах. По Москве-реке во всей своей гордой красе поплывет наш флот, состоящий из ста петровских ботиков и двухсот весельных сверхсовременных галер. Над Кремлем проплывут наши воздушные армии из раскрашенных бумажных драконов и крылатых китайских фонариков. Прибудут тебя поздравить представители всех политических сил. Коммунисты в шитых кафтанах, монархисты в тюбетейках, демократы в конногвардейских шлемах, еврейские женщины в русских сарафанах, славянские молодцы в ермолках. И все в один голос воскликнут: «Правь нами, царица Татьяна!» И ты, приветливая, милостивая, в бархатном синем платье, какой тебя изобразил наш великий Художник, с высокой прической, которую он выдумал тебе и только забыл нарисовать на ней алмазную корону, ты пройдешь через зал и сядешь на трон.
Зарецкий поднялся, вывел из-за стола именинницу и, легко пританцовывая, как в менуэте, подвел ее к трону, усадил под горностаевый полог, и она, околдованная, испытывая блаженство, с полубезумной улыбкой, послушно уселась, а Зарецкий, со смеющимися глазами, пал перед ней на колени:
– Да здравствует ее императорское величество, государыня императрица Татьяна Великая!
Все встали из-за стола, подняли бокалы с шампанским, чокнулись, чествуя венценосную повелительницу.
За дверями дворцового зала раздался негромкий шум, створки раскрылись, у бело-золоченых косяков возникли два молодца с проводками антенн, торчащими из розовых промытых ушей. На пороге медленно, тяжко возник Президент. Быть может, он возвращался из кремлевского кабинета, где под трехцветным штандартом, среди роскоши и драгоценного блеска вяло и сонно листал государственные бумаги, ставя кое-где наугад нечеткую подпись. Или захотел взглянуть еще раз на великолепие царственных залов, которые он возвращал России, изгоняя из Кремля последние знаки большевистской эпохи, – оставалось лишь срезать с башен рубиновые звезды и отбойными молотками вырезать из кирпичной стены урны с прахом красных. Он стоял на пороге, мутно глядя на веселое пиршество, на Дочь, восседавшую на троне под горностаевым пологом, на Зарецкого, упавшего перед ней на колени. Он был одет в застегнутый плащ, ниспадавший колоколом почти до земли, скрывавший одутловатое грузное туловище, которое постоянно мерзло от замедленного движения крови, и он надевал под плащ множество теплых вещей.
Премьер в испуге уронил салфетку, и она стала медленно падать на пол вдоль его живота. Плут от неожиданности разбил бокал, и шампанское растеклось по столу. Администратор кинулся было в сторону, желая отмежеваться от фривольной компании, но застыл на месте под оловянным взглядом хозяина. Генерал вытянулся по стойке «смирно», и казалось, вот-вот пойдет строевым шагом навстречу Верховному рапортовать о боеготовности. Зарецкий встал, отряхивая колени, превращаясь из демонического киноактера в сутулого узкоплечего вырожденца с лысым черепом и глазами испуганной белки. Именинница словно проснулась, виновато покинула трон и, поправляя прическу, смущенно вернулась к столу.
Президент увидел совершаемое непотребство, скверну, занесенную в царственный зал. В нем стал подыматься гнев, но холодная кровь, вяло толкаемая больным и немощным сердцем, не разносила толчки гнева по тучному недвижному телу и вместо ярости, слепого бешенства, хриплого клекота порождала тупую боль в голове, ломоту костей, унылую тоску, от которой глаза сжимались в узкие слезные щели, брюзгливо оттопыривалась нижняя губа и на лбу прорезалась одинокая морщина страдания.
Белосельцев смотрел на того, кого ненавидел все эти годы столь сильно, что сама эта ненависть стала источником жизненных сил, поддерживала его бытие в надежде, что когда-нибудь он увидит смерть ненавистного человека. Тот, кто толчком ноги опрокинул страну, которая рассыпалась, как трухлявая колода, воитель, один одолевший могучую партию и разведку, оратор, прочитавший с танка смертный приговор коммунизму, беспощадный палач, спаливший Парламент и перебивший из пулемета тысячу безоружных людей, тиран, превративший цветущий Грозный в обугленный котлован, – этот человек стоял теперь бессильный и дряблый, и по его одутловатой щеке катилась слеза старческой немощи. Белосельцев, изумляясь, испытал к нему подобие сострадания.
– Веселитесь? – спросил Президент от порога, не ступая в зал. – Хотите меня в тираж списать?.. Да вас без меня сразу повесят, так вы народу обрыдли… Скоро сам уйду, сил больше нету… Хотите жить, ищите преемника… Хорошо ищите, а не то найдете такого, кто вас живьем закопает… Еще есть у вас пара месяцев, а потом поздно будет. – Он умолк, покачнувшись, будто прихлынула к его голове дурная кровь и все скрылось в красном тумане. Повернулся и исчез в дверях, увлекая за собой молодцов с антеннками, торчащими из промытых ушей.
Все облегченно вздохнули. Премьер нагнулся, подбирая салфетку. Плут налил шампанское в чужой бокал и жадно выпил. Генерал громко загоготал, рассказывая анекдот. Администратор цапнул вилкой ломтик севрюги и стал мелко жевать. Белосельцев стоял рядом с Гречишниковым и Копейко, оглядывал зал, желая увидеть Избранника. Но того не было. Он незаметно исчез, неясно, в какую минуту.
К ним подошел Зарецкий, возбужденный и злой. Обратился к Копейко:
– Надо кончать с Прокурором! Можете или нет остановить Прокурора?.. Я держу службу безопасности, соизмеримую с государственной спецслужбой… Располагая средствами, которые я вам предоставил, вы можете наконец остановить Прокурора?
– Считайте, что он остановлен. Через несколько дней мы заставим его уйти в отставку. Но этого мало.
– Что еще? – Зарецкий нервно ломал желтоватые пальцы, издавая неприятные хрусты.
– Мы должны сменить директора ФСБ. Вы правильно сказали, что этот тип куплен на корню Астросом и работает против нас. Мы должны поставить там надежного человека.
– Подберите кандидатуру. Я поговорю с Татьяной. Президент подпишет указ. Но не раньше, чем вы остановите этого долбаного Прокурора.
– Считайте, что он остановлен.
Зарецкий отошел к столу, где снова ели и пили.
– Мы можем идти, – сказал Белосельцеву Гречишников, – полдела сделано.
Не прощаясь, они вышли из парадного зала.
На выходе из Боровицких ворот постовой механическим жестом отдал им честь. Они подымались по Каменному мосту от Кремля, над рекой, по которой ветер водил легким серебряным веником. Навстречу, похожие на жуков-плавунцов, скользили машины в слепом неуклонном стремлении. «Ударник», словно мучаясь тиком, дергал бледной рекламой «Рено». Дом на набережной смотрел печальными глазами расстрелянных комиссаров. Округлость моста воспринималась как кривизна земли. В утомленных опорах и балках гудела железная музыка былых поколений.
– Ты показал мне мерзость, – Белосельцев мотнул головой на Кремль, где за розовыми стенами, среди золотых куполов чьи-то желтые зубы продолжали драть мясные волокна, шматок жирной рыбы падал на драгоценный паркет, мокрые губы громко тянули шампанское. – Я должен был это видеть? Зачем?
– Видеть, чтобы ненавидеть, – засмеялся Гречишников, и его смех оставил на реке отпечаток, словно махнула крылом большая птица. – После этой встречи нам легче будет осуществить операцию «Прокурор», в которой тебе выделена ключевая роль.
Комиссары в красных петлицах и ромбах смотрели из окон большого дома. Гудела железная музыка мертвых времен. Они миновали высшую точку моста, от которой синусоида скатывалась в Замоскворечье. Над потоком глянцевитых машин возвышалось здание времен сталинизма. На крыше трепетала реклама в виде красной бабочки, созданной из стеклянных газовых трубок. Белосельцев смотрел на бабочку как на символ своей прожитой жизни, который следовал за ним на всех континентах, над полями сражений, горящими городами и селами. Старался припомнить, на каком цветке – в пойме Меконга, на топком берегу Рио-Коко или в африканской саванне – он видел эту красную бабочку.
– В чем суть операции «Прокурор»? – Белосельцев смотрел на то, как красные крылья трепещут в московском небе. Бабочка, словно тотемный бог, следовала за ним по пятам, управляла его судьбой.
– Прокурор осторожен и чуток. Он – сверхточное оружие Мэра и Астроса в их смертельной войне с Истуканом. Он ощущает себя ракетой, которую будут сбивать. Множество глаз и радаров следят за его полетом. Он не догадывается, что это мы через швейцарских юристов сбрасываем ему информацию – наименование офшорных фирм и криминальных банков, через которые кремлевские воры утягивают из России несметные состояния. Он крайне осторожен в высказываниях, нелюдим, не идет на контакты. Хочет затеять громкие дела против Истукана и его окружения в момент президентских выборов. У него две человеческие слабости. Он тайно блудлив и время от времени хватает на бегу лакомые кусочки. И коллекционирует бабочек, покупая их во время зарубежных поездок. Кичится своей великолепной коллекцией. Эти слабости его и погубят, если ими умело воспользоваться…
Белосельцев вспомнил африканский глянцевитый куст с розовым соцветьем, на котором сидела красная, напоминавшая алебарду нимфалида. Она раскрыла чуткие крылья, комкала хрупкими лапками пышное соцветье, погружая раскрученную спираль хоботка в сладкую сердцевину цветка. Он тянул к ней сачок, чувствуя ее трепетную легкую жизнь, желая ее сразить и поймать.
– Ты выманишь его на свидание. Он домогается встречи с тобой, мечтает посмотреть твою замечательную коллекцию. Мечтает обменять ангольских бабочек, пойманных тобою в долине Кунене, на своих, бразильских, купленных на рынке в Сан-Паулу. Ты назначишь ему свидание в квартире, которая расположена в этом доме. – Гречишников указал на сталинское строение, увенчанное стеклянным газовым ангелом. – Мы развесим по стенам твою коллекцию. Ты станешь рассказывать ему о своих боевых трофеях, добытых не автоматом Калашникова, а воздушным куском кисеи. Твоя секретарша, которая на деле будет валютной проституткой гостиницы «Метрополь», станет потчевать вас коньяком, очаровывать Прокурора. «Эликсир любви», который она нальет в рюмку, усыпит его бдительность, сделает сентиментальным и страстным…
Красная нимфалида сидела на цветке среди эфирных испарений, и он тянул к ней сачок, готовясь ударить, прочерчивая зрачком траекторию к той пустоте, где через секунду окажется прозрачная кисея, в которой, просвечивая, станет мягко шелестеть пойманное алое диво. Он тянулся сачком, умоляя незримого лесного божка, владеющего африканской опушкой, повелевающего бабочками, антилопами, птицами, чтобы он даровал ему эту добычу. Хотя знал, что промахнется и бабочка от него улетит.
– Прокурор останется наедине с валютной красавицей, и та обольстит его. На широкой, как чистое поле, кровати он возбудит не уголовное дело, а нечто иное, на что будут направлены две телекамеры, спрятанные в потолке и стене. Когда он наконец застегнется на все свои прокурорские пуговицы и покинет квартиру, мы уже будем рассматривать уникальные кадры любви, которые войдут в анналы отечественной юриспруденции. Копейко смонтирует отличную ленту под музыку из кинофильма «Мужчина и женщина». И, быть может, в тот же вечер, сразу после вечерних известий, на канале Зарецкого изумленные зрители увидят того, кто воюет с кремлевским вором. Правда, детям до шестнадцати лет смотреть такое заказано…
Он ударил сачком, сшибая пустой цветок, цепляя кисею о колючки. Знал, что промахнулся и бабочка от него улетела. Она мчалась, удаляясь в жарком тумане, как крохотная красная искра. Из кустов смеялся над ним злой африканский божок. В горе, не в силах расстаться с мечтой, он кинулся следом за бабочкой, проламывая кусты, разрывая одежду, чувствуя, как загораются на теле длинные ожоги царапин. Бежал, задыхаясь, размахивая древком сачка, пронося несчастное, горячее от пота лицо там, где только что промчался крохотный красный ангел.
– Эти кадры возмутят общественность и дадут основание отстранить Прокурора от должности. Будут заморожены все крупные уголовные дела, направленные против Истукана. Мэр лишится оружия. В знак благодарности за блестящую операцию будет смещен директор ФСБ, и на его место сядет наш человек. Так завершится операция «Прокурор», один из фрагментов Проекта Суахили…
Бабочка, которую много лет назад он не догнал в африканской саванне, теперь, созданная из стекла, наполненная пылающим газом, присела на крышу московского дома, куда он должен войти. Он стоял, изумляясь таинственным совпадениям, в которых скрывалась тайна многомерного мира, куда страстно стремится душа и где она окажется лишь после избавления от плоти.
– Тебе понятна твоя роль? – спросил Гречишников. – Знаешь, как действовать?
– Я не буду действовать, – сказал Белосельцев.
– Почему?
– Гадко. Это вопреки моим этическим нормам.
– Неужели? – Оранжевые глаза, как ягодки рябины, вмороженные в ледяной круг, приблизились к лицу Белосельцева. – Твоя этика запрещает тебе быть подсадной уткой, ибо ты, как мы договорились, скворец? Но разве тебе неизвестно, что в атласе разведок подсадная утка есть самая распространенная птица? Что ею в любой момент может стать пеликан, или сова, или дикий голубь витютень? Это честь для разведчика – облечься в утиное оперение и немного покрякать, подманивая глуповатого селезня.
– Мне претит заманивать в постель к проститутке подвыпившего мужчину. Не хочу быть подсадной уткой.
– А разве ты ею не был однажды – в баре отеля «Дон Карлош», куда заманили Маквиллена и где он был арестован?
Сумрачный бар отеля. Полированная красноватая стойка с отражением цветастых бутылок. Узорная телефонная трубка. Бутафорский рыцарь в углу. Из далеких дверей навстречу идет Маквиллен, светловолосый, веселый, что-то издали ему говорит, дружелюбно кивает. С обеих сторон, из потаенных углов, кидаются на него чернолицые агенты разведки, крутят руки, утаскивают. И тот, оборачиваясь через плечо, кидает на него укоризненный взгляд.
– Если ты внимательно изучал мое африканское досье, – Белосельцев хотел уклониться от близких рябиновых ягодок, вмороженных в лед лица, – ты должен знать, что Маквиллен заманивал меня в ловушку. Это было под Лубанго, по дороге в Порт Алешандро, где меня пытались убить. Маквиллен враг, и в баре «Дон Карлоша» я поступил с ним как со смертельным врагом.
– Те, с кем мы боремся, – враги человеческого рода. К ним неприложима этика. Их истребление – богоугодное дело. Их пребывание в Кремле стоит Родине каждый год миллиона жизней. Нет такой цены, которую не заплатил бы народ, чтобы их уничтожить. Их истребление требует не выстрела, не взрыва, не победы на выборах, а сложнейшей интеллектуальной игры, а также молитвы старцев, которые своими помыслами блокируют их демонические силы. От тебя мы требуем ничтожных усилий, а результат последует огромный. Тебе нельзя отказаться…
Они стояли у подножья моста, на котором толпились глянцевитые жуки-плавунцы. Ветер прикладывал к реке серебристые пышные папоротники. Трепетала на кровле огромная стеклянная бабочка. Это был генерал Авдеев, продевший руки под стеклянные трубки, готовый вспорхнуть в небеса.
– Ты согласен? – спросил Гречишников.
– Да, – сказал Белосельцев. – Кто станет директором ФСБ?
– Им станет Избранник.
…Они приблизились к дому с бабочкой, обогнули его со двора. Под деревьями стояли машины, напоминавшие коллекцию разноцветных жуков. В одной из них, с затемненными стеклами, мог скрываться приемник, снимавший сигнал с телекамеры. Пока Гречишников заостренным пальцем постукивал по кнопкам кодового замка, Белосельцев высматривал, не топорщатся ли над капотом машины усики приемных антенн, не мелькнет ли за темными стеклами красный уголек сигареты. Мягкий лифт вознес их на верхний этаж. Они остановились перед серой замшевой дверью, на которой был выбит затейливый готический номер. Гречишников, орудуя ключом, открыл замок заветной квартиры.
На них пахнуло теплом и уютом, словно квартира была обитаема и где-то рядом, среди просторных комнат, вольных гардин, находился хозяин, любитель вкусного табака, дорогого одеколона, душистого мыла, а также старинных фолиантов, источавших сандаловые запахи древнего клея.
– Твой дом, – широким жестом радушного домовладельца Гречишников пригласил Белосельцева. – Здесь все отвечает твоим привычкам и вкусам.
Белосельцев удивился сходству этого сфабрикованного жилища с его собственным домом, словно кто-то изучал его быт и привычки, бывал многократно в его кабинете, гостиной, делал опись его безделушек и книг. Черные африканские маски Анголы и Мозамбика. Эфиопские цветные лубки, тисненные на пергаменте. Глиняные божки мексиканских пирамид и надгробий. Звонкая бронза Востока с фигурками летающих дев. Гератское стекло, похожее на голубые сосульки. Пуштунские ожерелья и бусы среди черно-красных кандагарских ковров. Это был дом путешественника, собравшего за долгую жизнь фетиши своих странствий, амулеты своих походов, талисманы своих сражений и войн.
– Вот бар, где любимые Прокурором виски, коньяки и марочные французские вина… Вот холодильник, где уже готовы кубики льда… Вот полка с кофейным сервизом и вкуснейшим бразильским кофе… Рюмки, бокалы, пепельницы для дорогих сигарет…
Гречишников ввел Белосельцева в кабинет, где стоял старинный письменный стол с гранитной чернильницей и стеклянными пустыми кубами, небрежно лежали бумаги и книги и, белый, словно вырезанный из снега, мерцал компьютер. На книжных полках пестрели лаковые паспарту и старинные кожаные корешки научных журналов, географических атласов, этнографических справочников и живописных альбомов. На журнальном столике лежал забытый энтомологический атлас с многоцветьем африканских нимфалид и альбом буддийских храмов, где черно-белые, словно из метеоритного камня, барельефы Ангкора воспроизводили сладострастные позы восточной любви.
– Здесь все говорит об уединенных трудах старого воина, который пишет одиссею своих походов, житие своих подвигов… Труд, который ты затеял и в котором тебе помогает молодая прелестная помощница, любя твои седины и раны, этот труд называется «Житие генерала Белосельцева». – Гречишников мягко усмехнулся, словно нехотя расставался с мечтой написать свою собственную книгу жизни, отдавал эту мечту Белосельцеву. – А это твоя опочивальня, место, где Прокурор сразится с обольстительным демоном и падет в неравной борьбе…
Они вошли в спальню, пустую и белоснежную, с полупрозрачными розовыми занавесками, где стояла просторная кровать, устланная полосатым восточным покрывалом, с длинными мутаками, обшитыми цветастым шелком.
– Стены, как видишь, пустые. На них мы развесим твою коллекцию, и битва Прокурора и демона будет проходить на этой арене, окруженной тысячами молчаливых крылатых ангелов, желающих поражения демону. – Гречишников радостно засмеялся, довольный своим сравнением. Он приподнял палец, к потолку, где висела красивая люстра из тонких бронзовых лент. Затем перевел палец к окну, к узорному карнизу, на котором висел прозрачный занавес. – Там телекамеры, установленные великим Антониони… Черно-белый и цветной варианты…
Белосельцев стал осматривать стерильно-чистые стены, где через несколько дней засверкает его коллекция. Просторную, без единой складки, кровать, на которую, среди восточных мутак и полосатых покровов, возляжет наивный, опьяненный любовник. Комната была операционной, куда приведут пациента, уложат под хирургическую сверкающую лампу, вольют обезболивающие растворы, наденут на лицо маску веселящего газа. И тому померещится, что он молод и свеж, его ласкает и нежит прелестная апсара, над ним летают восхитительные любимые бабочки. И в это время, под зрачком телекамеры, опытный хирург проведет операцию.
Из него извлекут крохотный красный лоскут мозга, кинут пинцетом в эмалированный, забрызганный кровью сосуд. Вставят маленькую золотую пластину, которая утонет среди пульсирующих сосудов, мягких слизистых тканей, прозрачных, как жир, студенистых складок. Он очнется с маленькой ранкой на темени, забыв, где он был, что с ним сделали. Побредет, как в дурмане, лишенный воли и разума, испытывая необъяснимые приступы страдания и ужаса. Будто кто-то невидимый вонзает ему в мозг тончайшее жало, впрыскивает капельки яда. Управляемый этим страданием, ведомый неизъяснимым неисчезающим страхом, он будет двигаться в непонимании жестокого мира, куда его поместили, в котором, словно в бреду, возникают пугающие видения бабочек, розовая колеблемая занавеска, прелестная женщина, наклонившая над ним розовую нежную грудь.
В прихожей раздался звонок, напоминающий нежные переливы клавесина.
– А вот и героиня романа. Та, которой ты диктуешь свои военные саги. – Гречишников заторопился в прихожую открыть дверь.
Вошла молодая женщина, прелестная и приветливая, изначально, от порога, излучающая красоту, очарование, рассчитанные на немедленное приятие и влечение. Все источало в ней свежесть и женственность: светлые, расчесанные на прямой пробор волосы, золотистые, с изумлением приподнятые брови, блестящие смеющиеся глаза, свежий, с милой усмешкой рот, нежный приподнятый подбородок. Она была похожа на дворянскую барышню, поступившую на Бестужевские курсы, какой желает видеть ее нынешнее, измученное сознание. Таково было первое от нее впечатление, взволновавшее Белосельцева. Но вторым, зорким и опытным взглядом он различил едва уловимую ненатуральность этого милого и простодушного образа. Весь этот облик был создан, сконструирован, надет на нее и плотно подогнан, скрывая под собой иную, незримую сущность, о которой не следовало знать и заботиться повстречавшемуся ей человеку. Ее красота и свежесть казались целлулоидными, кукольными. Блеск и свечение – целлофановыми и пластмассовыми, как у дорогого, вечно улыбающегося манекена, на который в озаренной промытой витрине надевают ювелирные украшения, дорогое белье, модные туалеты, в надежде на богатого покупателя, способного заплатить за качественный товар.
Ее наряд – жакет, блузка, короткая юбка, туфли – был вычерчен на тончайших лекалах, повторявших очертания тела, был измерен и вычислен до микрона, сочетая приоткрытую выпуклость груди с нежной белизной шеи, выступающие овалы коленей с гибкими, чуткими щиколотками. Каждая пуговка, крючочек и запонка, металлические и пластмассовые молнии были удобны и оправданны, как на чехле механизма, позволяя быстро и ловко освободить дорогой механизм от защищавшей его оболочки.
Ее маленькая кожаная сумочка с кармашками и застежками, чуть потертая от употребления, напоминала саквояж мастера с набором рабочих инструментов, где каждый имел свою ячейку, был под рукой, быстро и точно использовался. В этой плотно застегнутой сумочке, в каждом отдельном кармашке таились средства обольщения, гигиены, книжица с адресами клиентов, ключи от машины, а в кожаном узком отсеке – длинные мутно-зеленые купюры, полученные за выполненную работу.
Белосельцев смотрел на молодую прелестную женщину, стремящуюся очаровать его, расположить к себе веселыми круглыми глазами, милой улыбкой, струйкой золота на белой дышащей шее, и знал, что созерцает прекрасно выполненную, безупречную в исполнении «машину любви», способную утолить самый изысканный вкус, ответить на любой каприз, доставить наслаждение самому изощренному и искушенному знатоку. Так новая модель автомобиля, построенная по последнему слову техники, вызывает восхищение у опытного гонщика, когда он становится владельцем ее восхитительной пластики, упругой силы, кожаного салона, вкусных ароматов, комфортного дизайна, где каждый перелив света, каждый нежный изгиб и звук вызывают наслаждение, переходящее в головокружительную страсть, в слепой порыв, в перламутровый блеск размытого скоростью мира, в котором мчится потерявший рассудок ездок, погибая в смертельной вспышке и смерти.
– Здравствуй, Вероника, здравствуй, красавица! – по-отечески ласково приветствовал ее Гречишников. – А это Виктор Андреевич, которому ты помогаешь писать мемуары… Виктор Андреевич, это Вероника, твоя секретарша, которой ты надиктовываешь одиссею своей многотрудной жизни… Как говорится, любите друг друга и жалуйте.
Довольный, доброжелательный, он поглядывал на обоих. И Белосельцеву почудилось, что взгляд у него острый, холодный, точный, как у механика, осматривающего сложные, дорогостоящие механизмы, перед тем как пустить их в дело. В его глазах Белосельцев тоже был машиной, которую после долгого стояния вывели из ангара и теперь пробовали в работе, тайно сомневаясь, провернутся ли застоялые валы и колеса, схватит ли горючую смесь холодный двигатель, превратит ли в жаркий взрыв, в нарастающее вращение вала.
– Очень приятно, – произнесла женщина. Голос ее был звучный, сочный, но и в нем Белосельцеву почудились искусственные, неживые интонации, как в электронной музыке, когда знакомый милый мотив, пропущенный через синтезатор, обретает холодное металлическое звучание. – Я знаю, вы много путешествовали по Африке. Бывали в Анголе и Мозамбике. Какой эпизод ваших путешествий вы будете мне надиктовывать?
– Не знаю, – смутился Белосельцев, улавливая исходящий от женщины тончайший аромат духов, вдруг сравнивая его с неуловимыми запахами эфиров, которые бабочка, черно-зеленый светящийся махаон, оставляет в воздухе, прочерчивая среди ветра, солнца, древесной листвы и душных испарений болот невидимую трассу, по которой летят опьяненные, одурманенные самцы в поисках пролетевшей черно-зеленой самки, и он, стоя на берегу океана, подняв высоко сачок, захватывает в него вместе с синими солеными брызгами и белыми песчинками кварца пышного страстного махаона, похожего на сорванный ветром цветок. – Не знаю, – повторил он, – может быть, эпизод в ночной Луанде, на берегу лагуны, в отеле «Панорама», где собрался весь «бомонд» ангольского общества…
– И конечно, вы танцевали с черной красивой женщиной… – Она произнесла это приветливо, без всякой заинтересованности, все с той же целлулоидной улыбкой, за которую было уплачено, но эти случайно, наугад оброненные слова вдруг взволновали его.
Бархатная африканская ночь. Черная лагуна с золотыми веретенами отраженных огней, там, где днем взлетали в воздух тяжелые литые тунцы, держались миг, переливаясь на солнце, и рушились с плеском в воду. Сиплый рокочущий саксофон, похожий на изогнутое морское животное, которое целуют мягкие замшевые губы. Он обнимает за талию Марию, чувствуя пальцами гибкие позвонки на ее обнаженной спине, прижимает к себе ее длинные груди, видя за ее обнаженным затылком, как кружится белая балюстрада, проплывают черный фрак дипломата, пятнистый мундир военного, и кажется, что веранда медленно отрывается от земли, возносится над туманной водой к звездам.
– Я бы хотела услышать историю вашей жизни, – серьезно сказала она, – хотела бы узнать о вашем путешествии в Африку.
Переживание, его посетившее, было больным и острым. Этой сочной болью и сладостью он был обязан милой, равнодушной к нему женщине, которая с любопытством рассматривала атлас африканских бабочек и черно-каменные барельефы Ангкора.