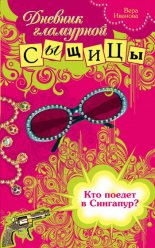Профессор бессмертия. Мистические произведения русских писателей Сборник

– Там в лесу у меня место такое есть… Я сейчас сына пошлю костер развести. Там и увидишь, что будет.
– Маскаева брать? – спросил после раздумья Сухоруков.
– Нет, пущай выспится около лошадей… Ему проспаться надо, коли решил ты его к ней снаряжать… Вот что, барин, я пойду сейчас к лошадям; ему заодно все скажу, как и что надо делать… А когда ему идти, вы уж, значит, сами его позовете и ему прикажете…
Сухоруков кивнул головой в знак согласия. Колдун вышел из избы.
Сухоруков понимал все значение согласия, данного колдуну, понимал значение происшедшего с колдуном разговора. Но это не пугало Сухорукова. Он был не из робких. «Решаться так решаться…» – пронеслось в его голове.
Через несколько минут колдун вернулся.
– Объяснил все и уложил Маскаева спать в телегу, – объявил Батогин, – и сына послал в лес костер разводить.
Колдун подошел к столу, за которым сидел Сухоруков. Постояв немного, он сел на лавку рядом с барином.
– Мы с тобой здесь пока, значит, посидим да покалякаем, – сказал он довольно фамильярно. – Уж ты позволь мне посидеть около тебя, уморился я стоять-то…
Сидя на лавке у стола, Батогин поглядывал исподлобья на Сухорукова. Он, по-видимому, не особенно стеснялся своего гостя.
Лучина вспыхивала и освещала скуластое лицо колдуна, обросшее рыжей бородой, с волчьим тяжелым взглядом. Вся эта обстановка общения с колдуном для Василия Алексеевича казалась совсем странной. Этот дерзкий мужик, сидящий рядом с барином, был явлением, по тогдашним временам, необыкновенным.
– Тут еще одна закавыка есть, – прервал наконец молчание колдун. – Крест может вам помешать… Все дело может испортить…
– Крест! Какой крест? – удивился Сухоруков.
– А который у тебя на шее. Его надо снять! – сказал Батогин. – Крест ты с себя, значит, сними.
Лицо Василия Алексеевича сделалось серьезным.
– Креста я не сниму, – сказал он. – Это благословение моей матери.
– Тогда нечего нам и соваться, – объявил колдун. – Тогда сами, барин, делайте… Дело ваше и ответ ваш. Коли ты в кресте будешь, я ведовать не пойду.
Тяжело было Сухорукову расстаться с заветной вещью, хоть он и смеялся, как он говорил, над всяким таким суеверием. Крест этот был все-таки дорог Василию Алексеевичу. С мыслью о нем соединялось воспоминание о матери. Он вспомнил, как она однажды, обнимая его, еще ребенка, надела на его шею этот крест на золотой цепочке.
– Ну что же, барин, надо решаться, коли удачи хочешь. Чего тянуть-то… – настаивал колдун.
Сухоруков сделал усилие, отстегнул ворот, снял крест на цепочке с шеи и положил его на стол.
– За печку его закинь, – не унимался колдун. – За печку надо его бросить, – пояснил он.
Сухоруков взял со стола крест, подошел к печке и бросил его за трубу.
– Ну вот, теперь ладно! – сказал Батогин. – Теперь можно и в лес.
Колдун снял со стены висевший на гвозде фонарь, вынул из него сальную свечу, зажег ее об лучину и поставил свечу опять в фонарь на свое место. Лучину он погасил.
Они вышли.
Летняя ночь пахнула своим дыханием на Сухорукова, когда он вместе с колдуном вышел из избы. Царила торжественная тишина. Тишина эта была неожиданно нарушена рычанием собаки, лежавшей под крыльцом, но собака тотчас умолкла, получив окрик от своего хозяина.
Василия Алексеевича всего сразу охватило впечатление от этой торжественной ночной тишины. Его охватило впечатление от чистого, прозрачного небесного свода, распростертого над ним, безмолвно на него смотревшего; от горевшего тысячами звезд бездонного пространства небесного – пространства с мириадами неведомых жизней… Что-то таинственное было во всем этом, что-то бесконечно значительное, проникавшее глубоко в душу… Что это было такое, Василий Алексеевич не понимал. Но то, что он сейчас почувствовал, унесло его далеко от совершившегося в избе.
– Сюда, барин, не споткнись, тут канавка, – говорил колдун, идя впереди Сухорукова и освещая путь фонарем. Они обходили пчелиную пасеку. Колодки пчел вырисовывались в стороне.
Они вошли в лес, скрывший от глаз Сухорукова небесный свод. В лесу было темно, так темно, что без фонаря и сам колдун не пробрался бы по извилистой тропинке.
Не мог отдать себе отчета в своем теперешнем душевном настроении Василий Алексеевич. Ему стало вдруг тяжело.
«Откуда эта тяжесть?» – спрашивал он себя. Ведь вот теперь, решаясь на рискованное дело, которое должно было спасти свободу его и отца, спасти их право удовлетворять своим желанием наслаждаться жизнью, как они хотели, – идя на это дело, он, Сухоруков, привыкший верить в себя, в силу своих решений, в свою удачу, вдруг ощутил какую-то жуть.
И чего ему было бояться? Все, казалось, ладилось… Безумное предприятие обещало осуществиться. Ведь не в таких еще переделках он бывал… Пережил он сколько раз и отчаянный риск бретерства и дуэли… И поединок один на один с медведем. Что же сейчас его томило и мучило? И эта чудная ночь, которая так сразу его охватила, и она куда-то ушла, и на сердце лежит камень, лежит мучительно, и он, Сухоруков, не может с себя его стряхнуть…
«Это крест я с себя снял, – мелькнуло в мозгу Василия Алексеевича, – мать обидел». Но на это сейчас же появилась на лице его насмешливая улыбка. В ответ у него сейчас же блеснула ироническая мысль: «Где это она там? Откуда это видит? Чего я кисну!.. Ведь это же все дурацкие страхи».
Он шел за колдуном, погруженный в свои тревожные думы.
Колдун медленно продвигался вперед по тропинке, минуя разные преграды, которых бывает так много в дремучем лесу. Он освещал фонарем дорожку. От фонаря ложились причудливые тени по ближайшим сучьям деревьев и по кустам. Шаги пешеходов тревожили ночную тишь… Вот они спугнули из мелькнувшего дупла какую-то большую птицу, которая пролетела в сторону, резко захлопав крыльями. Пройдя еще немного, колдун и Сухоруков вошли в сосновый лес с красными стволами, поочередно освещаемыми фонарем. Наконец вдали за деревьями показался огонек.
– Это Митька костер зажег… – пояснил колдун. Еще несколько минут, и они вышли на небольшую поляну посреди старого хвойного леса, стоящего стеной вокруг. Место было глухое.
На поляне горел небольшой костер. На фоне костра вырисовывалась фигура сидящего у огня сына колдуна. Митька подкладывал в огонь хворост, набранный в лесу.
Колдун и Сухоруков подошли к костру. При свете огня было видно, что здесь место кругом костра было расчищено, что была снята трава – был сделан ток, как это делают мужики на гумнах для молотьбы хлеба.
– Вот, барин, здесь и остановка, здесь и посмотришь, как мы с Митькой колдовать начнем, – сказал Батогин. – Только… чур, не пугаться… робеть нельзя. А Митька у меня малый твердый и все понимает, даром что глухой и немой, – разъяснял колдун. – Митька глаза моего слушается; он чует, что надо. Вы, баре и офицеры там разные, этого не понимаете… не понимаете, как в молчанку можно разговаривать и приказания давать, а мы знаем, что такое дух, какая в человеке сила…
Митька обернулся лицом к отцу. Лицо Митьки осклабилось улыбкой. Точно он действительно понимал, о чем сейчас говорил отец.
Колдун взял топор, лежавший у костра, направился к лесу и скоро исчез в темноте.
Вся эта необычайная обстановка, в которую попал Сухоруков, эти странные отец и сын, приготовлявшие что-то таинственное и значительное, не могли не поразить воображение Василия Алексеевича. Нервы его были напряжены. Он внимательно вглядывался во все окружающее. Он обратил внимание на то, что около огня, кроме небольшой кучи хвороста, лежала еще другая куча с какой-то не то хвоей, не то травой. Сухоруков недоумевал, зачем это колдун взял топор и ушел.
Через несколько секунд это разъяснилось – колдун вернулся к костру, держа в руках небольшой кол. Он нагнулся у костра и начал топором его обтесывать и заострять.
– Что это у тебя здесь приготовлено? – сказал Сухоруков колдуну, показывая на кучу с травой.
Колдун оторвал голову от работы и, взглянув на Сухорукова, ответил:
– Это, барин, вереск. Разве не знаешь? Не видывал? У нас в казенном лесу его много. Мы его жечь будем…
Колдун закончил обтесывать и заострять кол, бросил топор на землю. Сухоруков заметил, что лицо колдуна сделалось сосредоточенным и серьезным.
– Ну, барин, я дело начну, – строго объявил Батогин.
Колдун встал в торжественную позу перед костром и что-то забормотал. Он приподнял кол острием вверх над головой и держал его таким образом несколько секунд. Затем он внезапно обвел колом вокруг своей головы, продолжая тихо говорить что-то непонятное. Пробормотав еще немного, он отошел от костра и начал острием кола, нажимая на него во всю силу, очерчивать линию вокруг костра.
Сухоруков с любопытством молча наблюдал за колдуном; он проникался серьезностью того, что делалось. Василий Алексеевич сознавал, что не следует разными вопросами мешать Батогину, не следует выбивать его из его настроения.
Когда колдун очертил на току острием кола большой круг, то, обратившись вдруг к Сухорукову, повелительно ему сказал:
– За круг, барин, не ходи. Там опасно. Стой у костра.
Василий Алексеевич решил во всем повиноваться колдуну и не двигался. Между тем Митька, расположившийся у самого костра, поддерживал огонь, бросая хворост.
Огонь разгорался, охватывая своим прерывистым светом весь ток с резко очерченной линией, охватывая и густую траву за границей тока. Лишь немного дальше свет этот поглощался окрестной тьмой, в которой тонула стена деревьев, окружавших поляну.
Колдун приступил к заклинаниям. Он взял небольшую охапку вереска и бросил его в огонь. Вереск затрещал, от него поднялся беловатый дым.
Сухоруков почувствовал одуряющий запах вереска. Колдун стоял у костра в самом чаду… Сначала он бормотал что-то негромко, потом стал издавать глухим голосом какие-то странные завывания. Что это были за звуки, Сухоруков не мог уловить. Это были бессловесные звуки с различными переливами и интонацией без всякого ритма и правильности. Временами это было что-то судорожное, дрожащее, иногда как бы задыхающееся, после чего вырывались даже вскрикивания. Колдун вдруг затрясся. Он побледнел и сделался страшен. Сквозь его вой Сухоруков разобрал прерывающиеся слова:
– Черная власть… Сила дремучая, начинай… Злоба могучая, пособи… Все тебе отдали… Кресте себя снял…
«Опять крест!»… – Сухорукову сделалось больно и жутко на душе.
Колдун повернулся в сторону усадьбы Незвановой. И вот что Сухоруков отчетливо услыхал из заклинаний колдуна.
– Вырви ей глаза… Вырви ей сердце. Пусть спит… Без просыпу… Всю эту ночь.
Но тут случилось нечто совсем неожиданное.
Колдун закричал отчаянным голосом, что есть силы. От его крика эхо отозвалось в лесу. «Вижу ее, – закричал он, – вижу, стоит у киота… молится… крестится!» После этих слов колдун грохнулся всей своей тяжестью около Сухорукова на земляной ток. Словно что-то швырнуло его на землю.
Сухорукову сделалось совсем страшно. Он едва не бросился бежать из круга. Вдруг ему показалось, что кто-то схватил его сзади за плечи. Тут же он почувствовал, что его больно кольнуло в поясницу. Он чуть не вскрикнул.
Поверженный на землю колдун поднял голову, опираясь на руки. Он дико озирался кругом с запекшейся пеной у рта.
– Не могу, барин, – проговорил он наконец с блуждающим взором. – Не могу совсем… Она теперь молится… Сегодня надо бросить… Я весь истратился… Митька, – взглянул он на сына, – проводи барина домой, я потом приду. – Сухоруков тяжело переводил дыхание. Сердце его усиленно билось.
Митька, внимательно вглядываясь в отца, понял его и взялся за фонарь, который лежал тут же.
Сухоруков не мог больше оставаться. Что-то тяжелое давило его плечи, сдавливало сильней и сильней. Он рванулся из круга и пошел быстрыми шагами к лесу. Куда девалось его мужество! Митька кинулся за барином. Они оба исчезли в темноте.
Колдун остался на току один. Он впал в забытье, лежал словно без чувств. Тихо стало кругом.
Костер догорал последним пламенем.
Сухоруков, так стремительно рванувшийся к лесу по поляне, чуть было не упал, споткнувшись о небольшой пень. Это заставило его опомниться и прийти несколько в себя. Он остановился. Перед ним стеной стоял темный дремучий лес. Василий Алексеевич не знал, куда идти. Его выручил Митька, который, подбежав к Сухорукову с фонарем, дернул барина за рукав и показал рукой направление. Они нашли тропинку и вошли в лес.
У Сухорукова было одно чувство, одно желание – уйти, скрыться, уехать домой, убежать, куда глаза глядят. Он был разбит нравственно и физически. Правда, физическое чувство боли и сдавленности в плечах, которое он внезапно ощутил после страшного крика колдуна и его падения, теперь прошло. Не было также и боли в пояснице, что так его тогда поразила; но ему все-таки было очень не по себе. Он чувствовал недомогание и не знал, что делать и куда деваться.
Они пришли в избу. Митька зажег лучину и сейчас же ушел. Сухоруков сел на лавку у стола. Он опустил на руки отяжелевшую голову и застыл в этой позе, ничего не видя и не слыша.
То, что совершилось сейчас в лесу, беспорядочно проносилось в его голове. Роились вопросы один за другим: «Какая это сила бросила колдуна на землю? Ведь притворства тут не было!.. Что значат эти крики колдуна, что „она молится“, что значат эти болевые прикосновения, которые он внезапно почувствовал?» Сухоруков начинал убеждаться, что действительно ощутил прикосновение какой-то силы. «Это было! Это было!» – говорил он себе.
Василий Алексеевич продолжал сидеть у стола в той же застывшей позе. Страшная усталость и недомогание, которые он чувствовал, брали свое. Лучина понемногу догорала, тихо потрескивая. Наконец она погасла, и в избе воцарился мрак. Сухоруков закрыл глаза… Еще минута, и он забылся в тревожном сне.
Сухоруков увидел сон, который ему остался памятен на всю жизнь.
Он увидел себя сидящим в своем кабинете. Перед ним стоял странник Никитка в почтительной позе и говорил ему: «Нешто забыл слова мои насчет молитвы. Ведь я говорил тебе, что молитвы колдун боится. Так и вышло… И крест снял ты, ваше сиятельство, без всякой пользы… Надо по-новому начинать… Кистенем ее, дуру, кистенем… Зови Маскаева. Он не промахнется… Пойдем во двор».
И вот Сухоруков видит, что они очутились на дворе батогинской избы. Маскаев спит в телеге. Они начинают будить Маскаева.
«Да ведь надо кистень ему дать, – вспоминает Сухоруков. – Кистень у меня на стенке в кабинете висит».
Сон переносит Сухорукова опять в кабинет. Ему чудится, что он ищет на стене между старинным оружием кистень, который третьего дня еще ему принесли мужики из разрытого кургана. Он его тут повесил. «Где же кистень?»
Но здесь случилось нечто страшное даже и для воспоминаний об этом сне.
Оторвавшись от стены, Сухоруков увидел в дверях свою мать.
Она стояла, как живая, – такая ясная, несомненная… и такая строгая. Она смотрела своими темными глазами на сына в упор. Она сделала несколько решительных шагов по направлению к тому месту, где был Василий Алексеевич, и схватила его за руку. Подвела сына к большому зеркалу, висящему в кабинете, и сказала:
– Василий Алексеевич, посмотрите, кто вы!
В зеркале Василий Алексеевич увидал диавола. Сухоруков не сомневался, что это был диавол, ибо он в зеркале увидал искаженное злобой обличие существа не то человеческого, не то звериного. Сухоруков не мог оторвать своего взора от этого страшного образа, на него смотревшего. И вдруг узнал в этом злом, отвратительном лице с искаженной улыбкой самого себя, свои черты. Это был его двойник. Сухоруков вскрикнул. Затем все смешалось.
Он проснулся и открыл глаза.
В избе брезжил свет. Рассветало. Василий Алексеевич поднял голову и провел рукой по лицу. Он окончательно пришел в себя, и в его душе произошел великий нравственный перелом. Он решил бросить все затеянное дело, хотя бы это грозило ссорой с отцом, хотя бы это грозило потерей положения богатого помещика.
Поднявшись с лавки, он увидел стоявшего в дверях колдуна. Тот, по-видимому, уже успел оправиться от ночной переделки и вернуться из леса.
– Не ладно спишь, барин, – сказал колдун. – Эка раскричался, словно тебя резали.
– Скажи Маскаеву, – объявил в ответ Сухоруков, – чтобы сейчас же седлал лошадей. Мне нужно домой…
Колдун посмотрел с удивлением на Сухорукова и вышел из избы исполнять приказание.
Через несколько минут лошади были подведены к крыльцу.
– Прощай, Батогин, – сказал Сухоруков провожавшему его колдуну и вскочил в седло. – Да, вот что, – объявил он, сидя уже на лошади. – Поищи мой крест у себя за печкой. Чтобы непременно его найти, слышишь! И мне представить в Отрадное.
– Сам поищи, – дерзко отвечал Батогин. – Сам забросил, сам и ищи. Твое дело.
– Коли не найдешь, – пригрозил Сухоруков, – пришлю сюда искать моих охотников. Они твою избу по бревнам разнесут.
– Присылай, коли охота. Не боюсь я твоих охотников, – огрызнулся колдун.
Всадники помчались домой.
Василий Алексеевич со своим доезжачим вернулся в Отрадное утром, когда солнце уже порядочно поднялось. Старик Сухоруков еще спал. Обыкновенно он вставал в восемь часов. Но в барской усадьбе жизнь уже началась. Дворецкий покрикивал на рабочих, которые мели двор. Садовники возились в цветнике; шла поливка клумб. Из людской, стоявшей в стороне от дома, доносились шутки и смех.
Василия Алексеевича встретил у подъезда его камердинер, старый Захар. Он принял с глубоким поклоном от барина шапку и арапельник и поспешил за барином в спальню, чтобы помочь скорее ему умыться, освежиться и привести себя в порядок после путешествия. Василий Алексеевич знал, что отец, как только встанет, немедленно потребует его к себе, на свою половину.
Здесь надо сказать несколько слов о расположении отраднинского дома.
Дом этот представлял из себя в действительности три отдельных здания. Главное здание, находившееся в середине, где были парадные комнаты и комнаты для гостей, соединялось загибающимися с обеих сторон галереями с двумя большими флигелями. В этих флигелях, составлявших крылья главного дома, и жили в одном Сухоруков-отец, а в другом – Сухоруков-сын. Господа Сухоруковы сходились в большом доме лишь для обеда и ужина или при приеме гостей. Жизнь каждого из них проводилась отдельно. Отец и сын не мешали друг другу в своих привычках. У каждого был свой штат прислуги.
Сухоруков-сын не любил, чтобы в его флигеле находились женские лица. Своих любовниц, как, например, Машуру, он держал в стороне; он помещал их «на дачах», идеализируя, по возможности, свои отношения к этим существам.
У Сухорукова-отца были заведены другие порядки. Во флигеле у него находился один только слуга, принадлежавший к мужской половине рода человеческого. Это был вертлявый пожилой лакей по имени Егор – «домашний фигаро», как его называл Алексей Петрович. Егор, обученный парикмахерскому искусству в Москве, являлся совершенно необходимым для ежедневного «наведения красоты» на своего барина. Остальная прислуга на половине старика Сухорукова была женская, в числе коей играли роль разные «бержерки» и «психеи», взятые из дворовых девиц и вымуштрованные дебелой Лидией Ивановной, главной начальницей над женским персоналом флигеля.
Приведя себя в порядок, Василий Алексеевич перешел в кабинет. Он ждал посланного от отца и готовился к объяснениям. В кабинете он случайно взглянул на стену со старинным оружием. Кистень, который ему третьего дня принесли мужики и который он повесил между оружием, висел и теперь на своем месте.
Он остановил свой взор на этом кистене, и вся картина пережитого сна предстала пред ним. Сухоруков содрогнулся, но сейчас же пришел в себя. Решение его бросить затеянное дело было бесповоротно, и это его успокоило.
– Чаю прикажете подать? – сказал вошедший в кабинет Захар. Он остановился в дверях и смотрел на барина совершенно особенным взглядом – взглядом преданной собаки, если можно так выразиться. Это был старинный тип крепостного, истинный раб своего господина, нянчивший когда-то Василия Алексеевича на своих руках.
– Нет, не надо, – отвечал Василий Алексеевич, – я у отца буду пить.
Прошла минута молчания. Захар не двигался с места.
– Что ты так на меня уставился? – сказал наконец Сухоруков старому слуге, не сводившему глаз с барина.
– Здоровы ли вы, сударь? – проговорил Захар.
– Да ничего… – отвечал Василий Алексеевич, – особенного нездоровья не чувствую.
– Что-то бледны вы очень… И под глазками у вас нехорошо. Ох, уж эти бабы!.. Доведут они вас, – проговорил со вздохом старик.
– Это не бабы, – успокоил Захара Сухоруков. – Я просто устал.
Через минуту вошел посланный от старика Сухорукова.
– Пожалуйте к Алексею Петровичу, вас просят, – объявил он.
Василий Алексеевич отправился на половину отца.
Он застал отца в спальной, сидящим у окна в шелковом малиновом шлафроке. Василий Алексеевич нашел его уже надушенным и завитым, с трубкой в зубах и со стаканом чая на маленьком столике. Войдя в спальню, сын поздоровался с отцом. Хорошенькая горничная из числа «бержерок» подала молодому барину чай. Когда она вышла из комнаты и затворила за собой дверь, отец, пытливо взглянув на сына, угрюмо проговорил:
– С чем нас поздравишь, Василий? Ты, кажется, не в духе… И вид у тебя неважный.
Василий Алексеевич уселся против отца. Глаза его выражали решимость.
– Нехорошее дело мы затеяли, – сказал Василий Алексеевич. Он набрал, что говорится, духу, чтобы отговорить отца. – Дело это нужно бросить; оно к добру не приведет, – твердо объявил он после некоторой паузы.
– Не солоно хлебнул? – сказал старик.
– Я видел мать сегодня ночью во сне, – тихо проговорил Василий Алексеевич, – видел ее, какой она всегда была, светлой, лучезарной… но такой строгой, такой величественной, с очами, проникающими до самого сердца…
Старик сделал большие глаза и уставился на сына.
– Я видел мать, – продолжал молодой Сухоруков, все более и более воодушевляясь, – видел, как вот тебя сейчас вижу. Она вошла в комнату… Взяла меня за руку и подвела к зеркалу. Она показала мне, чем я стал. Это было что-то ужасное… И вот, одно говорю тебе, отец, – не могу, как хочешь… Не требуй от меня невозможного… И тебе советую бросить это скверное дело. Сухоруковы грабежом и убийством еще не занимались…
Алексей Петрович насупился; в его глазах сверкнул злобный огонек…
– Ты видел твою усопшую мать во сне, – отчеканивая каждое слово, злобно сказал старик, – а я вижу сейчас моего сумасшедшего сына наяву. Что с тобой, любезный дружок Васенька? – заговорил он насмешливо. – Какая это у тебя душевная красота народилась? С каких это пор? В каких ты эмпиреях плаваешь? Ты, видно, забыл, Василий, – с горечью продолжал старик, – что через две недели, если мы не добудем денег, нас отсюда вышвырнут вон, что мы будем нищими, что нам, добродетельным праведникам, господам Сухоруковым, придется идти в нахлебники, в позорную бедность…
– Не забыл я ничего, – отвечал, не смущаясь, Василий Алексеевич. – Все я помню, и понимаю, и сознаю, и все-таки знай, отец, что со своей стороны я все сделаю, чтобы затеянное не совершилось… И должен ты, отец, бросить это постыдное дело.
Старик начинал терять самообладание. Глаза его сверкали гневом. Он задыхался. Но Василий Алексеевич ничего этого не видал; ему хотелось высказаться до конца.
– Я тебе, отец, еще больше скажу, – проговорил он, желая освободить свою душу от лежавшего на ней камня. – Мне стала невыносима вся эта наша жизнь… Мне стало очень тяжело, мне надоел весь этот разврат… Но не пришлось дальше продолжать эти излияния Василию Алексеевичу. После последних его слов произошла ужасная сцена. Старик Сухоруков, вне себя от бешенства, вскочил с кресла и что есть силы ударил сына чубуком по голове.
– Сумасшедший выродок! – закричал он громовым голосом. – Лишу тебя всего… Околеешь под забором!
– Сумасшедший не я, а ты, отец! – крикнул в свою очередь Василий Алексеевич.
Он схватился за голову и выбежал из спальной отца. Пробежал комнаты флигеля, сопровождаемый испуганными взглядами высматривающих из-за дверей робких женских лиц. Быстрыми шагами пронесся через двор на свою половину в кабинет и бросился на диван, уткнувшись головой в подушку. Сколько он так пролежал, не помнил. Когда пришел в себя, почувствовал сильное недомогание. Началась нервная лихорадка. Его натура, здоровая и крепкая, надломилась. Да и было с чего ей надломиться. Слишком было много потрясений за этот роковой для него день.
В кабинет вошел Захар и испугался, в каком положении застал он барина. Лихорадка трепала молодого Сухорукова. У него, как говорится, зуб на зуб не попадал. Глаза были воспалены, руки дрожали.
Василия Алексеевича уложили в постель, он забылся. К вечеру начался бред.
Надо было обо всем доложить старому барину. Захар решился пойти на его половину. Несмотря на то, что Лидия Ивановна не пускала Захара к старику, говоря, что «они очень расстроены», Захар пробился к Алексею Петровичу. Он доложил о серьезном недомогании молодого Сухорукова. Как ни был зол на сына Алексей Петрович, но распорядился послать лошадей за доктором в уездный город. Уездный город находился в тридцати верстах от Отрадного. Доктора успели привезти лишь на другой день утром.
Ночь у Василия Алексеевича прошла тревожная. Больной продолжал бредить. Он провел ее в каком-то кошмаре.
Ему все снился колдун с его криками и заклинаниями, костер в лесу. Снилось, что колдун кидался на Сухорукова с топором… Что он отбивался от нападений колдуна… Что, наконец, колдун всей силой навалился к нему на плечи. При этом Сухоруков чувствовал боль и тяжесть в плечах и пояснице. Это были те же ощущения сдавленности и боли, что и в тот момент, когда колдун творил в лесу свои заклинания.
Проснулся Сухоруков на другой день, когда начинало рассветать. Голова сильно болела. Удар, полученный от отца, давал себя чувствовать. Захар сидел около своего барина и с тревогой на него смотрел.
Первое ощущение во всем своем существе, которое, помимо головной боли, почувствовал Сухоруков, когда проснулся, – это ему почудилось, что словно какие-то кандалы связали его тело. Он хотел протянуть правую руку к стакану с водой, стоявшему на столике у кровати, но рука не слушалась. Она была неподвижна. Сухоруков с ужасом увидал, что она была как-то неестественно притянута к подбородку; ее, что называется, скрючило, и Василий Алексеевич ее разогнуть не мог. Левую руку он смог поднять с трудом и, жалобно застонав, потянулся за стаканом. Увидав это, Захар стал поспешно подавать барину воду. С усилием он приподнял молодого барина на постели, чтобы тот мог проглотить несколько глотков воды. Приподнявшись, Василий Алексеевич вдруг ощутил, что он встать с постели на ноги уже не может. Ноги его были как бы связаны. Они были парализованы, он ими не владел.
Василий Алексеевич был беспомощен и страшно несчастен. Он охватил слабой левой рукой шею Захара, который с нежностью и участием смотрел на своего барина, и вот Василий Алексеевич, который с малых лет никогда не плакал, вдруг зарыдал, как ребенок, припав головой на грудь верного слуги.
Приехал доктор. Осмотрев больного, он прописал лекарство и установил известный режим ухода за больным. Отправившись на половину Алексея Петровича, доктор объявил старику, что у его сына нервный удар и что положение больного серьезно.
То состояние отчаяния, граничащее с умственным и нравственным отупением, которое охватило на первых порах пораженного болезнью Василия Алексеевича, начало через некоторое время проходить. Мысль, копошившаяся в мозгу больного, требовала своей работы. Она понемногу входила в нормальную колею. И, казалось, она, эта мысль, начала бы жить совсем правильно, если бы не новое ощущение сильной боли в правой скрюченной руке, которое чувствовал больной и которое перебивало ход его размышлений.
А Василию Алексеевичу было над чем подумать – подумать после того, что пришлось ему испытать за последнее время.
Особенно неизгладимое впечатление из всего, что пережил Василий Алексеевич, оставило после себя видение его матери – видение, происшедшее хотя и во сне, но такое яркое, совсем как наяву, видение беспощадное по своей силе. Впечатление от него было настолько велико и значительно, что, по сравнению с ним, ссора с отцом теряла свою боль и остроту.
Это видение оказалось чревато серьезными последствиями для всей последующей жизни Василия Алексеевича. Оно дало зародыш появившемуся у него религиозному чувству. Раньше у Василия Алексеевича не было, в сущности, никакой религии. Не было у него также и никакого философского мировоззрения. Если он ранее и ощущал иногда как бы отдаленное признание каких-то особых сил, для него непонятных, – сил, которые делали возможным, например, страннику Никитке творить свои заговоры, то эти признания были отрывочны и случайны. Василий Алексеевич над этими силами не задумывался. Мысль обо всем подобном бесследно изглаживалась у него другими впечатлениями. Жизнь Сухорукова и без разрешения подобных загадок была сама по себе обаятельна. Эта жизнь неслась так быстро и беззаботно. Опьянение молодостью и чарами неизжитых страстей отвлекали Василия Алексеевича от серьезных вопросов – таких, например, как вопрос о том, зачем мы живем? что такое душа? есть ли потусторонняя жизнь? и прочее и прочее.
Но вот, после видения матери, Василий Алексеевич пришел к вере, что потусторонняя жизнь существует.
Для него сделалось несомненным, что мать его, Ольга Александровна Сухорукова, которую похоронили семнадцать лет тому назад, живет в ином мире, что она там о нем думает и о нем печалится… Когда Василий Алексеевич после постигшего его удара пришел несколько в себя, то осознал, что у него есть прочная опора в жизни, что у него есть защитница… Василий Алексеевич облегченно вздохнул при этой мелькнувшей у него мысли. Отчаяние стало проходить. Зародились смутные надежды на что-то лучшее, что должно к нему прийти. Ему даже почудилось, что, быть может, мать его сейчас здесь, в этой комнате… Она охранит его от всех зол.
Он упорно думал о своих новых ощущениях и надеждах, недвижимый в постели с закрытыми глазами…
Но вдруг внезапно кольнула его иная мысль, и мысль мучительная. Кольнуло его воспоминание о том, что он, Сухоруков, под влиянием какого-то ничтожного мужика Батогина решился снять с себя и забросить за печку драгоценную вещь – благословение матери… И как он мог до этого дойти?! Василий Алексеевич застонал от тяжелого воспоминания и открыл глаза.
Перед Сухоруковым стоял Захар с лекарством, прописанным барину доктором. Захар держал в руках стакан с «декохтом», сваренным из валерьянового корня (в Отрадном была своя маленькая аптека). Доктор перед отъездом показал Захару, как варить это целительное средство. Он возлагал на «декохт» большие надежды.
– Извольте, барин, выкушать, – объявил Захар. – Сейчас только сварено. Свеженькое-с.
Василий Алексеевич приподнялся с помощью Захара на постели и выпил лекарство.
– Позови Маскаева, – наконец, не без усилия, сказал Василий Алексеевич.
– Зачем вам Маскаев? Опять изволите беспокоиться, – возразил Захар.
– Не твое дело… Не серди меня, Захар. Слушайся, когда говорят.
Захар заворчал что-то под нос, но вышел исполнять барскую волю. Через минуту он вернулся с Маскаевым.
– А теперь, Захар, уйди, – объявил Сухоруков, – и не злись, и не ворчи… Мне нужно с Маскаевым поговорить с глазу на глаз.
Захар повиновался.
– Маскаев, – обратился Сухоруков к доезжачему, – не удивляйся тому, что я тебе скажу… Не удивляйся и делай то, что тебе прикажут… У меня на шее был крест золотой на цепочке… Я тогда в избе… послушался этого Батогина… забросил у него крест за печку. Мне этот крест нужен… Я без него жить не могу… Возьми двух людей из охотничьей дворни… Поезжай с ними к Батогину… Иди в его избу, где мы ночевали, и выручи, во что бы то ни стало, этот крест. Хоть печку ему всю разломаешь, но чтобы крест лежал здесь на столе, слышишь?.. Знай, что это нужно… очень нужно.
– Будет сделано, – отвечал Маскаев. – Будет так, как изволили приказать.
Маскаев вышел. Сухоруков с облегчением вздохнул. «Вот и увижусь опять с матерью, – подумалось ему… – Она всегда со мной будет. Она спасет меня».
И Василий Алексеевич закрыл глаза.
После нервного усилия при разговоре с доезжачим Сухорукова опять потянуло к забытью. Его охватила реакция полной слабости… Он скоро заснул.
Через минуту в спальню вошел Захар. Увидав, что Василий Алексеевич спит, старик остановился перед своим барином и долго смотрел на него с величайшей любовью и нежностью. Уста старого слуги шептали молитву: «Господи, сохрани и помилуй раба твоего Василия», – тихо повторял Захар.
Старика Сухорукова всего поглотила только одна навязчивая идея – спасти Отрадное от продажи во что бы то ни стало. Ни о чем другом он не думал. Алексей Петрович ясно сознавал, что не пережить ему потери Отрадного, сознавал, что с Отрадным связана вся его жизнь, ибо другой жизни, вне этого владения, вне права распоряжаться отраднинскими людьми и удовлетворять свои барские прихоти, он себе представить не мог.
После описанной сцены с сыном, после этого, как определил старик Сухоруков «сумасшествия безумного мальчишки», Алексей Петрович схватился за новую, хотя и весьма шаткую, мысль добыть средства к своему спасению. В округе оставалось только одно лицо, которое, как теперь показалось Алексею Петровичу, могло бы его выручить. Но иметь отношения с этим лицом было очень трудно. Сухоруков знал, что если просить это лицо о деньгах, то предстоит перенести большие унижения и притом со слабой надеждой на успех. Этим объясняется, почему до сих пор Алексей Петрович отгонял от себя всякую идею о подобной попытке, предпочитая ей даже ограбление Незвановой. Лицо это, эта последняя слабая надежда, о которой теперь вспомнил Сухоруков, был сам господин управляющий винным откупом в уезде, некто Хряпин, местный купец, человек денежный и значительный, но большой плут и притом самодур. Отношения этого Хряпина к старику Сухорукову были скорее враждебные, хотя с внешней стороны и политичные. Хряпин прекрасно знал, что Сухоруков вредил его откупному делу своим корчемством. Все усилия Хряпина были направлены к тому, чтобы изловить Сухорукова в спаивании народа дешевой водкой, но до сих пор это ему не удавалось, несмотря на обильные подкупы исправника и местной полиции, которая, по обычаям того времени, была вся на жаловании у откупщика. С внешней стороны Хряпин к Сухорукову был почтителен, ибо Сухоруков все-таки был большой барин и у него были связи в столицах.
К этому-то местному тузу, купцу Хряпину, Алексей Петрович и решил написать заискивающее письмо; послано оно было тотчас же после размолвки с сыном. В письме Сухоруков высказывал желание приехать к Хряпину в уездный город. Алексей Петрович намекал на предстоящее денежное дело. Хотя надежда на Хряпина была плохая, Сухоруков верил в свою силу и думал как-нибудь обойти откупщика – утопающий хватается и за соломинку.
В день приезда доктора, вызванного к заболевшему сыну, старик с нетерпением ждал почты из уездного города с новостями из Москвы, где бесполезно метался и хлопотал сухоруковский поверенный об отсрочке торгов в Опекунском Совете. Этот поверенный в каждом письме к старику подавал отдаленную надежду на возможность отсрочки. Но Сухоруков этой надежде плохо верил.
Доктор, вызванный к молодому Сухорукову, приехал, как мы уже говорили, рано утром. Пробыл он в Отрадном только час времени, спеша уехать на операцию. Хотя доктор и сообщил старику Сухорукову, что положение сына серьезное, но тут же заверил старика, что будут приняты все меры поставить Василия Алексеевича на ноги.
Старик Сухоруков выслушал реляцию доктора с очень рассеянным видом. Ему было не до этих докторских разговоров о сыне. «Опасности для сына нет, и прекрасно». Он это только и вынес из визита доктора. Мысль о спасении Отрадного поглощала его всего.
Наконец из города привезли ожидаемую почту и подали Алексею Петровичу.
Привезли тогдашние журналы «Библиотека для чтения» и «Московский Наблюдатель», газеты «Северная пчела» и «Московские Ведомости». Алексей Петрович быстро все это отложил в сторону. – А вот, наконец, и письма! – Сухоруков вскрыл первое попавшееся ему под руку. Оказалось – совсем неожиданное из Петербурга от полицейского повытчика Саушкина, бывшего у Сухорукова на жаловании и исполнявшего разные поручения. Письмо начиналось словами: «Пути Божии неисповедимы, благодетель Вы мой, Алексей Петрович! 25-го сего июня в два часа дня скончался Ваш братец Александр Петрович от апоплексии…»
«Что такое?! – Сухоруков остановился читать. Он чуть было не ахнул. – Умер брат. Я – его наследник, – мелькнуло у него в голове. – Что такое! Чудо в решете?»
Сухорукое впился в письмо.
«… скончался Ваш братец Александр Петрович от апоплексии, – продолжал читать Сухоруков, – оставив всем нам великую скорбь о потере столь именитой особы… Радея о пользе Вашей, – читал Алексей Петрович дальше, – радея о пользе моего досточтимого благодетеля, я навел надлежащие справки, и по оным оказалось, что братец Ваш, переселившийся в небесный мир совершенно внезапно, не успел совершить духовного завещания на имя своей аманты Каролины Карловны госпожи Шпис, при нем неотлучно состоявшей и питавшей на Вашего братца большие надежды, а посему следует, что деньги братца Вашего, сиречь, ломбардные билеты в сумме двухсот тысяч рублей ассигнациями, лежащие ныне в петербургской сохранной казне, суть неотъемлемая Ваша собственность, а также дом Его Превосходительства на Гороховой в три этажа с флигелями…»
Дальше в письме было неинтересно. Сухоруков еще раз с вниманием перечитал это письмо. «Удивительно!.. Удивительно!» – мелькало у него в голове. Следующие письма были: одно – от московского поверенного о том, что надежды на отсрочку продажи имения никакой нет, и, наконец, последнее письмо от купца Хряпина с извещением, что он, Хряпин, сейчас Сухорукова принять не может, ибо завтра уезжает в губернский город по делам откупа. Скомкав эти два последние письма, Алексей Петрович с веселой улыбкой бросил их в корзину. Радостное настроение охватило его. И еще бы ему не радоваться! Ведь агония Отрадного кончилась! Ведь все пойдет по-старому и даже лучше, чем по-старому. Сухоруков мог теперь совсем, совсем спокойно сидеть в своем вольтеровском кресле.
Но при всем том Алексей Петрович сознавал, что время было на счету. Надо было действовать, не теряя ни минуты: остановить торги и принять наследство. Надо было ехать самому в Москву и Петербург.
«Все это пустяки, все это будет сделано», – думал Сухоруков. Охватившее его радостное чувство доминировало над всем, давало старику молодую энергию. С этим свалившимся так внезапно наследством он на почве. Он хорошо знает, что теперь не то, что было ранее. Теперь его послушают везде, где он будет хлопотать, послушают в Опекунском Совете, дадут необходимую отсрочку. Через месяц он вернется в Отрадное, устроив все дела, вернется с новыми затеями, с новыми планами.
Алексей Петрович распорядился сейчас же позвать к себе бурмистра Ивана Макарова.
Бурмистр, высокий старик с окладистой бородой, вошел к барину. Бурмистр этот был правая рука Алексея Петровича в его хозяйстве. Иван Макаров пользовался большим доверием своего господина.
– Сегодня я уезжаю, – объявил ему Сухоруков. – Прикажи кучерам изладить дорожный дормез и сейчас же послать подставу в Троицкое, чтобы нам в две упряжки быть на шоссейной станции. Там я ночую и завтра на почтовых в Москву и Питер. Со мной поедут Егор и повар Филипп.
Алексей Петрович дал указания бурмистру относительно уборки хлеба, которая уже началась, сделал еще необходимые распоряжения, и только когда все было налажено, успокоился.
Совершенно оживший и уверенный в себе, уверенный в своем положении, старик вспомнил наконец о сыне.
Перед его мысленным взором пронеслось все то, что за последнее время произошло в их отношениях. Алексей Петрович теперь имел возможность хладнокровно и спокойно это обдумать и, к стыду своему, не мог не признать, что сын его был прав в своем отказе идти на его отчаянную затею. Ведь, действительно, мало ли чем эта затея могла кончиться, и имя Сухоруковых могло быть опозорено уголовщиной. Сын был прав, говоря, что Сухоруковы грабежом еще не занимались. А он, отец его, за это так оскорбил сына… Положим, что и Василий был опрометчив в своей дерзости и горячности, но все же он, Алексей Петрович, нанес сыну тяжкое оскорбление, оскорбление жестокое… И вот сын его теперь лежит больной…
Старик Сухоруков словно съежился, когда все это ему представилось. «Черт знает, как все это вышло! – проговорил он с сердцем. – Ведь сын по существу прекрасный малый, человек лихой и породистый, и огонек в нем настоящий, сухоруковский. И компаньон он отличный. Ведь это он, отец его, из-за своей прихоти уговорил Василия выйти из полка, испортил его карьеру». – Чем больше Алексей Петрович думал обо всем этом, тем более мучила его совесть. Любовь к сыну проснулась у Сухорукова с прежней силой.
В дверях показалась дебелая Лидия Ивановна, вся встревоженная; она только что узнала от бурмистра о внезапно предположенном отъезде барина.
– Вы сегодня уезжаете, – сказала она, опустив глаза. – Что такое случилось?
– Не твое дело, – отрезал Алексей Петрович, – после узнаешь. Захара мне позови, да поскорее!..
Явился Захар.
– Ну, Захарушка, здравствуй, – сказал Алексей Петрович ласково, как только на это был способен. – Ну, что твой барин?.. Доктор говорил, что это отойдет… Что, он все еще лежит?..
– Очень они плохи-с, – сумрачно отвечал Захар. – Рука у них скрючена-с, и на ногах стоять не могут. Они вместе с Маскаевым ночью за сорок верст куда-то ездили. Дорогой, надо полагать, простудились… Теперь все у них разболелось, и мурашки по рукам и ногам бегают. Очень они жалуются. По временам даже вроде как бы судороги в ногах-с…
– Он теперь спит? – спросил Сухоруков.
– Сейчас проснулись, – отвечал Захар. – Фершал из Троицкого приехал. Будет им пиявки ставить…
– Ступай к сыну, – сказал Алексей Петрович, – предупреди его, что я сейчас приду.
Старик Сухоруков вошел к больному, когда Василий Алексеевич не спал и не был в забытьи. В комнате никого не было; больной лежал под белым одеялом, лежал неподвижный, с особым, новым для Алексея Петровича выражением печальных глаз, устремленных на одну точку. На лбу Василия Алексеевича сложилась характерная поперечная морщинка. Правая рука поверх одеяла была неестественно притянута к лицу. Пальцы этой руки были как-то странно, некрасиво согнуты.
При входе Алексея Петровича взгляд сына упал на отца. Больной слабо улыбнулся и сказал:
– Вот какой я, дурак, лежу… Видишь, отец, совсем никуда я негодный…
Нелегко было Алексею Петровичу увидеть таким своего сына. Совесть мучила его, и ему хотелось каяться.
– Я пришел к тебе, Василий, – не без усилия заговорил старик Сухоруков, – пришел прощения у тебя просить…
– Пустяки, – отвечал Василий Алексеевич, – мы оба с тобой горячие… Вот и все.
– Пришел прощения просить, – продолжал Алексей Петрович. – И слышишь, Василий, чтобы не поминать нам этого… чтобы совсем забыть…