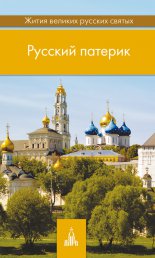Великая война без ретуши. Записки корпусного врача Кравков Василий
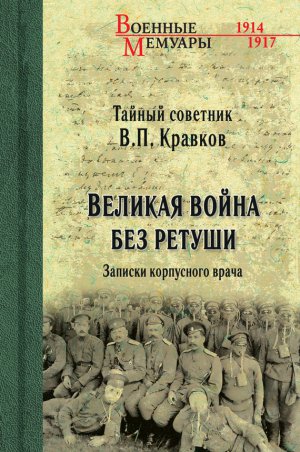
26 апреля. Был по обыкновению у обедни в соборе, где поют и служат так чудно. Необходимо ли хорошему пастырю духовному уж непременно верить в Бога? Я думаю, что не необходимо; надо ему только жалостливо любить массу людскую, ч[то] б[ы] в земной юдоли утешать несчастных фетишами. Для господства над массой, да и, пожалуй, для ее счастья – побольше неведения да мистики. Mundus decipi vult[756]. Мое поощрительное отношение к набожности Пелагеи[757] и истекающие отсюда логические выводы, оправдывающие применение такого отношения в более широком масштабе правителями к людской массе…
Получил трогательное письмо от Т.; неужели «она меня за муки полюбила, а я ее за состраданье к ним»?!
Вчера встретился с человеческ[им] экземпляром, показавшимся мне было весьма интересным, как бы сплошным беззаветно любящим людей сердцем: сестра-доброволица, с медицинск[их] курсов, опростившаяся, работающая на самых передовых позициях, там же контуженная; работа эта, как она и стремилась к тому, всецело ее поглотила. Спрашивал ее, нет ли у нее большого личного горя, к[ото] рое ее погнало в этот омут и хаос; отвечала – отрицательно, но утаила от меня, что она работает вместе с женихом! Вышло все так просто! А я стал было уж очень мудрствовать, и чуть не решил, что обрел святую. Ищу все я в людях совершенства…
В газетах пишут сплошную ерунду относительно успехов нашего оружия, когда здесь у нас творится только одна мерзость. Дела наши, без сомнения, весьма скверны; казенную, приказную наши матушку Русь бьют больно по морде. Кумовство, сватовство, приятельство, подкупность и продажность сказываются теперь здесь во всем наглом великолепии. Картина настоящего и ближайшего будущего безотрадна. На Карпатах мы отступаем, Либава[758] уже занята немцами (это – секрет, и в газетах о том пока ни гу-гу), предвижу, что немцы нам где-то еще готовят здоровый кулак. Какие мы в боевом отношении жалкие ремесленники в сравнении с тевтонами – художниками, артистами этого дела, все время держащими инициативу в своих руках! «Не идет наш поезд, как идет немецкий!»
Днем в заоблачных высях витал неприятельский аэроплан. Наши стреляли по нему шрапнелью. Величественная картина!..
Солдатики, живущие здесь, в Гродно, и проходящие на поле брани, лихо поют и даже пляшут.
Комендантом крепости сделано распоряжение, ч[то] б[ы] после 11 час[ов] ночи всюду тушились огни в учреждениях и квартирах или же завешивались окна; это – в целях охраны от цеппелинов и аэропланов.
Прилагаю при сем копию приказа по армии («в[есьма] секретно») и вырезку из газеты с ответом Главн[ого] комитета Общеземского союза относительно предложенных ему из Петроград наград – ответом, полным высокого благородства и достоинства[759].
Вечером удержал меня у себя наш полковник – «начальник санитарн[ого] отдела», устроивший угощение «рислингом», скоро сей сын Марса (Ваала?) охмелел, развязался у него язык, отверзлись едала и так-то завоняло-завоняло…
27 апреля. Захолодало. Утром пошел снег и поднялся страшный ураган. После полудня стихло и прояснилось.
На Карпатах нас сбили, немцы дошли чуть не до Риги[760], а в газетах наших неизменное «мы продолжаем теснить противника», «мы успешно продолжаем продвигаться», там-то и там-то «произошло успешное для наших войск столкновение с неприятелем. О противнике же нашем – тоже неизменное, что он почти совсем уже издыхает и не в силах бороться с нами. Уж не секретом для публики появилось известие о взятии немцами Либавы.
В общем разговоре за обедом Радкевич, только что получивший утверждение в своем командовании армией (с чем сегодня мы его поздравляли), выразился, что Либаву-де мы и отнимать не будем – она сама отнимется (sic!). Не беда, значит, что занят неприятелем такой богатый город Либава («ведь это лишь демонстрация», «ведь это разбойный набег, чтобы специально пограбить продовольствия и фуража», «занятие Либавы немцами не имеет никакого стратегического значения»!! – «У вас болит зуб? Но ведь это же пустяки, ведь это боль отраженная!»).
Германцами потоплена «Лузитания»[761], типа и размеров «Титаника», одни из пароходов английского коммерческ[ого] флота. Италия, Румыния и проч. нейтральн[ые] державы не осбоенно-то торопятся встать на сторону нашу. Барометры!
Забрал по обыкновению на вокзале четыре газеты: «Нов[ое] вр[емя]», «Речь», «Рус[ское] слово» и «Рус[ские] ведом[ост] и». Интуитивно чувствую, что дальше осени не проработает адская фабрика человекоубийства.
Вечером пошел к городовому врачу послушать граммофон. Минутами забывался, но беспокойные думы о Ляле назойливо вплетаются и перевиваются со всеми моими мыслями.
Ложусь спать примиренным, с сознанием, что, может быть, и не суждено будет проснуться, если налетит волею Божиею на наш район цеппелин. Ночь звездная, прекрасная.
28 апреля. Погода великолепная. Природа в апогее оживления. Тем тоскливей на душе, что так постыло сложилась моя жизнь. Что я был, и что стал?! Мне кажется, что если бы и случилось что-либо радостное, то у меня не оказалось бы способности воспринять его; живу как приговоренный к смерти.
29 апреля. Райский солнечный день с неизменным своим спутником – тевтонским аэропланом, сеявшим утром бомбы.
Несмотря на очевидные наши неудачи по всему фронту, в газетах продолжаются все те же ухарские тирады на тему «шапками закидаем».
По-прежнему испытываю ужас своего существования и прелесть небытия.
Встретился с товарищем детства Готфридом Вейде, теперь – командиром ополченской какой-то дружины; во франко-прусскую войну, еще будучи ребятами, часто с ним дрались; я его донимал своей приязнью к французам, дразня его тем, что «француз немцу задал перцу, а немец не утерпел и…»; он же в ответ с своим отцом-булочником часто обзывал меня «рушкова швинья». И вот судьба! Чей он в душе благожелатель?
Вечером пошел ко всенощной. Завтра Вознесение Христово. Трагически я всегда переживаю этот день, скорбно расставаясь с Уходящим на небо до следующего года Его Воскресения; суждено ли мне дожить до этих дорогих мне всегда дней – Страстной недели и Пасхи? На целый год я себя чувствую сирым, как бы оставленным и брошенным Им барахтаться в поганой повседневной мышиной беготне и суете. Я до сего времени по сложившимся знаменательно роковым образом обстоятельствам моей жизни не утратил еще веры в личного, вне мира сущего Бога, дерзновенно ропщу на него – отчего Ты не научил меня творить волю Твою, «Ты, бо еси Бог мой»?! Но… но… «за все, за все ж Тебя благодарю я» – за все мои муки, муки Ляли, муки других, виновником к[ото] рых с Твоего попустительства был я, благодарю и
- «За все, чем я обманут в жизни был,
- Устрой лишь так, чтобы Тебя отныне
- Недолго я еще благодарил…»
Недавно только что был отменен дикий приказ о кладке в общую варку пищи солдат риса в целях якобы предупреждения желуд[очно]-кишечных заболеваний; теперь последовал (от 16 апреля за № 1011) новый абсурдный приказ главнокоманд[ующего] СЗ фронта, воспрещающий по тем же мотивам класть в горячее сало!!
Получил печальное письмо от сына Сережи; пишет, что у него «опять лопнул левый глаз». Чувствую себя в положении, не лучшем Иова!
30 апреля. Ясный день, небо безоблачно. Дела наши на фронте ничего радостного не представляют, благодаря чему, очевидно, и Италия не торопится выступлением, о чем прокричали газеты. Страдаю каким-то «мазохизмом»: как ни больно мне, но иногда и радуюсь, что немцы нас бьют; до пошехонства мы никудышны – верхи подлы, низы же – темны… Жалкими мне представляются люди, не могущие теперь найти для себя интересов вне войны…
Май
1 мая. Погода прекрасная. Жарко. Тоскливо тянет в родные края. «Время пролетело, слава прожита…» В газетных сообщениях и телеграммах по-прежнему не отражается и миллионной доли правды об истинном настроении и положении наших дел. Перечитываем их с отвращением и негодованием.
2 мая. Погода захмурилась; небольшой дождь. Дела наши тяп да ляп. Немцы, занявши наши территории, спешат прокладывать жел[езно] дорожные колеи, а мы… мы почти года простояли в Пруссии и не могли даже устроить правильного движения между Марграбовым и Сувалками. Германия как военная сила перед Россией представляется мне каким-то слоном, мы же – шавочки, трубим в фанфары и иерихонские трубы, если нам удается хоть чуточку кусануть этого колосса.
По Баяну, культура для немцев сыграла роль бритвы: в мирное время ей они отлично брились, в военное же, теперь, отлично ей режут противника.
Живу, хотя и в городе, но вдали от шумного света, к[ото] рый мне так чужд. Развлекаюсь хождением к обедне да ко всенощной. Получил от милой Лялечки письмо – и по милу-то она мне хороша, и по-хорошу-то всем должна быть мила; как все мы, Кравковы, «с изюминками»…
Председательствую в комиссии по производству ревизии госпиталей в отношениях хозяйствен[ной] и денежной отчетности; кажусь для людей понимающим, а на деле ровно ничего не знаю в этой для меня абракадабре, да и не было никогда никакого желания знать ее; не только со службой, но и с жизнью-то я никогда не сливался, оставаясь постоянно при своем «я» и личных мне интересах (только не материального и не суетного характера!).
3 мая. Сегодня – что вчера. Боевые наши действия по-прежнему безэффектны, тусклы и серы, как говенная канцелярская бумага… Визгу много, а шерсти мало… Газетная травля немцев, германской культуры достигла сказочно-анекдотических, вернее – отвратительных размеров; оплеванию и заушению подвергнуты даже Гёте, Гейне, Кох, Вирхов и прочие светила человечества, мы же, мы, русские – это благословенная и избранная Богом нация!! Атмосфера пропитана удушающими газами фальши, лжи, злобы, клеветы. Боже мой, долго ли это еще продолжится? Кто из подлого лицемерия, держа нос по ветру, а кто из святого просто идиотизма начинают даже высказываться за необходимость изгнания немецкого языка из российских школ! Бедные наши школы, несчастные наши детки, являющиеся объектом ноздревско-фамусовского воздействия!
5 мая. Распускается пышно зелень. В садах слышны соловьи. Время идет тягуче-скучно, монотонно. Чувствую себя пятым колесом в телеге.
«Храбрый» наш полковник, с упрочением его положения исполненный взыгравшей властности и силы (в гостинице «Рояль» недавно даже побил – о чем, не краснея, рассказывает, – морду официанту за то, что последний «не так» обернул голову, отвечая на вопрос), поцукивая на делопроизводителей санитарного отдела, служащих ему и за страх, и за совесть, отлично управляет санитарной частью армии! Меня почтительно оставляют в покое. Я против этого ничего не имею; может быть, я – и лишний; так хотелось бы просить «ныне отпущаеши…» Но лишний ли я, как ржавый винт в отлично конструированной и прекрасно вертящейся машине, или же как вполне исправный винт, но не положенный ржавой, аляповато сколоченной, не столько вертящейся, сколько скрипящей и визжащей машине?!
А немцы-то нас ахнули с Карпат почти на 100 верст, к Ярославу и Перемышлю на линии реки Сан; противник в каких-н[и] б[удь] 70 верстах от Львова. Сколько тысяч жизней мы положили на пресловутый переход «наших орлов» через Карпаты, и теперь опять начинай сказку с начала – оказываемся почти при том же исходном положении, как и в сентябре прошлого года! Но изворотлив же мошенник-ум человека: продажные перья военных обозревателей ухитряются наше поражение обрисовать как победу!! Благодаря очищению Карпат наши-де армии теперь оказываются с развязанными руками, спала-де с них забота эта – защита перевалов от вторжения германцев в Восточную Галицию (sic!), не мы-де разбиты, а германцы накануне полного разгрома их армий!
Дела наши – премерзки. Не действует наш аппарат как немецкий. Общие условия российской действительности столь плачевны, что и немцев-то, состоящих у нас на военной службе, к[ото] рые, несомненно, проявили бы теперь у себя в фатерланде таланты, – эти условия делают их у нас неспособными и бесталанными! В общих условиях российских – какая-то печать обреченности[762]; как будто только и могут водиться одни черти в нашем болоте! Есть над чем призадуматься. Вот и Радко-Дмитриев, прославленный стратег в болгарской войне, снивелировался же теперь с нашими доморощенными воеводами! А улучшились бы значительно наши дела, если бы теперь поручить командование нашими армиями, к примеру сказать, хотя бы Наполеону? Культура, культура! Как ни говори, а она все-таки великий фактор, доводящий до совершенства организацию не одного только зла, но и добра, организацию не одного только разрушения, но и творческого созидания[763]!
6 мая. Царский день. Был в соборе. К обеду приехал архиепископ Михаил[764] благодарить командующего за награждение его звездой и бриллиантовым крестом на клобук; севши со мной рядом, его первыми словами обращения ко мне было: «Я Вас часто вижу у себя в церкви, но недолго Вы стоите в ней, будучи, очевидно, очень заняты».
Природа благоухает; изумрудный ковер полей обильно усеян распустившимися одуванчиками; сирень еще только что расцветает; зацвели яблони. Так хорошо было бы жить теперь у себя на родине…
Газеты наши, как ни стараются смягчить постигшее нашу армию в Западной Галиции несчастье и сделать из черного белое, но… но… для всех должен быть самоочевидным факт, что немцы систематически и методически жестоко бьют нашу бумажную, казенную, маммонную Русь, отступающую перед ними на всех позициях своей несоргранизованности, обществен[но]-государственной несплоченности, негражданственности, некультурности…
7 мая. Все те же телеграммы и военные репортерские рассуждения ребяческого характера для чтения только бы детям не выше среднего возраста. Десятками тысяч исчисляются потери у неприятеля без параллельного приведения потерь наших, Австрия-де при последнем издыхании, Германия-де умирает медленной голодной смертью; зато силен-де Бог земли русской – шапками забросаем! Разрушительная деятельность культивированием национальной травли «Русского знамени» и «Земщины» ведется с прежней безудержностью и бесстыдством, не стесняемая цензурой. Да пронестся и рассеется скорее весь этот смрад, скрывший от людей сокровище мира, любви и дружбы!
8 мая. Погода продолжается прекрасная. А катастрофа-то, постигшая наши армии в Галиции, ведь ужасная. Если отберут от нас обратно Перемышль и Ярослав, то, пожалуй, несдобровать и всей Галиции, куда мы так спешно почли нужным первее всего направить наших обычных культуртрегеров – исправников да урядников; как бы не пришлось их оттуда так же спешно убирать, как случилось и со взятием нами Инстербурга…
Существующий у нас теперь, как и во всем, хаос в организации санитарных мер… Масса желающих честно поработать, но все это без объединения, без предварительн[ого] в мирное время стажа, опыта – все выходит ex tempore[765], несвязно… Много «сырья», да нет обработки.
Все эти наши губернаторы, уездные начальники и проч. власти с их навыками, приемами, отношением к делу представляют нечто допотопное, что не может идти теперь в соревнование с действами «made in Germany»[766]. Приходится бороться с ветряными мельницами, когда является желание лучше ничего не делать, чем делать ничего…
Общественные организации допускаются с большой опаской к противоэпидемической борьбе среди гражданск[ого] и войскового населения: убивать-де будут микробов, а рассеять – крамолу!! Взаимное друг к другу недоверие… Творится первозданный хаос… Боюсь, что в конце концов виновниками наших неудач в войне окажутся все те же интеллигенты, врачи и жиды!!
9 мая. В Курляндско-Ковенской губернии мы все «тесним неприятеля»[767]. С Галицийского фронта – никаких известий. Не верится, ч[то] б[ы] в данном случае n’est pas des nouvelles было бы belles nouvelles[768]… А не пора ли, г-да «кровавые» и не кровавые кайзеры, промышленные и не промышленные короли прекратить бойню слепого «человеческого материала» (панургова стада), дерущегося, в сущности, ради ваших интересов, не ведая бо, что творит?!
10 мая. День Св. Троицы. Светлый голубой день. Не только дома, но и вагоны разукрасились срубленными березками. Запасшись в передний путь и в обратный «пропуском» – «бурка» и «ядро», – поех[ал] рано утром ознакомиться с санитарным[и] условия[ми] 28-й дивизии, в одном из полков к[ото] рой брюшной тиф стал принимать угрожающие размеры. Возвратился поздно вечером в тот же день ужасно разбитый автомобильной ездой – голова кружилась, испытывал какое-то оглушение; свалился как мертвый в кровать. От всего шума, грома, всей продолжающейся сутолоки я, кажется, скоро совсем отупею и взбешусь.
Чрезвычайный штрих: моя беседа с Евреиновым[769], командир[ом] 20-го корпуса[770], утешившим меня по поводу развившейся в Волжском полку[771] эпидемии тифа, все-де у него в корпусе великолепно, а тифом-де могут болеть и во дворцах[772]… Еще: командиры полков и батальонов, и вообще офицерство – под страшным гнетущим обаянием совершенства немецкой техники и шпионажа…
11 мая. Светлый день. Распустилась сирень. Все у меня так хорошо сложилось в характеристике Радкевича, как вдруг за обедом он бухнул в ответ на мой рассказ со слов офицеров на позициях, что немцы обо всех наших движениях чертовски бывают предварительно осведомлены, – да еще как бухнул: «Надо всех жидов истребить, и лучше всего эту операцию после войны предоставить совершить самому же русскому населению» (sic!). Боже мой, да что же это такое? Et tu, Brute?[773] Да почему же во всем виноваты жиды, и почему единственное действо для нашего благополучия заключается лишь в процедуре истребления жидов?! Да искренне-ли такие воззрения высказывают люди, во всем, по-видимому, развитые? Не подличают ли они в угоду модному течению?..
Вчера при объезде деревень Августовского уезда, где расположился Волжский полк, опрашивал жителей, как обращались с ними немцы, не творили ли каких насилий, и проч.; отвечали, что никто обид от неприятеля не видел!
«Интервенционисты» взяли верх над «нейтралистами», и сегодня в газетах сообщается о состоявшемся выступлении с нами вместе Италии. Да здравствует Италия! Ура!
Большую канцелярскую горячку порем с предлагаемыми средствами в борьбе с удушливыми газами.
У солдат на фунта уменьшен паек мяса; теперь они будут получать по ф[унта] свежего и ф[унта] солонины.
Получил два милых, сердечных письма от С. и Т. Люблю же их я одинаково любовью не только брата, а «может быть еще сильней», и это нисколько не мешало мне и той, и другой долго не писать, за что и получил заслуженный упрек.
Вот на минуту хотя и забыл свою дорогую Лялю. Нет, прочь от меня теперь все то, что хотя бы даже как[им]-н[и] б[удь] чудом реально опровергло твердую как скала истину, что «мечтам и годам нет возврата», что могло бы даже «обновить душу мою»[774].
В воспоминаниях о Сеченове[775] в «Вестн[ике] Европы» И. И. Мечников[776] касается вопроса о значении любви в умственном творчестве. В новом издании моей книги я уже предначертал разобрать этот вопрос в ряду общеоздоровительных мер, но… но… коснуться его надо так, чтобы вышло чисто, не пошло и не отвратительно.
12 мая. Наш энергичный «храбрый» полковник телеграфировал корпусному врачу 20-го корпуса, что-де пора прекратить эпидемию тифа в Волжском полку. Стараюсь всячески разъяснить нашим воякам, что не в одном враче дело, ч[то] б[ы] задушить эпидемию; не аналогично ли будет, если Верховный главнок[омандующ] ий прикажет командующему армией, что пора-де переходить через Карпаты или вступать в Пруссию. Такие делаю я моим воякам сравнения…
Несерьезность и бестактность врачей, делающих офицеров больными высказыванием им таких жупельных слов, что-де у вас «расширение» сердца или «артериосклероз», «инфильтрация» и т. д. Я не видал ни одного офицера, к[ото] рый бы после даже легкого ушиба, а тем более – ранения, не старался бы потом, уже после совершенного выздоровления, козырять и кокетничать перенесенной травмой, к[ото] рая у него и «мозжит в ненастное время», и ломит, и стреляет, и пр.; всячески стремятся симулировать увечье. Что это – истерия, или просто-напросто прохвостничество[777]? Еще: офицер, получивший «Георгия» и вообще «все свое» – почему после этого стремится устроиться в к[аком]-н[и] б[удь] злачном месте в тылу, а не продолжает своим геройством одушевлять войска?!.
Удержать солдат от питья сырой, заведомо скверной воды теперь труднее, чем в мирное время: тогда можно было его хоть попугать могущей развиться холерой, тифом, а теперь… теперь многие из солдат умышленно даже готовы заболеть чем угодно, ч[то] б[ы] только эвакуироваться.
13 мая. Жарко. «Утро года» в полном расцвете природы. Все штабные устроились прекомфортабельно, наш полковник, не довольствуясь, как я, помещен[ием] в училище, переезжает на новую отдельную квартиру, меблирует ее, обставляет так, как будто собирается жить в Гродно чуть не целый год. «Витязи» наши большие сибариты, много нужно времени, ч[то] б[ы] сломать нашу бытовую рутину в жизни, за что нас бьют теперь немцы.
«Evviva l’Italia!»[778] – кричат газеты. Новая у нас союзница в войне за право и свободу[779] народностей. «За право и свободу…» Но что-то достанется после войны (победоносной даже для нас!) для российских quasi-граждан?! В выступлении Италии я вижу сладостную и манящую перспективу скорого, может быть прекращения человеческой бойни.
Видел сон – все кровати, кровати; жди теперь обязательно дальней дороги; не переведут ли меня куда на новое место служения?!
Приходила благодарить меня по выписке из госпиталя сестра, переодетая в костюм санитара, едущая опять на передовые позиции; тип девушки, во всяком случае, интересный и симпатичный: не хочет уже работать в полку, где ее жених, а перейдет в другую какую-либо часть – «стыдно быть лично счастливой» в текущий момент – так я ее понял. Просила позволения писать мне. Я, конечно, выразил свое полное удовольствие.
По тезису Мольтке[780] выходит, что «война – святое дело, война имеет божественное происхождение… Она вселяет в сердца людей все высшие, все благороднейшие чувства – честь, бескорыстие, доблесть, самоотвержение, храбрость». Это – правда, но таковой война является, я вижу, лишь для желторотых юношей и темной массы, но никак не для главных ее виновников и дирижеров, а также для всех вольно примазавшихся к ней, для к[ото] рых она является кормом, ареной бесчестья и корыстного, самого низменного хищничества.
14 мая. Жаркая, засушливая погода. В церкви – моление о ниспослании дождя. День коронования и, кажется, десятилетней годовщины Цусимы.
В публикуемых телеграммах Верховного главнокоманд[ующ] его хотя и ничего не говорится пока о взятии немцами Ярослава, но в штабе «по секрету» это уже известно. Из сдержанной беседы по щекотливому для нашего оружия вопросу с Радкевичем о положении в Галиции – из шепотком произнесенных им слов, что-де, может быть, взят и Перемышль, да и по своему внутреннему убеждению я не сомневаюсь, что эта твердыня также отобрана у нас… Уж больно наше правительство поторопилось [с] торжествен[ным] празднованием завоевания Галиции и насаждением там своих культуртрегерских учреждений… Мне думается – несдобровать и Львову…
Наши шантеклеры и в ус себе не дуют. Слава Богу, что выступление Италии все-таки морально хотя подбодрит наши войска, и они на позициях кричали уже по сему случаю «ура», на что немцы отвечали, что «зато мы у вас отобрали Перемышль и взяли 20 тысяч пленных».
Бывшая у меня вчера сестра «святая» – Зинаида Николаевна Васильева, и поехала она в 29-ю дивизию.
Штабные наши преотлично все поустроились в городе, развлекаются, волочатся за женщинами и пр. Я же живу особняком, ни у кого и нигде не бываю, так себя чувствую покойнее; только замечаю, что как будто на меня стали смотреть косо, так как не кажусь я им «своим» человеком; как бы чего не сочинили и не учинили для меня пакостного… «Люди злы», и чего не поймут в человеке, то обязательно истолкуют в скверную сторону.
15 мая. Газеты всех направлений полны убаюкивающих воображение читателей сообщений и рассуждений относительно успеха нашего оружия; мне же думается, что нам скоро придется ретироваться из Галиции. Как уловить подлинное биение народных сердец? И какую оно имеет цену при несомненной инспирации этих сердец со стороны ограниченных кучек «просвещенного» руководящего меньшинства[781]?! Люди en masse[782], проливая кровь и истребляя друг друга под знаменами высоких лозунгов, в сущности «не ведают бо, что творят». Люди в умственной слепоте своей «свято» умирают для эгоистических вожделений эксплуатирующей их сравнительно малой кучки – тоже людей, но с своекорыстным, подлым «себе на уме», с широким, не знающим сытости благоутробием… Презренный мир! Мир, у которого на холопских послугах состоят и самые служители церкви – присяжные истолкователи Божественного Евангелия по девизу «Как прикажете?»
Газеты сообщают, что итальянский король декретировал всеобщую политическую амнистию. И у нас с началом кампании тоже была объявлена амнистия, но… но… только казнокрадам и мошенникам вроде рейнботов, курловых и К°, для к[ото] рых война открыла широкое поле деятельности и приложения их природных талантов. Внесет ли эта война освежающее и очищающее влияние в несчастную русскую жизнь? Не будет ли конец войны и концом выросшего из нее хоть в некоторой степени существующего теперь единения нашего народа? Концом и примирительной политики правительства с проявившейся общественностью? Не сменится ли теперешняя диктатура военного времени на более худшую диктатуру мирного времени, направленную на ликвидацию общественности и на войну с «внутренними врагами» – «крамолой»? И пойдет на Руси все по-старому, и командующие классы останутся ничему не научившимися и ничего не забывшими… Не они ли, может быть, виноваты в теперешнем от нас отчуждении и одиозном отношении к нам Болгарии?
Как хорош английский гимн «Никогда мы не будем рабами!» И как счастливы те, к[ото] рые с основанием, с гордостью и сознательно могут его петь!
16 мая. Душу мою мучительно гложет жажда мира. Во всех уже мелочах нашего «шумим, братцы, шумим» сказываются лишь скорбные результаты всей печальнейшей обстановки нашей государственной жизни. И с уродливой организацией военной санитарии готов бы примириться, если бы того требовала высшая стратегия; готов бы быть, кажется, даже денщиком у наших воевод, только бы они побеждали; но куда ни взглянешь – и приходишь все к тому же безотрадному заключению, как у нас все примитивно по сравнению с тем, что имеется и творится у немцев… То и дело наши летчики падают и разбиваются…
Ночью горько плакал: приснился страшный сон, что Макса[783] повели расстреливать.
В штабном муравейнике злоба дня: женился летчик на сестре милосердия, и через час улетел!.. Об архиерее же Михаиле передают, что в дни наступления немцев на Гродно он усердно окроплял святой водой ядра и пушки, по мере окропления пушки тотчас же палили!
Интересный по необычайности разбирается в Москве процесс профессора Томского универс[итета], д-ра философии и психологии Мариупольского, запутавшегося в сетях всяких коммерческих предприятий и спекуляций, трагически переплетенных с романом… Убил он свою сожительницу и пытался затем убить и самого себя, произнеся в исступлении: «Вы, женщины, не жалеете нас, мужчин…» Для нее же, тоже занимавшейся философией, «каждый лакей был мужчина».
17 мая. Жарко, бездождье. Телеграммы все в таком роде, что «захвачено нами у неприятеля несколько пулеметов, 60 пленных, в том числе много офицеров[784] (sic!)…» Величаво прет на нас колосс, забирая и отнимая у нас методически территорию за территорией, а мы все хвастаемся и кричим «ура», вырывая у него по волосикам из его шерсти!! Несмотря на выступление Италии, я предчувствую, что тевтоны заносят над нами еще где-то могучий свой кулак. Мне думается все-таки, что с точки зрения реакционной ортодоксии в интересах охраны и укрепления своих «исконных» начал государственности, России, как военно-деспотической державе, не следовало бы воевать с Германией – державой, в к[ото] рой кулак, да еще бронированный, возведен в идеал, обеспечивающий человеческое благополучие. С упомянутой точки зрения, между Россией, с одной стороны, и Германией и другими державами одинакового с ней государственного режима – с другой, должна была бы существовать взаимная дружба и круговая порука… Но случилось то, что случилось! России на ратном поле посчастливилось очутиться в благодатнейшем сообществе с государствами прогрессивно-демократического строя. В хорошем же сообществе и плохой человек делается хорошим. Так отчего бы нам не надеяться, что и теперешнее боевое союзничество России с державами благороднейшего режима не повлияет впоследствии самым благоприятным (хотя бы смягчающим!) образом и на ее собственный режим, особенно если и после войны продолжится между союзниками и entente cordiale[785], и формальное соглашение идти рука об руку против внешнего врага? Да здравствуют же наши союзники как защитники России и от ее внутренних врагов – «волков в овечьей шкуре»!! Ура!
Широкогоров[786] (приват-доцент Юрьевского университета), подвизающийся здесь в общественной организации, передавал о пассаже, как приехавший в 1-ю армию помощник верховного начальника по санитарн[ой] и эвакуац[ионной] части генерал Поливанов[787] был изумлен при представлении ему начальника санитарн[ого] отдела полковника Донштрубе[788] и его помощника – тайного советника д-ра медицины Феодосьева… Но… но… все личные и корпоративные обиды, учиненные нам, врачам, всеми этими диктаторами, провокаторами, узурпаторами и эксплуататорами разберем после войны в надежде, что нам и здесь помогут наши благороднейшие союзники, а теперь… теперь будем у вас, всесильных хамов, хозяев положения, хоть сапоги чистить, только – только умоляем вас – победите!! Скоро будет год кампании, и мы просим вас дать нам отчет, что вы за это время у неприятеля взяли и что вы ему отдали! Но, Бог даст, чем хуже – тем будет лучше!..
18 мая. До обеда прошел хороший дождичек, освеживший воздух. Мы все «перегруппировываемся», «выравниваем фронт», да «лихо отражаем наступление противника»; в качестве крупных трофеев телеграммами публикуется о захвате нами гуртов порционного скота у неприятеля. Под Перемышлем и Львовом дерутся, видно, во всю мочь. С плохо деланным пафосом в штабе говорят, что в Галиции дела наши идут отлично!.. Немцы, укрепившись на позициях по последнему слову технической науки, являются для нас неодолимыми, несмотря на малые количества войск, оставленных на них; главную массу войск они бросили в Галицию, где, мне думается, они добьются своей цели очищения ее от нас; на то они на этот раз – «проклятые» немцы.
Не предвидится и конца кровавому кошмару. Как я устал, устал… А для наших штабных эта война – как хорошо оплачиваемая статья; кажется, что чем дольше будет тянуться – тем будет желательнее. Узко одностороннее развитие их и ограниченность умственного кругозора – поражающи. Как я одинок здесь… Перспектива, что мне из-за кажущихся как будто интересов для моих ребят придется до последнего издыхания все служить и служить, и постоянно чувствовать себя совершенно инородным телом в хамской, пустой и пошлой атмосфере военщины, меня приводит в отчаяние.
19 мая. Погода ясная. Гродненская губерния в климатическ[ом] отношении, несомненно, превосходит наши средние губернии.
Источники военных информаций, помещен[ные] в газете, также все тенденциозны; читателю в них надо уметь разбираться и постигать все творящееся больше интуицией. Какими представляются мне артистами немецкие стратеги, сколько у них дерзания, какой широкий размах, мы… мы только отбиваемся; у них – вдохновение, творчество, у нас – консистория[789]!..
Получил письмо от брата Сергея, к[ото] рый под честным словом признается мне так: «Чем больше живу на свете – тем все более и более тебя оцениваю и понимаю». Bella gerant alii…[790] А у нас штабные больше ухаживают, флиртуют, веселятся да дуются в карты… Я – в абсолютном одиночестве от всех. Есть очень расположенные ко мне две женские души, к к[ото] рым и я чувствую то же, тепло переписываемся… И та, и другая стремятся приехать, ч[то] б[ы] лично повидаться; для меня же эта перспектива представляется какой-то тяготой, каким-то покушением на мою свободу, а потому и более нежелаемой, чем желаемой; как-то больше любишь «далекую», чем «близкую»… Да и сидящего во мне черта я давно перекрестил и приказал ему сидеть смирно… Мои дорогие Лялечка и Сережа являются для меня могучим нравственным memento[791] – нравственным даже в самом ветхозаветном смысле…
20 мая. За что ни возьмись, куда ни взгляни – везде как в капле воды отражается распроклятая связь со всей сложностью и совокупностью нашего общего треклятого нестроения[792]. Человек, воодушевленный делать живое дело, обречен у нас на борьбу с ветряными мельницами со всеми проистекающими из сего последствиями. «Энергичный» и «храбрый» наш полковник, к[ото] рому приказано быть акушером, то бишь начальником санитарного отдела (к[ото] рый, в плюс ему еще сказать, настолько имеет здравого смысла, что в отношении меня – единственного, хотя, в отделе – держит себя все-таки в подобающем решпекте; и помпадурское чувство, очевидно, иногда может шокироваться от официального подчинения корпусного врача фендрику!), сегодня на мое неоднократное ему напоминание о необходимости в санитарно-гигиенических целях систематических мной объездов частей армии ответил мне до цинизма откровенно, что-де вполне согласен со мной, но… но, видите ли, принужден не утруждать меня этими турне ввиду того, что должен будет давать мне «свой» автомобиль за неимением других в штабе; между тем на днях в штабе он, расшаркиваясь, искательно предлагал свою машину во всякое время дня и ночи для катанья в распоряжение дежурного и других нужных ему генералов; катанья же у нас устраиваются, конечно, не иначе как с женщинами. Такова общая закваска у наших сынов Марса (Ваала?) – все принести прежде всего в жертву своим пакостным интересам. И больше всего наши «витязи» лягают врачей, к[ото] рые от них так обидно страдают… Ну, потерпим до конца; сидят же подолгу в тюрьме с терпением… А ничто так не ослабляет энергии у человека, как провокация в нем недовольства и раздражения[793]