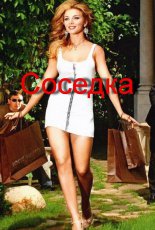Ты мой ненаглядный! (сборник) Муравьева Ирина
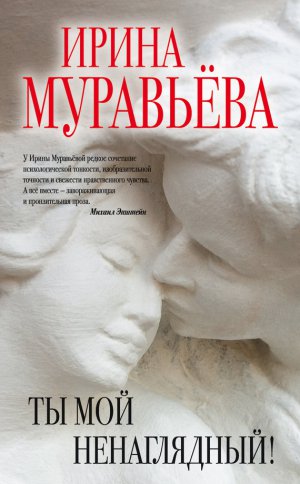
Рассказы
Ты мой ненаглядный
Лазарю исполнилось одиннадцать лет, а Зиги – девятнадцать, и пока был жив отец, никто даже и не обсуждал, где красавец и умница Зиги выучится на адвоката. Разумеется, в Вене, а не в их провинции. И деньги на то, чтобы старший сын стал адвокатом, можно было выкроить: отец, после того как мыловаренный завод за долги перешел от него к кузену Иосифу, остался там управляющим. Долгов уже не было, меньше ответственности.
Умер он почти внезапно. Вечером поднялась температура, в груди заклокотало и засвистело, пришел доктор Унгар, покачал головой, прописал таблетки, сироп от кашля, спиртовые компрессы, лимонное, с медом, питье и сказал, что наведается завтра. Завтра больному будет лучше. Мама сидела у отцовской постели, маленькой рукой гладила его пылающий сухой лоб. К полуночи отец начал бредить, сорвал одеяло, пытался встать, кричал, что его ждут в Венской опере, но вскоре затих, губы его вдруг стали ярко-лиловыми. Мама разбудила Зиги, он выскочил из бывшей детской, где спал теперь один – Лазаря перевели в маленькую боковую комнату, – набросил поверх пижамы пальто и побежал к доктору Унгару, который жил на соседней улице. Доктор Унгар пришел очень скоро, но уже не застал отца в живых. Мама раскачивалась из стороны в сторону, как стрелка в их черных настенных часах. А маленький голубоглазый Лазарь, не понимая, что отца больше нет, смотрел на него не отрываясь и ждал, что отец вот-вот зашевелится под одеялом.
Через два месяца после отцовской смерти мама настояла на том, чтобы Зиги, у которого закончились летние каникулы, вернулся учиться в Вену. Зиги уехал, а Лазарь с мамой остались. Денег было очень мало, и мама продала все свои украшения. Весной у нее появился ухажер – красивый, со смуглым точеным лицом, вдовец по имени Наум Айнгорн, человек очень нервный, вспыльчивый, но добрый, хотя непрактичный, неловкий и мнительный. У Наума Айнгорна своих детей не было, и, когда мама вышла за него замуж, он решил, что теперь будет относиться к осиротевшему Лазарю как к родному сыну. Но не получилось. Мама, прежде такая веселая и беззаботная, выйдя замуж на Наума, стала осторожной, присматривалась к своему быстро взрослеющему сыну, боясь, чтобы его не обидел новый муж и чтобы быстро взрослеющий сын не сделал чего-то такого, от чего новый муж начнет раздражаться и хлопать дверями. Потом родилась в доме девочка Лия, и вроде бы все успокоилось. Жили они тогда уже не под австрияками, а под румынами, но говорили по-прежнему по-немецки, и гимназия, в которую ходил кудрявый голубоглазый Лазарь, считалась, как раньше, «австрийской». В тридцать седьмом Зиги вернулся из Вены. Он стал подающим надежды адвокатом, снял себе прекрасную квартиру, запонки на его манжетах блестели ярче, чем зрачки невесты из-под свадебного покрывала, и каждый вечер гибкий, тонкий, с причесанными на косой пробор волосами молодой адвокат пропадал либо в театре, либо в гостях у таких же, как он, адвокатов или докторов медицины. На одной из вечеринок он встретил Грету и бешено сразу влюбился. Грета немного косила, и это придавало ее белому, белее, чем сливки, лицу особую прелесть. Даже когда Зиги, вставши на одно колено, делал ей предложение, она, полураскрыв нежные губы, смотрела не прямо ему в глаза, а словно бы в сторону, и Зиги от этого так волновался, что слова «люблю» даже не произнес.
Наум постоянно жаловался ему на строптивого Лазаря, и Зиги часто наведывался в гимназию, где обсуждал с учителями поведение брата, за которого чувствовал большую ответственность. Потом прибегал на футбольное поле, где Лазарь обычно стоял на воротах, и драл его за уши. Уши горели. В доме Наума постоянно не хватало денег: он был реставратором старинной мебели, и, если бы не его мнительность и постоянное раздражение на заказчиков, вполне можно было бы жить хорошо, но он не умел. Из города Сталино, бывшей Юзовки, двоюродный брат его Михель, помощник дантиста, писал ему письма, в которых рассказывал, какая судьба бы была у Наума и всей их прекрасной семьи, решись они только сюда перебраться – в советский огромный промышленный центр, где все для людей и всего всем хватает.
– Я в СССР не поеду, – сказал гибкий, тонкий, заносчивый Зиги. – И Грета моя не поедет.
Никто никуда ехать не собирался. Рано утром поднималось солнце над их старым городом, в котором пахло тем, чем пахнет здоровая жизнь: плодами из сада, землею и сеном, и даже лошади трясли гривами от радости, даже приговоренные к смерти быки на скотобойне вдруг начинали надеяться, что их не убьют ни сегодня, ни завтра.
В марте тридцать девятого Зиги купил автомобиль «Фольксваген». Соседи прилипали к окнам, когда белокожая Грета садилась за руль. «Малыш» с крутым лбом, золотистый «Фольксваген», вдруг трогался с места и мчался, как ветер, а синее небо слегка отражалось в его ярких стеклах. Не прошло и года, как румыны передали их город Советам. И все до единого – куры, коровы, и люди, и дети – все стали советскими. Лазарь как раз заканчивал гимназию, ему исполнилось восемнадцать. Грета ждала ребенка, и беременность делала ее еще белее и прозрачнее, как будто она наливалась росою. У Лазаря появилась девушка, которую звали Сусанной, но Лазарь и все обращались к ней: «Сюся». Сусанна за пару месяцев освоила русский язык и наизусть читала Лазарю Сергея Есенина: «Холюбая кофта, синие глаза, никакой я прафты милой не сказал…» Лазарь почти ничего не понимал, но на Сюсю смотрел с застенчивой жадностью. В апреле начались аресты. Забрали доктора Унгара, и соседка, страдающая бессонницей, увидела через окно, как остановилась черная машина, из которой вылезли двое, потом, уже у самого подъезда, к ним подошел дворник с какой-то женщиной, и тут же один из тех, которые приехали на машине, позвонил в дверь. Открыла прислуга, растрепанная, в белом ночном платье, ее грубо отпихнули, и все четверо скрылись в темноте прихожей. Соседка погасила лампу и продолжала смотреть. Через полчаса вывели под руки доктора Унгара, который испуганно озирался, и шляпа ездила по его голове то в одну, то в другую сторону, как будто вся кожа большой его лысины была очень скользкой.
Через неделю пришли к Зиги. Старинные венские часы пробили три. Грета, которая должна была скоро родить, только что заснула: она засыпала под утро, боялась. Услышав резкий звонок в дверь, Грета подбежала к окну и распахнула его, как будто желая выпрыгнуть с шестого этажа на мощенную булыжником улицу. Зиги обхватил ее обеими руками и начал оттаскивать. В дверь все звонили. Тогда он открыл, прижимая к себе, – кричащую, в белой широкой рубашке, с большим животом, – молодую жену. Его увели. Грета, выскользнув тенью, дрожа, завела золотистый «Фольксваген», но долго сидела внутри неподвижно, как будто забыла вдруг адрес родителей. Через неделю сосед шепнул маме, что видели Зиги в окошке теплушки, в которой куда-то везли арестованных. Но этот сосед мог легко перепутать: таких же, как Зиги, – с проборами – юношей в теплушках тогда увозили десятками.
Лазарю стало боязно разговаривать даже с Сюсей, хотя они были близки с ней и уходили далеко в горы, где Сюся его целовала так крепко, что на нежной шее Лазаря, и без того раздраженной бритвой, оставались огненные следы. В мае у Греты родилась мертвая девочка. Сюся объясняла Лазарю, что если Зиги ни в чем не виноват, то он очень скоро вернется, но жить так роскошно, как жили они, и ездить на этом их автомобиле в то время, как люди вокруг голодают, само по себе преступление. И Лазарь не спорил, хотя точно знал, что люди в их городе не голодают. Над своей кроватью Сюся повесила портрет товарища Сталина и часто смотрела на этот портрет, мечтая поехать в Москву и кататься в метро, пока не надоест. Любовь их, однако, росла и кипела, она была больше всего остального, важнее всего, что бывает на свете. В предгорьях Карпат каждый день попадались под ноги босых пастухов отпечатки их тел на зеленой и пышной траве. Потом шли дожди, и трава распрямлялась.
Война началась на рассвете, и к тридцатому июня все, что было советского, ушло, убежало, распалось. Город оккупировали те же самые румыны, которые год назад отдали его товарищу Сталину. Начался такой хаос, что Лазарь совсем растерялся. Он был белокурым, задумчивым юношей, хотя и поднимал штангу такой тяжести, что, когда она, взлетев над его головой, застывала, на потном лбу Лазаря вдруг проступали лиловые жилы. Теперь оказалось, что жизнь – это что-то, похожее тяжестью на его штангу. Победители-румыны пьянствовали и грабили дома тех, которых, как Зиги и доктора Унгара, давно увезли неизвестно куда. Боялись, что скоро исчезнут продукты. Боялись прихода немецких частей. Боялись арестов, боялись расстрелов.
Сюся, полная решимости, сказала своему молодому другу, что ждать больше нечего. Пора уходить, пробираться к своим. Лазарь не понимал, где свои, где чужие, его тошнило от страха, но не за себя одного, а за всех: вокруг убегали, прощались и плакали. Никто – ни один человек – в это время не знал, что с ним будет.
Ночью они ушли. Сюся сколотила небольшую группу: с ними уходил друг Лазаря Эрих, веселый, застенчивый и узкоплечий, прекрасный скрипач, со своей сестрой Бертой и мужем ее пианистом Ароном. А ночь была жаркой, томительно-нежной, и горы Карпатские смутно белели своими высокими чистыми травами, которые даже от запаха крови и то сразу сохли. Мама долго целовала его, и последнее, что запомнил Лазарь, были ее слезы, которые лились по его лицу и шее, затекали за воротник, их было так много, что вся его майка и даже резинка трусов стали мокрыми. Наум, дрожа всем телом, притиснул Лазаря к себе и начал что-то бормотать, просить прощения, что не сумел стать ему ближе отца, но Лазарь его крепко обнял и тихо сказал ему: «папа». А Лия, сестра, темноглазая девочка, с круглой головой, на которой во все стороны росли немыслимой густоты, черные, с синим отливом, запутанные волосы, не плакала, только смотрела, кусая свои очень пухлые губы.
Они уходили пешком, в темноту, не зная, не подозревая, что это судьба их ведет по шоссе, где румыны, по-прежнему пьяные и бесшабашные, еще не успели расставить посты.
В Виннице, до которой они добрались за четыре дня, их долго допрашивали. Город должны были вот-вот сдать, люди разбегались, но вскоре возвращались обратно, поскольку бежать было некуда. Прокуренный начальник военкомата впился красными глазами в лицо Лазаря.
– Почему он по-русски не понимает? – спросил он у Сюси. – Ведь вы же советские люди?
– Но он не успел еще, – с тревогой ответила Сюся. – Ведь мы же недавно – советские люди.
– Но ты-то вот, видишь, успела, – заметил начальник и вдруг перевел на нее красный взгляд.
И Сюся, всегда возбужденная, яркая, наполненная своей первой любовью, вся сжалась от этого красного взгляда.
– Останешься здесь, будешь переводить, – сказал он. – А этих всех, порознь.
Пришла немолодая женщина в погонах и короткой юбке, открывавшей ее набухшие, как разваренная капуста, колени, и увела с собой Сюсю.
Никто из них больше не видел друг друга.
Когда начальник военкомата, изголодавшийся по женскому существу, велел привести Сюсю к себе на квартиру, он не собирался ее убивать. Он просто хотел ее сильного тела. И ждал ее: в белой несвежей рубахе, расстегнутой так, что видна была грудь, заросшая старой, седой, редкой шерстью.
– Садись, – сказал он. – Будешь пить?
Достал два стакана, налил из бутылки. У Сюси глаза стали черными ямами.
– Но-но! Без истерик, – сказал он. – На, пей.
Она замахала руками:
– Не буду.
– Как хочешь, – сказал он и выпил.
Потом оглядел ее всю. Как лошадка стояла она перед ним: мускулистая, с крутыми боками и выпуклой грудью, с кудрявой, лохматой, как грива, косой.
– Давай, только живо, – сказал он. – Раз-два. Законы военного времени.
И сразу толкнул на кровать. Сюся вывернулась и ребром ладони изо всей силы ударила его по лицу. Он отшатнулся от неожиданности, и она, не давая ему опомниться, вонзила растоптанный грубый каблук с железной набойкой в живот командиру. Тогда он ее застрелил. Будешь знать.
Тою же ночью Лазаря, не подозревающего, что Сюся уже часа два как зарыта в нагретую летнюю землю, записали рядовым в одну из отступавших военных частей. Он всех потерял. И его потеряли. Жизнь стала войной, а война стала жизнью. Ему говорили: «стреляй». Он стрелял. Кричали: «в атаку!» И он шел в атаку. При этом внутри него не было ни одного ясного чувства, ни одной связной мысли. Пару месяцев назад он горячо любил маму, Сюсю и плакал от страха за Зиги. Теперь он и не сомневался, что мамы и всей их семьи давно нет, а думать о Сюсе ему стало страшно. Он был еще сильным, но очень худым, курил, ненавидел спиртное. Солдаты учили его бранным русским словам.
Прошел почти год. За все это время у него ни разу не было женщины, но несколько ночей подряд снилась какая-то незнакомая девушка, ничем не напоминавшая Сюсю, с грустными глазами. Он гладил ее лицо, целовал эти глаза и чувствовал, как ее нежные веки дрожат, словно крылышки пойманной бабочки. Хотелось бы встретиться с ней, но и девушки не существовало.
– Ты – милая, милая, – шептал он по-русски и сглатывал ком не то своих слез, не то крови. – Ты самая милая.
Он был очень голоден. Сильно, все время. Однажды, в окопе, он вспомнил инжир, которым его угостил отец Греты. Инжир был морщинистым и маслянистым.
– Он так хорошо помогает от кашля, – сказала тогда мама Греты. – Ты любишь инжир с молоком, милый Лазарь?
В конце сорок второго года из Кремля поступило распоряжение: снять с фронта бывших румынских граждан и отправить их за Урал в трудовую армию.
Ему повезло. Небеса так решили: чтобы он еще жил, жил и жил. Еще был нетронутый свиток событий, ночей, дней, ночей и заново дней, которые ждали его. Еще была я. Мне досталось держать его руку в последнюю ночь.
Лазарю повезло, потому что его отправили не в лагерь, а на поселение в деревню Чалки. До Чалок от станции, на которой остановился товарный состав, всю ночь шли пешком. Высоко над головами громоздились серые облака, луна, перед тем как растаять, взглянула на них равнодушно, вздохнула: «Помрете вы все».
А он вот не помер. Бои начинались, едва рассветало. Они наступали на лес так, как прежде на них наступали враги в серых касках. Они воевали с деревьями. Высокие, в колючем серебре, сосны знали, что их ждет. Черные существа копошились внизу и были похожи на насекомых. По двое они подходили к сосне, топтались вокруг и потом, хрипло крякнув и сплюнув на снег чем-то желтым и горьким, похожим слегка на смолу, принимались пилить. Дерево умирало медленно. Охватывающая его боль поднималась от корней, сведенных судорогой, до самых вершин. Вершины, тускло освещенные еще не разгоревшимся по раннему часу солнцем, начинали тревожно шуметь, пытаясь привлечь к своей смерти вниманье, проститься навеки, и тут же в ответ им шумели другие, такие же, ждущие смерти, вершины. Бои шли до самого позднего вечера. Голодные и озлобленные люди продвигались все глубже и глубже в заснеженную тьму чужого мира, безжалостно убивая его коренных жителей, которые, став мертвецами, обрубками, лишившись ветвей, с тонким, жалобным скрипом, давали связать себя и очень сильно, отчаянно долго еще сохраняли сосновый свой запах.
Лазарь был молодым и выносливым. Если бы не постоянное чувство голода, он, может быть, оледенел бы всем сердцем, забыл обо всем, обо всех. Но голод его будоражил. От голода он становился живучим. От голода он не мог спать. Изба, куда его с первого дня подселили к старухе Анисье, из раскулаченных, давно схоронившей детей, мужа, внуков, высокой, с ресницами, снега белее, с морщинами, глубже следов от полозьев, была вросшим в землю, трухлявым строением. Он ел свой паек за синей ситцевой занавеской, нарядно отгородившей топчан, на котором он спал, от печи. Анисья, прямая, в платке до ресниц, толкла в медной ступке сухую крапиву. Ее добавляли в муку. Съеденный за один присест кусок серого, всегда слегка влажного хлеба усиливал голод. Он даже не чувствовал вкуса того, что быстро прожевывал, сразу же сглатывал. Анисья ему говорила:
– Попей. Вода холонит и тоску разгоняет.
Он слушался, пил. Анисья могла бы его ненавидеть: ее сыновья давно сгнили в земле, а он, – непонятно, чей сын, – был жив и дышал. Но в ней была жалость, хотя и негромкая: на все нужны силы. Посреди ночи он просыпался от голода, Анисья храпела во сне. Тогда он вставал, выходил, стуча зубами, в ледяной чулан, где висели связки лука и несколько связок грибов. Если бы мама или Зиги – в скользящем, сиреневом, шелковом галстуке – его сейчас видели! Он воровал лук, осторожно отколупливал сморщенные чешуйки и быстро жевал их, потом сосал кислый коричневый гриб и, чувствуя, что уже хочется спать, ложился опять на топчан. Во сне к нему шли Сюся с Гретой, и Лия, и отчим, и мама, и Эрих с Ароном, но их относило порывами ветра.
– Жанился б ты, Леша, – сказала Анисья. – Мушшина тут есть. Из Москвы. Их евакуировали от фашистов. Яврей, как и ты. С дочерами. Кудлатые! Они тобя, может, подкормят.
По пятницам Лазарь ходил в комендатуру за двенадцать километров в областной центр Юзгино и там отмечался.
– Ишшо не сбежал? – добродушно спрашивал его одноногий комендант с прокуренными, желтыми, жесткими, как старые иглы у сосен, усами. – Ну-ну. Далеко не сбежишь…
Эвакуированные жили в бараках на берегу Тути, речонки широкой, но мелкой, безрыбной.
– Дак как я пойду? – с немецким акцентом, но так же тягуче, как здесь говорили, спросил он однажды. – Зачем я им нужен?
– Старухи сказали: «жанить надо Лешу. А то он помрот у тебя. Пушшай лучше к этим явреям идот. Поскоку у них пишша есть».
– Откуда у них сейчас пишша? – спросил он.
– Дак умный мушшина, яврей. Пошел счетоводом в колхоз. Ему лошадь дали. А там, может даже, корову дадут. В бараке живет, а особо от всех. Хороший барак, самый лучший. И с хлевом.
На рассвете в пятницу Лазарь долго мыл ледяной водой из кадки отросшие за зиму русые кудри.
– Ишшо не сбежал? А? – сказал одноногий. – Ну-ну, далеко не сбежишь…
К двери барака вела протоптанная в глубоком, твердом снегу дорожка. На самом пороге – ободранный веник: смахнуть с себя снег, чтобы не наследить. Ему стало стыдно за то, что он голоден, но он пересилил свой стыд, постучался.
– Входите, открыто, – сказал хрипловатый девический голос.
В низкой комнате с бревенчатыми стенами стояла кровать, покрытая вязаным покрывалом, стол, две лавки. Топилась печь и сильно пахло сосновой смолой. Маленькое кривое окно наполовину заросло с улицы лебяжьим сугробом.
– Вы к папе? – спросил этот голос.
Лазарь не отрывал взгляда от своих валенок и не видел той, которая разговаривала с ним.
– Чего вы молчите?
Он поднял глаза. Девушка лет двадцати, хорошенькая, с коротким прямым носом и большими лучистыми глазами, смотрела без тени улыбки. Ее хрипловатый простуженный голос мешал темно-синим лучистым глазам.
– Вы кто? По какому вопросу? – Она начала раздражаться.
Из-за занавески, которая разгораживала комнату, выскочила пожилая, в мелко-серебристых кудряшках на лбу и висках, горбоносая женщина с вязанием в крошечных пальцах.
– Вы к Якову Палычу? А он в конторе. – Она улыбнулась неловко, пугливо.
– Я на поселении тут, – сказал Лазарь.
– Анечка! – захлопотала кудрявая. – Предложи молодому человеку снять верхнюю одежду. Проходите, пожалуйста. Мы знаем, как трудно живут поселенцы. Садитесь. У нас тут тепло.
Он снял во многих местах продырявленный ватник, который был очень велик, и все под него задувало. Сел, сжимая ватник в руках, и опять опустил глаза.
– Хотите попить кипятку с горным медом?
Из-за той же самой занавески вынырнули еще двое: девушка постарше, чем первая, с глазами поменьше, неяркими, светлыми, и с ней очень похожая на Анечку, скорее всего, ее мать, – вся седая, с лицом, таким робким, как будто за жизнь никто никогда ее не приласкал.
– Да нет, – сказал он. – Ничего не хочу. Пришел познакомиться.
Горбоносая, с серебристыми кудряшками, поставила перед ним чугунок с горячей картошкой, миску, пододвинула блюдце с крупной серой солью, потом сестра Анечки, по-прежнему не двинувшейся с места, нарезала на доске вынутый из печи горячий, с темно-золотой коркой, хлеб. Голова у него закружилась так сильно, что Лазарь слегка пошатнулся на стуле. Анечка подхватила его под локоть маленькой, но жесткой рукой.
Обжигаясь и торопясь, он ел растрескавшимися пересохшими губами картошку, отгрызал слабыми зубами хлеб и проглатывал не разжевывая, а три женщины сидели напротив, подпершись, и смотрели на него. Анечка стояла, прислонившись к печке тоненькой спиной, и глаза ее из темно-синих, лучистых, становились черными. Когда он наконец сглотнул последние крошки, Анечка принесла банку густого, темного меда и чистую ложку.
– Вот, – громко сказала она. – Попробуйте. Вкусно.
От сладости и крепкого запаха меда у него опять закружилась голова, и его начало сильно тошнить. Он испугался, что его сейчас вырвет, и вся эта сытная, прекрасная еда вывалится из живота наружу, а он будет голоден так же, как прежде. В дом, стуча обмороженными валенками, вошел старый, но крепкий человек с внимательным взглядом, блеснувшим на Лазаря. Он понял, что это хозяин, и встал.
– Спасибо, – сказал он. – Я ел у вас тут.
– Соня, – спросил вошедший. – Кто это?
– Иаков, – заволновалась женщина с серебристыми кудряшками. – Мы сами не знаем, Иаков! Пришел, мы его накормили… Он из поселенцев.
– Еврей?
– Я еврей, – сказал ему Лазарь.
– Садитесь, – вздохнул Иаков и пожевал лиловыми с мороза губами. – Садитесь и кушайте. Что вы вскочили?
Он ел мед, запивал его кипятком и быстро, блаженно пьянел. Глаза его сами закрывались, заволакивались изнутри слезами, и дико хотелось смеяться от радости. Анечка осторожно отодвинула от него ополовиненную банку.
– Вам плохо же будет!
Он покорно кивнул, облизнул ложку и аккуратно положил ее на пустую тарелку.
– Отдай ему банку! – сказал ей отец. – Раз хочет, – пусть ест.
Ты – мой ненаглядный. Может быть, все это было и не так, не совсем так. И имена другие, и мед был, наверное, светлым. А может быть, не было меда. Но разве сейчас это важно? Разве сейчас – в никем не осознанной глубине, которую свет заполняет собою, в которую мне путь заказан до срока, а ты уже там, – разве во глубине и свете мы призваны помнить подробности?
Первую неделю он почти ничего не замечал, кроме еды. От дома Анисьи до барака, где жил Яков Палыч с семьей, было не меньше двух часов пути, но теперь у него появились силы, он был почти сыт.
– Ишь, как залоснился! – сказала Анисья. – Ишь, мраморный весь.
Она подходила и грубой, но ласковой рукой приподнимала его отросшие надо лбом кудри. Кожа под волосами была белой, как поземка.
– Ты время-то там не тяни. А то ведь уедут они, не догонишь. В Москву ведь уедут, как немца прогоним.
И Зиги, которого он все чаще видел рядом по ночам, говорил то же самое. Зиги приходил в рваном и засаленном, с чужого плеча, тулупе, один рукав у которого был пришит недавно и резко выделялся своим ярко-оранжевым цветом. Лицо брата не изменилось нисколько.
– Я жду сюда Грету, – сказал он однажды. – Теперь уже скоро.
– А мама с тобой?
– Она еще там. Ты разве не видишь ее?
– Нет, не вижу.
У Зиги задрожали веки.
– Я знаю, что все еще там. И отчим, и мама, и Лия. А Грета ко мне очень скоро придет.
Теперь – если бы принесли телеграмму «все умерли» – Лазарь бы ей не поверил. Мертв был только Зиги, но он любил Лазаря, поэтому и возвращался к нему.
Cтаршая дочь Иакова, или, как все называли его, Якова Палыча, Дора все пыталась улучить минутку, чтобы поговорить с Лазарем наедине. Она заочно училась в Томском университете и собиралась стать историком. Младшую сестру Мириам, которая саму себя переименовала в Анечку, Дора не перевариварила с детства.
– Тебя зовут Лазарем, верно? – спрашивала она, сверля Лазаря небольшими светлыми глазами с голубоватыми тенями под ними. – Ведь ты же не станешь требовать, чтобы тебя называли Апполоном?
– Анисья меня давно Лешей зовет. Я даже привык.
Дора фыркала громко, как лошадь, и быстро наматывала кудрявую прядь на указательный палец. Они сидели у печки, которая только что разгорелась и дымила. Мать и тетка пошли доить коз, которых у Якова Палыча было три: Алиса, Виолетта и Тамань. Анечки дома не было.
– Она и над козами поиздевалась! – дрожащим голосом сказала Дора. – Ведь это она им дала имена! Какая «Тамань»? Тамань – это город на юге!
Лазарь молчал. Он не отрываясь смотрел на муку, которая возвышалась над поверхностью стола желтоватой длинной горкой, странно напоминающей крышку гроба, и думал о том, что пора бы печь хлеб. Дора пододвинулась к нему и, резким отчаянным движением схватив его горячую руку, потянула ее к своей талии. Он сразу отпрянул: Дора не привлекала его, и в теле Лазаря ничего не отозвалось, но она все теснее и теснее прижимала его ладонь к своей штапельной кофточке, на которой были какие-то вылинявшие голубые бутоны, и даже попыталась опустить его ладонь еще ниже, где начиналось крутое и тяжелое бедро. Он понял, что если сейчас убежать, то Дора его сразу возненавидит, и он тогда больше сюда не придет. Как можно вернуться в тот дом, где тебя ненавидят? И есть в этом доме картошку и хлеб? И пить молоко Виолетты с Таманью? Глаза Доры стали как будто слепыми, а губы ее вдруг раскрылись, разбухли. Он испуганно покосился на окно, застланное сугробом, и тихо вытянул свою руку из ее вспотевших рук.
– Нельзя. Мы с тобой не одни.
– Тебя ведь могли бы убить! – сказала она. – Мы тогда бы не встретились!
– Я на поселении здесь. – Он запнулся. – Меня еще могут убить даже здесь. Меня везде могут убить.
Она опустила глаза:
– Ты Мириам любишь? Но только не ври!
В комнате стало почти темно, разгоревшаяся печь красиво и ровно шумела. Мучная атласная горка была чуть заметна.
– Не ври мне! Не ври! – вдруг заплакала Дора. – Они мне все врут: и мама, и папа, и Соня! Про Мириам не говорю!
– Зачем они врут?
– Я тебе объясню. – Быстро и горячо заговорила: – Ты сам все поймешь! У папы в Москве есть любовница. Я слышала их разговор. Два года назад. Перед самой войной. И папа сказал тогда маме: «Ты знаешь, что я никуда не уйду. От Мириам я никуда не уйду. Она тяжело нам досталась с тобой». И да! Это правда! Ее от чего только не лечили в Москве! Она у них все умирала! Всю жизнь! А папа всегда с ней носился! Всегда! «Майн тахтр, майн тахтр!»[1] А я была папе почти безразлична! Потом он сказал, что не сможет уйти: его эта женщина – русская, слышишь? Она не еврейка. Ты понял меня? А он никогда не уйдет к русской женщине!
– И так всю жизнь врут? – спросил он простодушно.
– Ах, да! Так всю жизнь. Ты видел, какие у мамы глаза? И Соня все знает. Но Соня сама…
Тут Дора запнулась.
– Что Соня сама?
– Она даже замуж не вышла, вот что! И все из-за папы. Она его любит. Он, кажется, думал жениться на Соне, но мама была из богатой семьи, а Соня – двоюродная, без отца. И выросла в бедности… Соню мне жалко. Сестра моя с ней, как с прислугой! А Соня ни в чем ей не перечит. Ей лишь бы при папе. Он Соне сказал: «Мы сразу простимся, когда я почувствую, что больше в тебе не нуждаюсь. Решай». Она и боится. И коз научилась доить лучше мамы, и кур развела, лишь бы он не прогнал.
Дора горько, навзрыд плакала, прижавшись к плечу его мокрым лицом. Он сразу подумал про Сюсю. Она, может быть, тоже плачет сейчас. Прошло ведь два года. А жизнь человека – такая же, как у деревьев в лесу. Поднимешь свою обреченную голову, шепнешь в облака: «Жить хочу, помоги!», а там и поникнешь, и весь ослабеешь. Придут с топором и порубят на части.
Плечо его в засаленной, тяжелой от пота гимнастерке стало мокрым от ее слез. Он тихо погладил ее по скользкой, тоже как будто раскалившейся и слегка дрожащей от рыданий косе. Дора подняла голову, притиснула его к себе обеими руками и быстро прижалась губами к его растрескавшимся губам. Дверь за их спинами громко хлопнула. На пороге, вся запорошенная, с белыми пушистыми ресницами и блеском своих круглых глаз сквозь ресницы, стояла сестра Доры Мириам, которую все звали Анечкой. Старухи в деревне о ней говорили: «мала больно, чистая кукла, не девка».
Она закусила губу и с каким-то диким озлоблением, которое было трудно даже предположить в девушке с такими лучистыми глазами, сказала раздельно:
– Я вас поздравляю.
И тут же исчезла.
– Ну, все, – прошептала испуганно Дора. – Теперь нам принцесса устроит! Увидишь!
Он бросился следом за Анечкой. Было совсем темно, какой-то слабый огонек – звезды или отблеска бледной звезды – тревожно замигал в небе, как будто ему подавали надежду, как будто бы чья-то душа – Зиги? Сюси? – хотела его поддержать в этом мире, который обоим уже был чужим. Торопливо ступая большими, с крепкими добротными заплатами на пятках, валенками, приблизились к дому жена Якова Палыча и Соня, двоюродная, приживалка.
– Ты, Лазарь, опять наших девушек ждешь?
– Нет. Анечка только что вышла куда-то, а Дора там, в доме.
Они удивились:
– А Анечка где?
Он не успел ответить: повалил такой снег, что все трое задохнулись от неожиданности.
– Ву майн тахтр?[2] – сквозь вату тяжелого снега услышал он голос испуганной матери.
Лазаря обожгло стыдом.
– Сейчас я найду ее, я приведу!
Он бросился направо и тут же провалился, зачерпнул валенком ледяного, пронзившего холода и, чувствуя, как в горле начинает стучать от страха, высвободился и, разгребая глубокий снег обеими руками, начал двигаться дальше. Вокруг было и темно, и одновременно странно светло от снега. Все звуки исчезли, только в голове стоял шум собственной крови.
– Унд во их бин?[3] – резануло его по самому сердцу, и твердая уверенность, что это конец, что он никогда не вырвется, никогда не увидит ни дома, ни мамы, ни Сюси, охватила его с такой силой, что он опустился на снег и зарылся в него всем лицом, как собака.
– Их бин им криг![4]
И тут же он вспомнил, что в этой метели нетрудно погибнуть, и нужно идти и искать эту девушку, которая так на него обозлилась. А что он ей сделал? Лазарь поднял голову. Снег валил на него сначала беспощадно, густо, яростно, но потом, на самой вышине, вдруг растворился на секунду, и прозрачный дым не то лунного, не то какого-то другого света еще раз блеснул на него. Он сделал шаг влево и сразу наткнулся на что-то живое. Сквозь белизну проступила фигурка Анечки, идущей навстречу ему, увеличенной едва ли не вдвое налипнувшим снегом. Лазарь снял рукавицу и коснулся ее холодного лица.
– Тебя там все ищут, – сказал он с усилием.
– И больше всех Дора, – с издевкой сказала она. – Я вся обморозилась здесь. Я шагу не сделаю больше.
Тогда он взял ее на руки и понес.
Ты мой ненаглядный. У тебя были глаза такой голубизны, что даже когда мы с тобой умирали, нам осталось два дня до минуты, когда лоб твой стал ледяным, ты вдруг посмотрел на меня тем вернувшимся, совсем молодым и совсем голубым, – таким голубым, что сейчас его чувствую, – сквозь всю нашу жизнь и сквозь все мое детство, – внезапно вернувшимся взглядом. Я помню.
В конце февраля Анечка, покусывая нижнюю губу, сказала матери, что ее все время тошнит. Весь этот месяц Иаков, наблюдая за своей любимой младшей дочерью, строптивой, упрямой, с лицом как у куклы, но с очень решительным, жгучим характером, чувствовал, что сердце его готово выскочить из груди от боли. Но, кроме боли, у Иакова, – Якова Палыча, всеми уважаемого бухгалтера совхоза «Сибирские выси», – была еще гордость, и именно гордость не позволяла ему схватить приблудившегося к ним красавчика Лазаря за его темно-русые кудрявые виски, притиснуть к стене и спросить:
– Ты, Лазарь, о чем себе думаешь?
А Лазарь не думал. Он приходил к ним в дом почти ежедневно, его там кормили и потихоньку вытягивали из его недозревшей испуганной души все, что она накопила за жизнь. Они уже знали про маму и Зиги, про Грету и Лию, Наума, про доктора Унгара и про гимназию. Скрывал он от них только Сюсю. Дора страдала от неразделенной страсти и так безутешно плакала по ночам, что к утру наволочка ее была насквозь мокрой. Анечка смотрела мимо Доры, мимо Сони и только, встречаясь взглядом с отцовскими настороженными и огорченными глазами, слегка поджималась, как будто робела. С Лазарем она стала женщиной. Это случилось через два дня после того, как он отыскал ее в дымящейся вьюге и на себе приволок домой. Случилось внезапно, каким-то порывом, и Лазарь хотел даже встать на колени, когда она вся искривилась от боли.
– Прости меня, Анечка, я…
– Дурачок, – сказала она. – Ты ведь любишь меня?
Началась новая жизнь. Невыносимо острые, не до конца понятные ей самой ощущения, которые Анечка теперь испытывала всякий раз, когда они оставались наедине, наполняли ее каким-то странным, раздраженным сознанием власти над ним, как будто бы он был рабом, а она – госпожою. И то, что он ярко краснел и стеснялся, смотрел так, как будто сейчас убежит, – все именно это ведь и подтверждало! А Лазарь страдал от стыда, от неловкости, казалось, что он виноват перед нею, хотя было видно, что оба нуждались в здоровой телесной любви. Когда Анечка уводила его за занавеску, где стояла ее кровать, накрытая связанным Соней одеялом, и требовательно смотрела на него своими очень лучистыми глазами, уверенная, что его нерешительность вызвана опасением, как бы не вернулся кто-нибудь из домашних, Лазарю всякий раз хотелось сказать ей, что у него есть Сюся, и поэтому даже если он никогда не ляжет с Анечкой на эту кровать и никогда не закричит от чисто физической, сладостной муки, во время которой мужчина не помнит, ни где он, ни кто с ним, то он очень скоро забудет и Анечку, и запах ее очень белого тела, и то, как она часто-часто моргает и не произносит ни слова во время их быстрых, пугливых, неловких сближений.
Через полтора месяца она сказала маме, что ее тошнит, и мама вместе с Соней – обе закутанные в пуховые деревенские платки и перепуганные насмерть – выпросили у Иакова лошадь с подводой, чтобы отвезти Анечку в больницу. Иаков низко опустил голову, и видно было, как у него задрожала левая щека.
– Что с Мириам? – спросил он глухим рваным голосом.
– Она нездорова, – сказала жена. – Пусть доктор посмотрит.
– Пусть доктор посмотрит. – Он побагровел. – А мы с тобой разве без глаз? Мы слепые?
В областной больнице высокая, похожая на мужчину, с мелкой, кудрявой растительностью над верхней губой и вдоль щек, фельдшерица обнаружила, что Анечка беременна. Выслушав эту новость, немые от ужаса мама и Соня дрожащими руками напялили на Анечку шубку, всунули в валенки ее крохотные ноги и, плача навзрыд все втроем, вернулись домой. Иаков в железных очках и в ермолке сидел за столом, на котором лежала раскрытая Тора. Он сразу все понял.
– Иди сюда, Мириам. Садись и не бойся.
Лицо его словно подернулось пеплом. Стараясь не задевать взглядом ее тела, как будто бы в теле ее было что-то, чего он боялся, Иаков спросил, как же это случилось. Она промолчала.
– Тебе нужно замуж, – сказал он спокойно. – Где Лазарь?
– Но я не хочу еще замуж! Зачем мне? – И Анечка вспыхнула. – Я не хочу!
– Теперь уже поздно хотеть или нет.
Надел рукавицы, тулуп, волчью шапку. Ермолку сложил, завернул в кусок шелка. Прошел мимо Сони и мимо жены, как будто бы их вовсе не было в комнате. Через несколько минут, тяжело ступая валенками по скрипящему снегу, подвел уставшую лошадь к водовозке, и пока она бархатными, коричневыми губами пила из кадки, на которой разбила тонкий лед, ударив по нему мордой, обдумывал то, что ему предстоит. Было совсем темно, за снежной долиной, под которой стыла река, мертвым и неприкаянным светом блестел тонкий месяц.
Лазарь выскочил на крыльцо босым, в одной рубахе.
– Она ждет ребенка. Ты знаешь об этом?
– Я – нет! Она мне ничего не сказала! – И Лазарь закашлялся хрипло и громко.
– Убил бы тебя, но ребенка мне жалко. Хоть толку с тебя, как с козла молока.
– Но мы с ней распишемся! Я ведь согласен!
– Сначала меня бы спросил: я согласен?
В проеме двери показалась Анисья с лучиной, горевшей кровавым огнем.
– Здоровья вам, – громко сказала она. – Зайдите в избу, заметет.
– Здоровья и вам, – поклонился Иаков. – Мы поговорили уже. До свиданья.
Их расписали в областном центре Юзгино. На Анечке было красивое платье, и Соня связала ей белую розу, которую Анечка вдела в пучок. Туфельки, купленные еще в Москве, она надела прямо в санях, поэтому Лазарь, причесанный на косой пробор и ставший похожим на Зиги, нес Анечку, словно ребенка, до самых дверей неказистой конторы. В конторе стоял крепкий запах махорки и талого снега. Вечером состоялась свадьба. Дом Иакова жарко протопили, посреди его устроили хупу: натянули ярко-белую простыню на четырех высоких столбиках, и под эту простыню встали смущенные молодожены. Слепая от слез, пропитавших лицо и сделавших красными тени подглазий, сестра новобрачной держала свечу.
«Барух Ата Адонай, Элохейну Мелех ха-олам ашер бара сасон ве-симха, хатан ве-хала…» – серьезным, торжественным голосом нараспев произнес Иаков. – Благославен Ты, Господь наш Бог, Царь Мироздания, сотворивший веселье и радость, жениха и невесту…»
Лазарь смотрел на свою жену, у которой ярко горели щеки, а в лучистых глазах стояло диковатое удивление, потом переводил зрачки на ее отца, который мог бы, наверное, убить его за то, что он, не любя, сделал его дочке ребенка, и думал, что эти вот тихие люди спасли ему жизнь, и что, если бы Зиги увидел сейчас эту скромную свадьбу среди неподвижных алтайских сугробов, он был бы, наверное, рад за него.
На следующий день Яков Палыч, всеми уважаемый бухгалтер совхоза «Сибирские выси», начал хлопотать, чтобы мужу его младшей дочери разрешили перебраться к ним в барак и жить с ними общей семьей. Пришлось дать хорошую взятку одноногому коменданту, но и от коменданта не много зависело. За взятку в военные их времена могли расстрелять и того и другого. В конце концов, случай помог: в школе умер директор, хороший мужик, на себе все тащивший. Он преподавал и немецкий, и химию. Вот тут Яков Палыч подсунул зятька.
– Уж кто-кто, а Лазарь сумеет! Научит!
Никто ему не возражал. Одноногий, скрепя пьяное сердце, подписывал справки.
Анисья, прямая, в платке по глаза, стояла на верхней ступеньке крыльца.
– Иди суда, Леша, хоть перекрещу. Ты лук у меня воровал по ночам, – сказала она. – Думал, бабка-то спит. А я не спала, я жалела тобя. Пускай, – говору, – хоть лучком поживится, а то ведь помрот. Когда старики помирают, не жалко, а ты молодой.
Он больше не убивал деревья, предсмертный скрип которых наматывался на голову, как бинт, и не отпускал его ни днем, ни ночью, он преподавал теперь в школе, где строгие, с большими руками, уральские девушки всегда опускали глаза, отвечая. И спал он теперь не один, а с женой. Она заплетала кудрявые волосы, ложась с ним в постель, в очень толстую косу, конец у которой он ей перевязывал большой белой лентой с конфетной коробки, еще довоенной и очень нарядной.
Ночью Лазарь просыпался от того, что сердце его дико билось в груди. Ему это напоминало, как бились на рынке в родном его городе куры, которым особенно ловко и быстро, специальным топориком, резали головы. Анечка спала рядом, и ее лицо с размашистыми, как листья папоротника, ресницами во сне становилось задумчиво-детским. Лоскутное одеяло бугорком приподнималось на животе: до родов осталось чуть больше недели.
Чего он боялся? Того, что ребенок умрет. Того, что придут и его арестуют. Того, что нет мамы, нет Лии, нет Зиги, Наума и Греты, Арона и Сюси. Есть только война. И война – это жизнь.
Ребенок родился в четверг. Хрупкий мальчик. Глаза как у матери, но голубые. Октябрь был теплым. Когда они возвращались из больницы, подул свежий ветер, и белую гриву их лошади вдруг позолотило слепящим закатом. Приблизив ребенка к лицу, Лазарь начал его согревать осторожным дыханьем. Ребенок поморщился, но не проснулся.
Ты – мой ненаглядный. Теперь, в том пространстве, где все – только свет и куда не смогу пробиться до срока, – ты помнишь все это? А помнишь, как ты мне сказал «моя доченька», когда уходил, оставлял меня здесь?
Дед
Закрываю глаза и вижу этот переулок. Первый Тружеников. Двухэтажный деревянный дом, в котором я прожила первые десять лет своей жизни, и маленькую церковь на той же, правой, стороне улицы, где Чехов венчался с Ольгой Книппер, и угловой дом, на втором этаже которого жила моя одноклассница Алка Воронина, и у ее мамы, работающей в ГУМе продавщицей, часто бывали гости.
Я никогда не представляю себе его летом, всегда только зимой. Странная вещь – воображение: вижу не только снег, от которого бела и пушиста мостовая, но чувствую его запах, слизываю его со своей горячей ладони, только что больно ударив ее на ледяной дорожке, которые мы называли «ледянками» и на которых всегда звонко падали, особенно лихо разбежавшись. Когда я родилась, парового отопления в нашем доме еще не было, отапливали дровами, и особым наслаждением было ходить с дедом на дровяной склад – по раннему розовому морозцу – выбирать дрова. Так чудесно пахло лесом, застывшей на бревнах янтарной смолою, что жалко было уходить из этого мерцающего снегом и хвоей царства, где свежие дрова лежали высокими поленницами и покупатели похлопывали по ним своими рукавицами, прислушивались к звуку и даже, бывало, принюхивались.
Дед умер, когда мне было семь лет, и самое яркое воспоминание о нем связано с тем, как последней перед школой зимой меня решили поглубже окунуть в детский коллектив, покончить с моею застенчивостью, но в сад отдать все-таки не захотели, а выбрали для этой цели «группу». «Группами» называли детей, гуляющих в сквере с интеллигентной дамой, а чаще старушкой из «бывших», которая играла с этими (тоже обычно интеллигентными!) детьми, водила с ними хороводы и заодно пыталась заронить в их беспечные головы несколько иностранных слов, обычно немецких и реже – французских. Таким образом здоровая прогулка на свежем воздухе совмещалась с образованием. Сначала меня записали к Светлане Михайловне, женщине румяной, круглоглазой и очень крикливой, но вскоре выяснилось, что ни одного иностранного языка Светлана Михайловна не знает, и меня перевели в другую группу, поменьше, где худенькая старушка Вера Николаевна с каким-то хрустальным пришептыванием легко переходила с одного иностранного языка на другой, но главное: только увидев меня, сейчас же вскричала: «Мальвина!» Чем очень понравилась бабушке.
Меня привели в сквер, как и полагалось, к десяти. Привел дед и, оглядев всех детей, а особенно Веру Николаевну, зоркими и умными глазами, пошел было к главной аллее (мы гуляли в маленькой, боковой!), чтоб выйти из сквера на улицу.
Я зарыдала и бросилась его догонять. Вера Николаевна бросилась за мной, интеллигентные дети, побросав свои лопатки, бросились за Верой Михайловной, и, хрустя по чистому, еще не исхоженному снегу своими валенками, мы все догнали деда и окружили его. Я, не переставая рыдать, уткнулась в карман его тяжелого добротного пальто, где лежали ключи. Дед растерялся. Меня необходимо было заставить остаться в этом хорошем детском коллективе, потому что иначе как же я пойду в сентябре в школу – такая вот дикая, странная девочка? Но при этом звук не то что моих рыданий, но даже легкого всхлипывания действовал на деда так неотразимо тяжело, что лучше уж было забрать меня сразу домой, пойти со мной вместе на склад, в военторг, где круглый год продавались елочные игрушки, и даже пойти в гастроном на углу и позволить мне выпить стакан томатного сока из общего, слегка ополоснутого стакана, что было строжайше запрещено бабушкой. И соли туда положить тоже общей, кривой и обугленной ложкой.
Умная и, думаю, всякого повидавшая на своем веку Вера Николаевна, хрустально пришептывая, предложила деду гениальное решение: сесть на одну из массивных лавочек с ажурными, утопающими в снегу лапами, спиной к нам, резвящимся на иностранном языке в маленькой боковой аллее, и так просидеть три часа. И я успокоюсь, поскольку дед рядом, и буду с детьми, как о том и мечтали.
И он послушался её, вернее меня, моих этих слез, и капризов, и криков. Он сел на лавочку, стоящую на центральной аллее, а я с остальными детьми вернулась к тому столетнему дереву с дуплом, под которым полагалось водить хороводы. И заигралась, конечно, забыла о нем, увлеклась своей новой и полною жизнью. Но каждые десять-пятнадцать минут я спохватывалась, бросала лопатку, бросала «куличик», слегка кривобокий от формы ведерка, и переводила глаза на эту лавочку, над которой возвышалась прямая спина моего деда, посеребренная мягко и медленно идущим с небес снегом. Один раз я не увидела его на этой лавочке и уже приготовилась зарыдать, но тут же успокоилась: дед никуда не ушел, он просто окоченел и потому подпрыгивал рядом, похлопывая себя по бокам и растирая щеки варежками. Ровно в час дня культурная и оздоровительная прогулка закончилась, и мы, взявшись за руку, пошли домой.
– Не замерзла? – спросил меня дед.
Я отрицательно покачала головой: новые впечатления переполняли меня.
И так продолжалось до самой весны: он сидел на лавочке, я играла с детьми. Он мерз, я сияла от счастья. Откуда мне, шестилетней, было догадаться, что значит сидеть три часа на морозе во имя любви?
Как мой дед взял Зимний
Оле
Я пошла в первый класс. Жизнь наступила ужасная. На одном уроке учительница Вера Васильна, рыжая и огромная, с ярко начерненными бровями, ударила меня кулаком по руке, и на ней осталось большое красное пятно. На другом я тихо описалась, но звук оказался таким беспощадным, как будто скатился какой-нибудь Терек. Это было не в самый первый день, то есть не первого сентября, а, может быть, пятого или шестого, но ужасная жизнь началась сразу же, как только дети сложили свои астры и георгины, завернутые в газеты, на стол посреди вестибюля. Меня оторвало от бабули, прижало лицом в чей-то круглый затылок, и, ставши вдруг частью испуганной гусеницы из маленьких ног и бантов, я взобралась на второй этаж, где очень приятно пахло масляной краской, которая напомнила то, как в начале лета красили пол на даче. Я обрадовалась этому запаху, как, наверное, какие-нибудь узники в своих крепостях радуются, если на их зарешеченное окошко вспорхнет вдруг случайная птичка.
Тогда я, впрочем, ничего не знала ни о крепостях, ни об узниках. Я, если честно признаться, мало что знала о жизни, кроме того, что есть зима, когда волокнисто вздымается снег и каждая снежинка вспыхивает под светом уличного фонаря, и есть еще лето, когда мы гуляем в лесу и рвем в нем ромашки. В моей прежней жизни тоже были, конечно, сильные переживания и громкие восторги, но меня не били кулаками по руке, и я ни разу не слышала слова «строимся». Тем более я знать не знала о том, что была революция. О царе я, правда, слышала, но только из сказок, и не успела обратить на него должного внимания, потому что женственное с самого младенчества сознание мое было целиком поглощено царицами и царевнами. Первого сентября выяснилось, что был царь, который так издевался над простыми людьми, что все эти люди собрались вместе, схватили в руки красные флаги (и ружья, конечно, схватили!) и свергли царя. Что такое «свергли», я сразу поняла: он спал на перине, и тут его «свергли».
К ноябрьским праздникам моя беспечная душа окончательно омрачилась. Каждая вспыхивающая под светом уличного фонаря снежинка покраснела, потому что в школе постоянно говорили о крови. Кровь эта, как выяснилось, бурлила буквально повсюду: солдаты проливали кровь за Родину, революционеры боролись до последней капли крови, буржуи и помещики пили кровь из народа, и все, что я по своей наивности прежде принимала за летние цветы и ягоды, было результатом все той же невиданной крови: «не зря мы кровью нашей окрасили поля: цветет – что день, то краше – Советская земля!»
То, что дома от меня скрывали самую главную правду и я ничего не знала о том, что царя «свергли», а целых семь лет все каталась на санках да в темном лесу собирала букеты, вызвало во мне испуг. Нужно было срочно исправлять жизнь. Менять ее так, как теченье реки меняют строительством грозной плотины. Мы жили в деревянном доме. Квартира была коммунальной. У нас было две смежных комнаты, а в двух других, тоже смежных, жила очень высокая, с огромною грудью и темным венком из косы тетя Катя, «отбившая», как говорили, себе дядю Сашу, который ей был по плечо и к тому же татарин. Я тогда не знала, что есть разные народы и национальности, а думала, что «татарин» – это то же самое, что дворник. Дядя Саша был дворником и, пока тетя Катя не «отбила» его, скреб своей лопатой наш тихий переулок. Потом она его «отбила», и он стал работать на заводе. В доме напротив, тоже деревянном, жила моя подруга Алка Воронина. У Алки Ворониной была мать, работник торговли, и бабушка-пьяница. До школы мы не очень знали друг друга, потому что меня растили неправильно и, как говорила учительница Вера Васильна, «не готовили к жизни», но теперь, оказавшись в одном и том же первом «А», мы с Алкой сдружились, и она торчала у нас до самого вечера. К тому же и к маме ее ходил «хахаль», которому Алка мешала. Я думала, что «хахаль» – это клоун с рыжими волосами, и не понимала, зачем он к ней ходит, но Алка сказала, что «хахаль» – мужик, и я успокоилась. Перед самыми каникулами Вера Васильна наконец подробно объяснила, как было дело: царь и его слуги спрятались в Зимнем, огромном дворце в Ленинграде, где их охраняла вся царская армия, но, как только с крейсера «Аврора» раздался залп, революционные солдаты и матросы ворвались в огромный дворец, и Зимний был «взят». В доказательство того, что в ее словах – все правда, Вера Васильна, смаргивая ресницами слезы, показала нам картину «Штурм Зимнего». Картина произвела на меня оглушительное впечатление. Люди с винтовками бежали прямо в огонь. Орали при этом так громко, что даже и мне было слышно. Картина дымилась, сверкала: на ней брали Зимний.
Ночью я проснулась. Мирный ноябрьский снежок шелушился на крыше высокого каменного дома, который было хорошо видно из моего окна. Свет ночника мягко золотил старинную акварель, где в нежных кудрях молодая красотка смеялась смущенно, лукаво, испуганно. Еще был ковер над кроватью: лиса, несущая в горы какую-то курицу. А если бы Зимний не взяли так вовремя, то нас никого бы здесь не было. Слезы подступили к моему горлу, и горячая соленая вода залила лицо. Я с трудом удержалась от рыданий, но что-то сверкнуло в моей голове. Такое прекрасное, светлое, сильное, что я моментально заснула от счастья.
Назавтра наступили каникулы. Алка Воронина пришла к нам обедать и с гордостью сообщила, что у них гости: к хахалю приехали брат с женой и друг, с которым хахаль служил в армии. Теперь все «гуляют». У нас было тихо. Красотка в кудрях, тетя Катя в переднике. Тетя Катя была строга, «гулять» не любила сама и дяде Саше не позволяла. Однако пекла пироги и варила холодец, поглядывая на портрет Сталина, украсивший общую кухню. Мы с Алкой сидели на подоконнике, поджав под себя ноги, и смотрели на улицу. Внутри ослепительно ясного снега шатались какие-то пьяные.
– Мне главное, чтобы мать снова пить не начала, – рассуждала Алка. – Тетя Таня говорит: «Если мать снова пить начнет, я тебя к себе заберу, не дам тебе помереть».