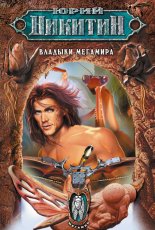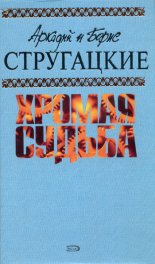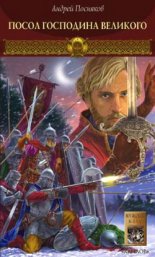Волчья хватка Алексеев Сергей

Жизнь еще тлела в этой плоти, хотя она умерла несколько часов назад, что и констатировал профессиональный врач. Только по молодости и неопытности не заметил одной детали – не наступало трупного окоченения, поскольку кровь еще не сворачивалась в сосудах, не превращалась в печенку, и мышцы сохраняли прежнюю эластичность, допивая остатки жизненной силы из этой крови, костей и позвоночника, как растения допивают мельчайшие частицы влаги в засушливую пору.
И выживают, даже если земля превращается в золу…
Плоть не была еще безвозвратно утраченной, и оставалась надежда на воскрешение, если бы витающая над телом душа проявила к этому волю.
Ражный простоял над Милей несколько минут – душа реяла под потолком «шайбы», цепляясь за мясные крючья, и тончайшая связующая цепочка, напоминающая жемчужную нить, – единственный ее корешок, еще касался плоти в области солнечного сплетения, оставляя путь к отступлению. Но утлая, иссохшая скорлупа – то бишь тело, не выражало ни малейшей охоты продолжать биологическое существование.
Она умерла не от воспаления легких и не от другой телесной болезни; диагноз был иной и весьма распространенный в текущее время, хотя никак не трактовался и не признавался современной медициной. Смерть наступила из-за крайнего противоречия между душой и телом, не совместимого с жизнью.
– Не стану будить тебя, спи, – сказал он и вышел, заперев дверь, направился домой.
И уже поднимался на высокое крыльцо, когда услышал озлобленный лай Люты и гул проволоки, по которой скользила собачья цепь. Кого-то носило ночью по территории базы – овчарка свой хлеб отрабатывала честно, знакомств с людьми не заводила и никому не доверяла, кроме своего хозяина – старика Прокофьева, и работодателя Ражного.
Он сбежал с крыльца, направляясь в обратную сторону, и тут заметил возле «шайбы» человеческую фигуру – кто-то ковырялся с замком на двери. Вероятно, хмель на братьев Трапезниковых подействовал не так, как хотелось, и вместо сна и утешения в скорби еще больше взяло за сердце горе. Наверняка это был младший Макс – старший умел сдерживать свои порывы и чувства.
Ражный подходил осторожно с мыслью отвести парня к себе и поговорить по душам, но вдруг там, у «шайбы», возникло какое-то стремительное движение, сдавленный человеческий крик, и в тот же миг все пропало. Когда он подбежал, возле мясного склада никого не было и замок оказался закрытым, услышать же топот ног мешал яростный лай Люты. Так и не поняв, кто подходил к двери и что здесь произошло, Ражный снял цепь с проволоки и привязал овчарку возле «шайбы»: нечего пацанам ходить ночью к покойной, даже если она – возлюбленная…
Возвратившись домой, он обнаружил на крыльце Молчуна, сидящего у двери.
– Ну, а теперь что? – недовольно спросил Ражный. – Мы же обо всем договорились.
Волк осторожно взял его за рукав и сомкнул челюсти, давая понять, что настроен решительно. Он попытался выдернуть рукав из пасти – зверь не отпустил, мало того, потянул к себе.
– Как это понимать?.. Ты же видел, я не успел, не застал живую. Она умерла. Я знаю, вы были друзьями… Ну и что? Мне тоже ее жаль… Но все равно она бы не смогла жить в этом мире. И в лесу бы не смогла, потому что – человек.
Молчун выслушал его, не выпуская рукава, и снова потянул с крыльца.
– Что ты хочешь? – уже рассердился Ражный. – Я же сказал, она умерла! Ей не нашлось места, понимаешь? Жить среди людей – значит продаваться. Торговать душой и телом. А здесь она скоро бы озверела. Вот так, брат. Смерть для нее – спасение…
Увидев в ответ жесткую зелень в волчьих глазах, он вскипел, вырвал руку, оставив в пасти клок камуфляжной куртки.
– Ты зверь, понял?! Только зверь! И не смей больше вмешиваться в человеческую жизнь! И в смерть тоже! А ты уже раз вмешался!.. В лес. Иди в лес и не показывайся на глаза!
Волк склонил голову перед вожаком, поджал хвост и, когда Ражный ступил через порог, обиженной походкой спустился с крыльца и тотчас же скрылся в темноте. Поведение его было порывом отчаяния, а значит, слабости, никак не сочетающейся с волчьей жизнью. Правда, следовало учесть, что Молчун почти с самого рождения познавал и впитывал не звериный, а человеческий образ жизни и, надо сказать, перенимал не лучшие его стороны, поскольку слабость губила всех одинаково, зверей и людей. Но отпущенный на волю, он больше не имел права на чувства – иначе его ждал бы такой же печальный конец, как и девицу со старинным и редким именем Милитина…
Визит Молчуна разозлил и обескуражил его одновременно, и, чтобы отвлечься от мыслей, вызывающих дисгармонию, Ражный стал думать о предстоящем поединке и сразу забыл обо всем. Заложив двери на засов, он вошел на поветь и, не зажигая света, стал готовить станок для работы. Для этого требовалось совсем немного времени – поднять и поставить каждый противовес на сторожок, чем-то напоминающий шептало в ружейном механизме, после чего сковать себя по рукам и ногам. Остальное уже никак не относилось к дедовской технике и зависело от воли и самоорганизации. Нехитрое это устройство могло возвысить человека, поднять и ввести его в состояние Правила, но могло превратиться в орудие казни – попросту разорвать на части.
Основная подготовка к взлету проходила днем, при свете солнца, когда он впитывал его энергию. Человеческий организм, точнее, костяк, представлял собой самую совершенную солнечную батарею, способную накапливать мощнейший заряд. Иное дело, сам человек давно забыл об этом, хотя интуитивно все еще тянулся к солнцу, и потому весной и стар и млад – все выползали на завалинки, выезжали к морю, на пляжи и бессмысленно тянули в себя миллионы вольт, если солнечную энергию можно измерять как электрическую. Бессмысленно, поскольку энергия эта оставалась невостребованной по причине того, что была утрачена способность высвобождать ее и управлять ею.
Чтобы достигнуть предстартового состояния, следовало полностью абстрагироваться от действительности, отключиться от всего, что было важным, значительным еще несколько мгновений назад, избавиться от земного. Одним словом, совершить то, чего в обыкновенной жизни сделать невозможно – уйти от себя, как это делают монахи, чтобы служить Богу. Поэтому старых поединщиков по древней традиции, заложенной еще отцом Сергием, называли иноками, то есть способными к иной, бытийной, жизни.
Через каждые три подхода к этому станку груз уменьшался – из мешков выпускался песок. Тренажер можно было разбирать и прятать в сухое место после того, как опустеют все мешки и когда аракс начнет вздыматься над землей без помощи противовесов и в любом желаемом месте…
Пока еще Ражный был на середине пути и на каждом конце веревки висело по три центнера речного песка. А времени до поединка оставалось совсем мало – чуть больше трех недель, если не считать дорогу до Урочища где-то в районе Вятских Полян.
Длина веревок позволяла лежать на спине или на животе, раскинув звездой руки и ноги. Всякое неосторожное движение или даже мышечная судорога могли сорвать с шептала один из противовесов, и тогда сработают остальные, разрывая на части неподготовленное тело, поэтому он почти не шевелился, и лишь изредка от солнечного сплетения к конечностям пробегала легкая конвульсивная дрожь, напоминающая подергивание электрическим током. И чем больше и чаще пробегало этих энергетических волн, тем сильнее расслаблялись мышцы, крепче становились суставные связки и жилы, и как только из позвоночника и мозговых костей начинали течь ручейки солнечной энергии, бренная плоть теряла вес.
То, что монах достигал постами и молитвами, поединщик получал за счет энергии пространства, напитываясь ею и равномерно распределяя по всему скелету, в точности повторяя магнитные силовые линии.
Через некоторое время воздух, соприкасаясь с телом, начинал светиться, образуя контурную ауру, и когда она, увеличиваясь, образовывала овальный кокон, аракс резко отталкивался всей плоскостью тела от опоры и взлетал, несомый противовесами.
Или подъемной силой достигнутого состояния Правила…
Сейчас Ражному пришлось лежать более получаса, прежде чем в полной темноте он начал видеть очертание собственной груди. Оставалось немного, чтобы преодолеть земное притяжение, когда издалека, из мира, ушедшего в небытие, ворвался душераздирающий вопль. Так кричат смертельно раненные травоядные, ибо хищники чаще всего умирают молча.
Возврат к реальности был стремительным, накопленная энергия ушла в пространство вместе с единственным выдохом, на миг высветив чердачные балки. Тотчас запахло дымом: делать «холостой» выхлоп энергии было опасно…
Вопль повторился, но теперь уже близко, сразу же за стеной – тоскующий, зовущий голос – и следом долгий отчаянный стук в дверь. Пока Ражный снимал путы, младший Трапезников стучал и кричал исступленно, безостановочно, и гончаки в вольере, реагирующие на каждый шорох или нестандартное поведение, при этом хранили полное молчание.
Дождь на улице разошелся вовсю. Макс напоминал мокрого молодого зверя, потерявшего свою нору.
– Входи, – разрешил Ражный.
Парень переступил порог и остановился, не зная, куда идти в полном мраке. Пришлось вести его за руку, а когда в доме загорелся свет, он закрылся рукой и прилип к стене. На бледном, вытянутом лице оставались одни огромные и почти безумные глаза. Ражный подал ему миску с остатками разведенного хмельного меда, однако Макс сопротивлялся, выставляя руки:
– Нет! Не буду! Не хочу! Вино не помогает!.. Станет еще хуже, я знаю.
– Это не вино, попей. Это напиток, дающий силы.
– Снадобье? Лекарство?..
– Можно сказать и так…
Он взял миску, понюхал. Отхлебнув, попробовал на вкус и выпил залпом.
– Это ты ходил к «шайбе» недавно? – строго спросил Ражный.
– Нет, я не ходил, – виновато проговорил младший Макс.
– А кто ходил?
– Не знаю… Я лежал на земле.
– Где остальные?
– Не знаю…
– А что ты знаешь?
– Знаю, что беда пришла, дядя Слава, – сказал обреченно. – Я погибаю.
– Держись, ты мужчина. – Он силой усадил парня на скамейку. – Привыкай. Иногда жизнь бьет больнее.
– Больнее не бывает. Я люблю ее. Мы с Максом ее любим… Дядя Слава, а ты тоже считаешь, мы виноваты?
– Нет, я так не считаю, – заверил он. – Но почему мне ничего не сказали? Когда нашли ее в лесу? А ведь еще в прошлом году нашли, верно?
– Верно…
– Ты же знал, что я ищу Милю? Знал и обманывал меня.
– Мы не обманывали! – вскричал Макс. – Она попросила, чтобы не говорили… А потом, когда поймали ее, ты уже не искал. И никто не искал…
– Поймали?..
– Она сначала боялась нас, не давалась в руки, не подпускала близко… – Вспоминая, он на минуту оживился. – Но мы ее приручили. Мы срубили ей домик, избушку на курьих ножках, железную печурку поставили, с дровами. А была уже осень, снег выпадал… Она все еще босая ходила и мерзла. И не стерпела, забралась в избушку и уснула. Там дверь была от медвежьей западни, отец научил. Захлопнулась намертво, изнутри не открыть… Мы стали ее кормить, разговаривать, и она скоро привыкла.
– Отец знал, что поймали?
– Не знал… Дядя Слава, она сама не хотела выходить к людям! Мы ей говорили, упрашивали хотя бы на зиму к нам пойти жить – не пошла.
– Я верю.
– Она была такая прекрасная!.. Мы приезжали каждый день, чтобы полюбоваться. Ей же было скучно одной жить. Привезли радиоприемник, но она выкинула в печку… А этот врач говорит, будто мы лишили ее свободы и… насиловали!
– Он вас пугает, потому что сам боится, – успокоил Ражный. – Ты же видишь, он обыкновенный шакал.
– Никогда не видел шакалов. – Макс вскинул мутные глаза. – Они же у нас не водятся… Дядя Слава, помоги нам! Сделай что-нибудь!
– Я уже однажды вам помог. Устроил призыв в армию. А вы сбежали и живете, как дезертиры.
– Мы пойдем в армию! Выйдем и сдадимся!.. Только помоги!
– В тюрьму теперь пойдете сначала. Потом в армию.
– Пусть… – тихо вымолвил он. – Выручи, дядя Слава. Ну еще раз!.. Говорят, ты – колдун.
– Я колдун?
– Дядя Слава, ты не обижайся, я слышал от людей. Про тебя еще говорят – демон. И дом этот весь… в нечистой силе.
– Что же ты тогда просишь? Если я демон и связан с нечистой силой? – обиделся он.
– Я ни при чем, так люди говорят, – растерялся Макс. – Но я все равно верю: ты не простой человек. И если демон, то добрый демон…
– Все не простые, брат. Если глубже копнуть человека.
– Однажды я видел тебя… в волчьей шкуре.
– Где видел? Когда?
– В прошлом году. Мы с Максом ехали по лесу, на смолзавод. А ты в дубраве был… Мы тогда так испугались. И кони испугались, понесли. Помнишь, у меня еще перелом был?
– Фантазер ты…
– Помоги мне, дядя Слава. Видишь, я погибаю! Может, до утра не доживу…
– Доживешь!.. Потом послужишь в армии…
– Я знаю, ты можешь оживить Милю, – горячим шепотом произнес младший Трапезников, дыша в лицо запахом весенней земли. – Если захочешь. Она же не совсем еще умерла, правда? Это врач сказал – смерть! А мне кажется, в ней есть жизнь. Только как искорка… Помоги, оживи ее! Я никому не скажу! Даже родному брату! Никому! Пусть считается, сама ожила. Ну бывает же такое!
– Бывает…
– Ну вот! – Его дыхание затрепетало от надежды и нетерпения. – Не знаю, колдун ты или демон, какая сила в тебе – чистая или нечистая. Но молю тебя – оживи! Ты можешь. Я знаю! Верю! А иначе сейчас пойду к «шайбе» и умру возле нее. Чтобы похоронили нас вместе.
Сказано это было с блеском в глазах и высоким достоинством, так что Ражный поверил: не воскресить Милю – этот парень умрет.
– Понимаешь, брат… Никто не имеет права делать этого, – проговорил он, хотя уже понимал, что любые отговорки не будут приняты. – Наверное, ты слышал: люди рождаются и умирают по Промыслу Божьему. Какой бы смерть ни была… Миля скончалась не от воспаления легких, а по другой причине… Ты не поймешь, почему…
– Нет, я знаю, отчего! – загорячился Макс. – Ты думаешь, если я не учился в школе и совсем не образованный, так не знаю? Да я давно почувствовал, что Миля умрет!
– Ты меня слышишь?! – Ражный потряс его за плечи. – Никто не может воскресить твою Милю! Никто!
– Но я вижу в тебе силу!.. Ты сможешь! Люди говорят, твой отец умел поднимать мертвых. Ведь это правда?.. Значит, и ты знаешь!
– Нельзя верить молве, люди выдают желаемое за действительное.
– Фелиция видела, как ты оживил птицу. Замерзшую птицу! И потом ей подарил. И птица жила у нас до весны!
– Да я ее просто отогрел!
– И Милю отогреешь!
– Человек не птица!
– У меня ключ от «шайбы», – вдруг сообщил Макс. – Сейчас я пойду, лягу рядом с Милей и умру.
– Хорошо, – почти сдался Ражный. – Но если, воскреснув, она снова захочет умереть?
– Не захочет.
– Допустим, я поверил… Но запомни: со второй смертью умрет и ее душа. Так устроено… Все, кого вытаскивают с того света, реанимируют, выводят из клинической смерти, вливают чужую кровь, чтоб спасти, пересаживают внутренние органы – все потом гибнут вместе с душой. Они как утопленники или самоубийцы… Ведь Миля все равно когда-нибудь умрет, например от старости… Ты не пожалеешь об этом?
– Люблю ее! – клятвенно воскликнул он. – И Макс любит!
– И ты такой же… Боже, почему в этом чувстве так много эгоизма?
Парень ничего не слышал, поскольку, чувствуя, как Ражный соглашается, уже дрожал от нетерпения.
А возможно, слышал и не понял ничего…
– Помоги, дядя Слава! Подними ее! Ты ведь умеешь, я вижу!
Ему показалось на миг, что глаза у парня стали по-волчьи пристальными, а взгляд пронзительным; он и в самом деле что-то видел…
– Послушай меня, Максим…
– Я не Максим!
– Ну хорошо, Максимилиан. Не сходи с ума, возьми себя в руки, ты взрослый парень…
– Не хочу ничего слушать! Оживи ее!
На улице вдруг залаяли гончаки в вольере, однако сторожевая и чуткая Люта отчего-то помалкивала. Кто-то взволновал их, встревожил, но, судя по голосам, лаяли они не на человека. Мало того, обычно визгливая Гейша, словно откашлявшись, завыла баском.
– Ладно, пошли! – послушав этот хор, согласился Ражный. – И ты увидишь, что это невозможно. Поскольку она мертва, понимаешь? И нет такой силы у меня, чтобы снова вдохнуть жизнь.
На улице младший Трапезников не отставал, двигался тенью и, кажется, тихо смеялся от предвкушения счастья. Люта сидела там же, где была привязана – у «шайбы», и помалкивала, пугливо забившись в чертополох под стеной.
– Что это с тобой? – спросил он настороженно и осмотрелся.
Овчарка заскулила и по-волчьи спрятала голову в траву.
Отомкнув «шайбу», но еще не открывая дверей, Ражный услышал тихий, утробный вой и потому, обернувшись назад, сказал в темноту:
– Стой здесь…
Плотно притворив за собой дверь, он зажег спичку и, шагнув вперед, увидел зеленое свечение глаз. Милю вносили, как и положено, вперед ногами, и потому она лежала сейчас головой к выходу, тело ее пульсировало, а над ним стоял волк и, вскинув морду, пел торжественную песню.
Видение длилось столько, сколько горела спичка…
2
Покойное блаженство и состояние восторга оборвались в тот самый миг, когда неведомая, конвульсивная сила вытолкнула его наружу, швырнула на жесткую землю, и в первый момент, неподвижный, больше похожий на сгусток крови и слизи, он оказался под солнцем, в мире, который давно и отчетливо чувствовал сквозь материнскую плоть. Он сделал первый вдох, и нестерпимая огненная боль разлилась по телу, толкнулась в слабые конечности и опалила голову.
И, полумертвый, он вскочил на ноги, вытянулся и пополз вперед, волоча за собой пуповину. Не заскулил, ибо не обрел еще голоса – лишь тяжело задышал, вгоняя в себя жгучий воздух, и вскинул ушастую, большую голову. Он был еще слеп, однако яркий свет и сквозь плотно закрытые, спеченные веки показался таким же палящим и болезненным, как воздух, и не было в этом только что обретенном мире ничего веселого и радостного!
Но вот язык измученной родами матери – щенок был в два раза крупнее обычного волчонка – достал его головы, стремительно и нежно пробежал по глазам, влился в пасть, ноздри, потом в уши, освобождая от сохнущей крови, мягко скользнул по шерсти, и происходило чудо – боль снималась от малейшего прикосновения, и на смену ей вливались сила и ощущение восторга. Сам того не ведая, он издал первый звук, напоминающий еще не звериный рык – тихое, довольное урчание, прижимался к языку, подставлял шею, бока, затем, перевернувшись на спину, раскинул лапы, отдавая матери живот. Мать пока что состояла из одного этого языка и представлялась спасительным ласковым существом. Одним движением она усмирила огонь в груди, и он уж было расслабился от блаженства, как язык подобрался к пуповине и тут обнаружились материнские зубы. Острая, содрогающая боль вновь пронзила его, подбросила вверх, и в следующий миг он ощутил свободу.
С матерью теперь больше ничего не связывало… Вместе с утратой пуповины он всецело погрузился в существующий мир: в одночасье открылись слух и обоняние. Вылизанный, но еще мокрый, на неустойчивых лапах, он стоял на земле, явленный из небытия, и вкушал первые прелести жизни. Вокруг были плотные заросли крапивы и сухого, прошлогоднего малинника, выросших на дне ямы, под ногами битый кирпич, уголь и ржавое железо – все, что осталось от разрушенного человеческого жилья. Так что в первые минуты жизни он вкусил запахи человека, поскольку родился не в логове, а в старом подполе брошенной деревни. Он еще не знал человека, но уже чувствовал его вездесущую суть, будто мир этот всецело принадлежал только ему: в небе слышался воющий гул, откуда-то наносило едким, смолистым дымом, и от слепящего низкого солнца летели частые, визгливые голоса.
Над брошенной деревней показался вертолет с распахнутой дверцей, откуда виднелись люди с ружьями. Первенец не видел их, но почуял приближение человека, поднял голову и внезапно обрел голос зверя – зарычал в небо, выдавая свое местонахождение. И наверняка получил бы трепку от матери, но она в тот миг была занята собой: раскорячив задние лапы, судорожно выгнулась, застонала и произвела на свет еще одного звереныша. Осклизлый ком зашевелился на примятой крапиве и тоненько заскулил. А вертолет между тем неторопливо наплывал от леса, прибивая к земле траву мощным, сбивающим с ног потоком воздуха – мать не дрогнула, лишь прилегла, вылизывая детеныша. Откуда-то сверху на первенца свалилось нечто жесткое, стремительное и сильное, сбило на землю, чуть ли не втоптало в сухую дресву. Потеряв ориентацию, он перевернулся несколько раз, закатился в яму и, когда вскочил, – ощутил рядом присутствие еще одного зверя – отца, вернее, его раскрытую пасть над собой. Он приподнял новорожденного за холку, коротко лизнул, но только выпачкал, ибо кровь у него стекала с головы, с выпущенного языка и мешалась с родовой кровью.
Зверь лег, кося глаз к небу, и волчица, оставив новорожденного, принялась вылизывать раны на голове отца. Он зарычал на нее, и когда тень от ревущей машины достала ямы, внезапно выскочил из крапивы и помчался вслед за этой тенью.
К нему присоединилась еще пара, до того бывшая в траве и не смевшая приблизиться к яме, – переярки, ее прошлогодние дети, бродящие за родителями на некотором расстоянии.
Первенец неуклюже пополз за ними, путаясь в траве, и прежде чем выбрался из обрушенного подпола, несколько раз свергался с трухлявых бревен, торчащих из земли, пока не помог себе пастью, цепляясь игольчатыми зубами за корни трав и примятый малинник. Вертолет плясал низко над землей, и с его борта хлестко гремели сдвоенные выстрелы. Люди стреляли по кустарнику, по нагромождению досок и бревен, вдоль старых, вросших заборов; они словно прощупывали свинцом землю, пока не вытолкнули переярков на чистое место.
Вертолет полетел боком, развернулся, и с борта вновь загрохотало. Тот, что ринулся вдоль деревни, попал под выстрел сразу же, а другой, бегущий к лесу, еще долго петлял по траве, резко меняя направление, и пал на самой кромке березовой рощи.
Совершив победный круг, охотники приземлились, забросили в машину переярков и пошли рыскать, выискивая матерого волка. А тот сидел плотно, невзирая на выстрелы, прощупывающие любое возможное укрытие, и рев низколетящей машины. Бесполезно покрутившись около получаса, вертолет вновь сел на чистом взгорке, далеко от вынужденного логова, три человека из команды стрелков спешились, остальные поднялись в воздух.
Мать безбоязненно следила за людьми из крапивы и продолжала заниматься своим делом.
Теперь охота началась с земли и с воздуха. Брошенную деревню прочесывали вдоль и поперек, лазили чуть ли не в каждые руины, оставшиеся от домов, обследовали ямы, накренившиеся заборы, и вертолет чутко отслеживал все действия, мотаясь над головами. И когда они приблизились к логову с волчицей, матерый внезапно выскочил прямо на охотников и заставил их залпом разрядить ружья, после чего пронесся между ними, сделал свечку и пополз в траву. Люди закричали, круто развернулись назад, пошли добирать подранка. Их поддержали с воздуха, гвоздя выстрелами землю и тем самым до смерти напугав земных. Они залегли, замахали кулаками в небо, закричали, словно их бы там услышали. В машине сообразили, что делают глупость, отлетели в сторонку, зависли, и тут спрятавшийся в траве волк вновь сделал свечку и понесся к лесу. Люди пальнули по разу ему вслед и побежали догонять, боязливо поглядывая на вертолет. Матерый мелькал в сотне шагов от них, двигаясь зигзагами, появляясь то в одном, то в другом месте, и создавалось впечатление, что бегут несколько зверей. Их крестили выстрелами, но не прицельно, с ходу и слишком азартно, чтобы попасть.
Почти не таясь, волчица стояла на краю ямы и смотрела на все это со стоическим спокойствием, и едва слепой детеныш выполз к ней, как мать скинула его обратно в яму.
Прищуренный звериный взгляд буравил спины людей, и при этом в полном безветрии трава между волчицей и бредущими цепью охотниками слегка шевелилась, словно от дуновения приземленного тягуна, образуя белесую полосу. И из этой полосы уходило все живое – порскали в разные стороны мыши, прочь уносились мелкие птахи, и дождем сыпались кузнечики.
В этот миг произошло невероятное: один из охотников, угодивший под странный ветерок, вдруг исчез, в буквальном смысле провалился сквозь землю. Двое других прошли еще несколько метров, остановились и забеспокоились. Крик их стал тревожный, будто у потерявшихся детенышей. Потом они беспорядочно и резво забегали, и теперь уже матерый, замерев у поваленной изгороди, стоял и взирал на человеческую суету.
А они наконец обнаружили пропавшего собрата – на дне глубокого, заброшенного колодца, откуда доносился слабый писк. Веревки у них не было, и тогда люди сорвали провода с накренившегося столба, засунули их вниз, однако спускаться по тонкой проволоке никто не решился. Увидев странную заминку на земле, вертолет пролетел над их головами и пошел на посадку – почти рядом с логовом.
Первенец все же еще раз выбрался из подпола, но его сшибло в яму потоком воздуха, запылило глаза, забило дыхание, и когда он пришел в себя и проморгался, то снова увидел невозмутимую, равнодушную ко всему происходящему мать, тщательно вылизывающую сразу двух детенышей. Как и первенцу, она снимала родовую боль, чистила глаза, уши и пасти, однако не освобождала от себя, не отпускала на волю, и щенки ползали возле матери, волоча за собой сине-малиновые пуповины.
Вертолет сел, всколыхнулась и мелко задрожала земля, весенний травяной сор и земляная пороша достали подпол, накрыли тучей и на какое-то время скрыли от человеческих глаз все пространство покинутой деревни.
И в этой вселенской мути, поднятой человеком, он почувствовал, как мать начала пожирать послед – вместилище того недавнего счастья и благоденствия, длившегося всего-то два месяца. Хватала жадно, как добычу, втягивала в себя свою плоть и, когда остались лишь тесемки пуповин, на концах которых, как на привязи, вдруг заметались, забились и заскулили детеныши, чувствуя смерть, сделала паузу, проглотила с натугой и решительным, сильным движением челюстей одного за одним отправила в свою утробу только что вылизанных, но не отпущенных щенков.
Косточек еще не было, а если и были, то что-то вроде куриных, мягких хрящиков, и потому, собственно, рожденная добыча исчезла без звука.
Первенец непроизвольно отскочил, будучи свободным, оскалился. Он ненавидел мать; в мгновение ока он сделался зверем, родства не помнящим, ибо еще ни разу не приложился к ее сосцу и существовал той силой, что получил, находясь в ее чреве. Он готов был драться за свою собственную, уже вольную жизнь, принимая ее такой, какая она есть. Он ощерил игольчатые, острейшие зубы, по врожденному, данному матерью же инстинкту борьбы, чтобы вцепиться в горло, не осознавая, что не может даже сомкнуть челюсти из-за длинной, линяющей шерсти.
Он изготовился к смертельной схватке, но сам был схвачен за загривок единственно верным и точным движением. Сильная шея вскинула его высоко над землей – так высоко, как летала воющая, с торчащими стволами машина. И начался полет под прикрытием пыли и сора, поднятых силой человеческой – машиной, способной преодолевать земное притяжение.
Первенец ощущал, как неслась под ним весенняя, поникшая и еще не расцвеченная земля. Под материнскими ногами мелькали травы, дорожные колеи, заполненные светлой водой, поникшие заборы, ямы, заросли крапивы и лопухов, и на короткий миг он вновь испытал ощущение радости – точь-в-точь как в утробе, до рождения, когда они уходили от погони человека.
Поднятая винтами пыль и падение охотника в колодец скрыли этот побег, и веселый, торжественный полет продолжался более часа, пока холка, прикушенная материнскими зубами, не онемела и не потеряла чувствительности. Она бросила его на землю и, мгновенно забыв о детеныше, принялась вылизываться сама и кататься по земле, вбирая в себя запахи окружающей местности. Первенец сильно ударился о корневище – захватило дыхание. И как в момент рождения, жгущая боль, только сейчас в груди, охватила его, однако он вытерпел и не заплакал, а от враз прихлынувшей злости стал грызть то, что принесло эту боль, рвать короткий мох и редкую траву, забивая себе гортань. И нажравшись земли, полузадушенный, он засипел, закашлял, а по сути, залаял по-собачьи, отчего шерсть матери на загривке встала дыбом. Она подлетела к первенцу, трепанула за шкуру и ударила о дерево еще больнее.
Он же приземлился на ноги и зарычал, отхаркивая песок.
В тот же момент с матерью что-то произошло. Выстелившись перед ним, она откинула заднюю лапу, подставляя сосцы. Первенец еще не ведал вкуса молока и, прежде чем ощутить его, вцепился, вгрызся в вымя, жаля зубами нежную кожу, готовый порвать материнский живот. Волчица вздрогнула от боли, заклекотала горлом, однако смирилась и с родовой потугой стала отдавать молозиво. Густая творожная кашица, разбавленная кровью, впитывалась в его естество, начиная с языка и до пустого, еще не развернутого желудка. Он тянул ее долго, бросая один и хватая другой сосок, кусал, мял и терзал нежную плоть, пока не опустело вымя. Круглый, бочкообразный, он откатился от матери и мгновенно заснул, но она не оставила в покое – вновь схватила за холку и понесла дальше, спящего.
Древний, необоримый инстинкт толкал ее к поиску безопасного места, каковым могло быть лишь испытанное временем логово, скрытое на длинной, узкой гриве среди огромных зарастающих вырубов и болотистой земли, изрезанной ручьями, – то самое, где волчица сама появилась на свет. А ее место, где она щенилась и несколько лет выхаживала потомство – укромный молодой ельник среди старых порубок близ покинутой людьми деревни, в этом году оказался ненадежным и даже коварным: охотники с вертолета засекли волка, идущего с добычи, но не стали преследовать, а лишь отбили его направление и навели пеших: с воздуха рассмотреть логово было невозможно. Завидя машину, перегруженный пищей волк срыгнул половину мяса, облегчился и стал путать следы, отводя от ельника, но пешие стрелки точно вышли на его след, нашли отрыжку и затаились неподалеку. Матерый же, изрядно покрутив по вырубкам, пришел к волчице, скинул остатки мяса и истекал слюной, наблюдая, как она ест. И потому, утратив осторожность, побежал назад – туда, где оставалась половина отрыгнутой добычи. Он ждал опасности с воздуха, но выстрелы поджидали его на земле: трое стрелков отдуплетились по нему крупной картечью, и от мгновенной смерти спасли густые заросли осинника, принявшие на себя большую часть зарядов. Однако досталось изрядно, от головы до репицы хвоста простегнуло вразброс, так что опрокинуло набок и на короткое мгновение повергло в шок. Крепкий на рану, волк вскочил и порскнул в чащобу – прочь от логова, где волчица готовилась рожать, но охотники не пошли добирать подранка, а с ружьями наперевес направились к ельнику с трех сторон, точно зная, что там добыча более реальная и богатая – волчата. Тогда он сделал еще одну попытку взять людей на себя, пересиливая страх и мерзость, настиг их, обошел стороной и внезапно возник на пути. Еще пара выстрелов сквозь кустарник добавила несколько картечин, из пасти заструилась кровь, сбилось дыхание, но он даже не прибавил шагу – продолжал трусить неторопкой рысью, намереваясь увлечь охотников за собой.
Они же упрямо рвались к логову и бросили его во второй раз…
А волчица в гнезде слышала не только выстрелы – неосторожный хруст валежника под ногами, потаенные шаги и человеческое дыхание с трех сторон, однако сидела под лапником, на кабаньем зимнем ходу до последнего мгновения. И лишь когда все трое почти сошлись в одну точку, сделала стремительный рывок и легко ушла от выстрелов. Еще бы несколько минут, и была бы в полной безопасности – гнать по захламленному вырубу люди бы не стали, однако за спиной, в небе послышался знакомый, гулкий рев машины…
Теперь память тянула ее в место более надежное, в материнское логово – на лесистую гриву среди верховых болот. Длинный день наконец-то догорел, охотники погрузили в вертолет вынутого из-под земли сотоварища и улетели; впереди было самое удобное место для перехода – серый, призрачный вечер. Не дожидаясь матерого, она подхватила щенка и неспешной рысью, малым ходом пошла на север. Расстояние в сорок верст она могла бы одолеть за несколько часов, но роды ослабили волчицу, к тому же спасительная энергия движения сейчас терялась чуть ли не вполовину, перерабатываясь в молоко.
Едва потухла заря, как спящий детеныш проснулся и недовольно заворчал, показывая рыбьи зубы, и вдруг изловчился, выгнулся, будто змея, и вонзил их в щеку. Мать инстинктивно мотнула головой и отшвырнула первенца; перевернувшись в воздухе, тот угодил в муравьиную кучу и тут же был выхвачен обратно. Волчица отнесла его подальше от шевелящегося холмика, откинулась навзничь, подставляя детенышу соски. Молоко, расчитанное на три голодных рта, истекало произвольно и, путаясь в редкой, мягкой шерсти, капало на землю. Вездесущие, как люди, насекомые, почуяв сладость, в тот же час накинулись на дармовую пищу, поползли с земли к сосцам, прильнули, выпивая волчью силу, и мать не сгоняла, не стряхивала их, ибо повиновалась древнему закону существования и сожительства многих природных начал.
И не почувствовала, кто высосал из нее больше…
К полуночи она достигла болотной гривы. Не отрывая носа от земли, вдыхая родные запахи и повинуясь их зову, отыскала логово и внезапно легла неподалеку от него: надежное, сакральное место было занято ее матерью с детенышами, и их отец – пришлый волк-одиночка, стоял на страже.
Волчица выпустила первенца, раскинулась перед ним, отдавая молоко, а волк, скрадывающий гостью, тотчас же оказался рядом, присел, прижал уши, вздыбил холку, затем властно приблизился, обнюхал гостью и немо оскалил матерые, знобкие клыки.
Детеныш ничего не видел и не слышал, занятый продлением жизни и увлеченный пищей; она же, отчаявшись, тоже окрысилась на материнского супруга, но в тихом урчании слышалась мольба о спасении.
Сказано было много и определенно, да только взрослый, сильный самец ничего не хотел знать, показывая ощеренными зубами свою решимость. Мать сдалась без боя, сникла, расслабилась, и ток молока вдруг прекратился, и напрасно первенец кусал и грыз ослабшие, вялые соски. Тогда он озлился, оторвался от вымени и, исполнившись решительности, сделал предупреждающий скачок в сторону чужого зверя. И тут произошло невероятное: матерый волк вскочил, насторожил уши и, склонив голову, воззрился на малого, совершенно немощного соперника. Хватило бы короткого удара челюстей, чтобы перекусить щенка, но защитник логова внезапно отступил назад, прильнул к земле, разглядывая волчонка, после чего подтянул живот и вдруг изрыгнул из себя шмат кровавого, свежего мяса.
И отошел в сторону, глядя со спокойным достоинством. Первенец набросился на отрыжку, да не по зубам было, только вылизал сукровицу и чужой желудочный сок. В тот же миг мать отпихнула сына и в мгновение ока проглотила двухкилограммовый кус.
Это была плата, расчет за спокойствие семьи. Следовало бы уйти восвояси, однако волчица села перед супругом матери и низко, до земли, опустила голову, просила снисхождения перед смертельной угрозой потомству. Он снова ощерился, теперь с явственным предупреждающим рыком, после чего развернулся и со злобной оглядкой потрусил к логову. Впервые волчица дрогнула, жалобно заскулила; тяжкое горе, обрушившееся враз, – бездомность, гибель переярков и прибылых щенков, которых пришлось умертвить, не освободив от пуповины. По сути, пропала охотничья стая, ибо отцом потомства был тоже волк-одиночка, который не изменит своим привычкам и к осени покинет ее; безрадостное будущее – все до кучи, придавило ее к земле, заставило на какой-то срок забыть о детеныше. Тот же, не ведая еще никаких разочарований, кроме огненной боли в момент рождения и голода, нюхал землю вокруг матери и отфыркивал запах чужих следов, отчего шерсть на загривке сама собой становилась дыбом.
По-бабьи наревевшись, она натужно поднялась, уныло посмотрела в разные стороны, послушала ночных птиц и вдруг решилась – принялась лизать первенца, приглаживая вздыбленную холку, мокрую от росы мордашку и подхвостье. Он сунулся было ей под брюхо, к сосцам, но резкий толчок носом откинул щенка в сторону. Тогда первенец сделал еще одну настойчивую попытку, зайдя сзади, и почти достал вымя и снова был отстранен недружелюбно и жестко.
И при этом материнский язык продолжал ласкать, умиротворять его, скользя вокруг шеи и ушей.
Тут он внезапно понял и причину смены отношения волчицы, и эти ее прощальные ласки – отскочил, ощерился, как недавно матерый зверь. Он готов был сражаться с матерью! Он протестовал против великой несправедливости – быть умерщвленным тем, кто дал жизнь!
Она же играючи придавила детеныша лапой к мягкой, болотной земле, вылизала брюшко, словно говоря, что смерть эта – реальная необходимость и будет мгновенной, легкой, в момент ласки и блаженства. Первенец сжался в комок, дернулся, вдавился в мох и вывернулся из-под лапы.
В тот миг свершилось чудо – он прозрел до срока. Прозрел и увидел звериный оскал матери.
Он барахтался, сучил лапами, отмахивая смерть, а она надвигалась, такая же болезненная и неотвратимая, как рождение. Но что-то случилось, произошло непредвиденное: волчица внезапно оставила первенца, легко перемахнула через него и замерла в боевой стойке.
Детеныш встал на лапы – матерый зверь вернулся, исполненный решимости и злобы. Он шел на волчицу, ступая расслабленно, мягко и тем самым скрывал мгновенную и мощную силу броска. Мать вынужденно пятилась, прижимая уши, и неуклюже натыкалась задом на кусты и деревья, на какой-то момент они оба забыли о щенке, и он предусмотрительно отполз в сторону, предчувствуя схватку. Волк выбрал мгновение, превратился в бугристый ком молниеносной энергии и прыгнул. Казалось, всего лишь прикоснулся к матери и тотчас же отскочил, но первенец сразу же почуял запах крови. Волчица жалобно простонала и, прижимаясь к земле, поползла в кочки; из вспоротого живота, словно пуповина, тащились выпущенные кишки.
А зверь тем временем потянул носом воздух и той же крадущейся походкой направился к детенышу.
От чужака исходил запах смерти. И как ни странно, он был похож на запах пробуждающейся весенней земли…
Волк остановился на расстоянии прыжка, словно взвешивая свои возможности – ударить, как и положено в бою с противником, в броске или просто подойти, задавить щенка и принести его своим детям для игр.
Звереныш отфыркнул пугающе мерзкий запах смерти и зарычал.
Должно быть, это показалось матерому волку забавным, и он ответил угрожающим рыком, стараясь вызвать страх. И вызвал. Но от страха только что прозревший детеныш ощутил в себе истинную волчью дерзость и безрассудство. Еще немощное, слабоуправляемое тело налилось силой, щемящая, жгучая ярость, сходная с болью от рождения и первого вдоха, охватила его и толкнула вперед. Прыгнул он неловко, недалеко и сразу же провалился в зыбкий мох, однако этот слабый скачок заставил опытного зверя встать в боевую стойку. Прижав уши и оскалившись, он чуть сдал назад, напружинил лапы, готовый одолеть последние метры одним броском и повергнуть противника. И это уже была не игра – готовилась настоящая схватка!
Но в тот миг откуда-то сбоку внезапной искристой стрелой, не касаясь земли, вылетела волчица и намертво захватила холку матерого волка. Он не ожидал нападения, сосредоточившись на детеныше, и потому опрокинулся; серый сгусток энергии мышц и дребезжащего звериного крика подкатился к волчонку. Мать стремилась перехватить за горло, и тогда бы больше не разжимала челюстей до последнего, судорожного толчка агонии, однако противник только и ждал этого, чтобы вырваться из насмерть закушенных на шее клыков. Она делала стремительные и короткие движения челюстями, передвигаясь вниз, и лишь грызла, жевала сильную, мускулистую шею врага. А тот, в свою очередь, изматывал волчицу, заставляя ее много двигаться вслед за ним и вытаскивать, выматывать из себя кишечник.
Повинуясь собственной ярости и немощности тела, неспособный вступить в эту борьбу и помочь матери, детеныш вскинул голову и завыл, тем самым враз оборвав пение ночных птиц.
Битва длилась около получаса в полной тишине худого болотного леса. Наконец матерый вывернулся из мертвой хватки, но для ответной атаки уже не оставалось сил, поскольку изжеванные мышцы шеи больше не держали голову. Волк огрызнулся и тяжело потрусил в сторону логова.
А мать еще долго стояла, слушая вой детеныша, и качалась от усталости. Затем сделала несколько шагов на этот голос, однако вывалившиеся потроха цеплялись за кусты и корневища, мешая двигаться. Тогда она решительно легла набок, изогнулась и отгрызла волочащиеся по земле кишки, освободившись, как от пуповины. И, легко уже вскочив, схватила первенца и потрусила прочь – через болото, в ту сторону, откуда пришла.
По дороге она часто роняла щенка – не держали челюсти – и потому ложилась, переводя дух и зализывая вспоротый живот, а волчонок, пользуясь случаем, припадал к сосцам и тянул молоко напополам с материнской кровью. Делал это жадно, впрок, чувствуя, как из кормилицы медленно улетучивается жизнь. Ведомая инстинктом, она возвращалась на старое место – в ельники среди вырубов, где было ее многолетнее и когда-то безопасное логово и откуда вчерашним утром ее выгнали охотники.
Другого места у нее уже не оставалось на земле…
Перед рассветом, когда смолкли ночные и заговорили дневные птицы, она добралась до края выруба и, передохнув в последний раз, поползла к ельникам, служившим в зимнее время пристанищем для кабанов. Дышать становилось все труднее, мешал детеныш, зажатый в зубах, но теперь, зная свою скорую кончину, она не выпускала его больше, хотя он рвался и кусал за щеки.
На опушке леса над головой появился первый ворон, сделал круг, снизился и издал такой знакомый вопль, указывающий на добычу. Пока она была жива и держала первенца, он не мог стать птичьим кормом, и потому мать ползла вперед, захлебываясь воздухом.
Ворон удалился и скоро привел за собой около десятка сородичей. Стая облетела выруб, точно рассчитала место, где из волчицы вылетит дух, и расселась на сухостой, пни и колодник. В прошлом верные союзники по добыче мяса теперь готовились поделить между собой того, кто часто добывал им пищу – загонял и резал лосей, кабанов и домашний скот.
В природе ничего не могло пропасть даром…
В это время и появился матерый отец семейства. Покружив возле лежащей волчицы, он срыгнул добычу – разорванного пополам зайца – и лег в стороне зализывать свои раны. Волчица приподнялась, понюхала пищу и молчаливо отвернулась. Он же оставил свое занятие, вскинув голову, посмотрел недовольно и жестко, потом заворчал: если самка не брала корм, добытый волком, это значило одно – полную потерю потомства.
Матерый еще раз обошел волчицу, выискивая запах щенка, и обнаружил его спящим под елью. Потом наконец-то поднял голову, озирая рассевшихся по сухостоинам птиц, и все понял. Он был сам несколько раз ранен, и собственная боль притушила природную прозорливость, и потому, словно искупая вину свою, волк подполз к матери, обнюхал ее и только сейчас обнаружил разорванную брюшину. Лизнул несколько раз, но она отогнала волка, немо окрысившись, показывая, что рана смертельная.
Матерый попятился, сел и, вскинув морду, заскулил, пробуя голос. В волчьих глазах закипали слезы, и плач готов был вырваться из его глотки, однако самка заворчала на него с клекотом и яростью – запрещала делать это вблизи логова. Тогда он поджал хвост и с низко опущенной, скорбной головой побрел, затем потрусил прочь от ельников. И чем дальше уходил, тем больше набирал скорость и вот уже понесся крупными скачками, как за добычей, легко махая через колодины и завалы. Он бежал не дыша и на то расстояние, насколько хватило воздуха в легких и силы в мышцах. Он боялся разжать зубы, чтобы не вырвался зажатый в гортани плач…
Едва волк исчез из виду, как вороны тут же опустились подле гибнущего зверя и стали расклевывать его пищу – отрыгнутого зайца. Рвали жадно, в драку, давились костями и большими кусками, в несколько минут уничтожив все без остатка. Она же смотрела на это спокойно, набираясь сил для последнего рывка к логову. Потом сунулась под ель, взяла детеныша и двинулась дальше, к спасительным ельникам, где воронам не взять волчонка. Предощущение близкой смерти подавило разум, и она уже не осознавала того, что потомство таким образом не уберечь, не спасти, что первенца ожидает простая гибель от голода, ибо никто не накормит волчонка, не даст ему приложиться к сосцам, однако ничто не могло подавить материнский инстинкт, впрямую связанный с инстинктом продления рода.
Бывшие сотрапезники пошли следом, перелетая с пня на пень или вовсе по земле, короткими прыжками и в непосредственной близости. Между тем рассвело, над вырубами поднялось красное зарево, потом взошло неяркое солнце – она все ползла, едва переваливаясь через колодник. Вечный вороний голод подгонял птиц, делал их смелее, нахальнее, и они уже вышагивали следом, склевывая окровавленные следы. Почти у границы ельника мать завалилась набок, поскребла лапами прелый лист и затихла, зубы разжались. Первенец тотчас же выскользнул из них, заурчал сердито и, встряхнувшись, бросился к сосцам. Молоко истекало само собой, но уже не от переизбытка его…
В этот час над утренней землей возвысился и полетел во все стороны света печальный волчий плач. И скорбная мелодия его, одна для всего живого, одна для всего мира, была понятна всем, и в том числе человеку, ибо так сильно напоминала древние похоронные плачи-причеты над покойными.
И в этом проявлении чувств наконец-то в первый и последний раз соединились и примирились вечные враги…
А черные птицы встали кругом, но пока еще не подходили – переговаривались в предвкушении пищи и тоже слушали плачущий вой матерого. Несколько минут детеныш терзал вялое подбрюшье, пока вместо молока не пошла чистая, густеющая, как молозиво, кровь. Первенец недовольно рыкнул, и в этот момент мертвая волчица схватила его поперек туловища, резво вскочила и произвела стремительный рывок к ельнику, чем мгновенно вспугнула воронье. Стая тотчас же взметнулась, загорланила встревоженно, роняя помет, а мать подломилась на бегу у крайней, развесистой ели, ткнулась мордой в прошлогоднюю траву, и волчонок на сей раз кубарем вылетел из материнской пасти.
И впервые в жизни заскулил, вдруг почувствовав свое полное одиночество на земле. Некрепкий его голос, будто настраиваясь по камертону отцовского плача, чуть возвысился и скоро слился с ним где-то высоко над землей, образуя стереоэффект.
Слушая этот оркестр, замерли и онемели утренние птицы, прекратилось всякое движение на земле, оцепенела всякая живая тварь и даже муравьи замедлили свой бег на некоторое время, усиленно шевеля усиками и выслушивая не звуки – энергию пространства.
Потом все ожило, зашевелилось и запело в округе, но неведомое чувство одиночества и полной, теперь не желаемой свободы, обернулось неожиданным образом – пробудило разум и страх одновременно. Волчонок заполз кабаньей тропой в гущу мелкого, осадистого ельника и замолк, боясь дыхнуть. Он видел, как птицы вновь приземлились, теперь уже на неподвижный труп, и старый, с затасканным пером ворон совершил ритуальное действо – двумя точными, сильными ударами выклевал волчьи глаза, после чего сунулся в разверзнувшуюся огромную рану на брюхе, исследовал ее и отошел в сторону: готовой пищи – внутренностей – на сей раз не осталось.
И ни вожак стаи, ни кто другой не посмели больше и разу клюнуть остывающую волчицу. Удовлетворенные птицы расселись подле нее и замерли в напряженном, стоическом ожидании.
Полная неподвижность делала их похожими на обугленные головни. Эта траурная, похоронная команда не сошла с места и не шевельнулась, когда вдруг налетел ветер и из небольшой, клочковатой тучи ударил короткий и сильный дождь, потом начало жечь и парить обнажившееся солнце, почуяв неуловимый запах мертвечины, стали слетаться жуки-могильщики, постоянно живущие при волчьем логове.
Птицы будто сами омертвели, поджидая поры, когда созреет пища.
Насосавшийся в последний раз волчонок дремал, спрятавшись под елями, когда вдруг послышался резкий и одновременный треск крыльев. Вороны взлетали с криком, подавая сигнал опасности всему живому – и маленькому зверенышу тоже. Он заполз в рытвину, оставленную кабанами, навострил уши, нюхая воздух.
И сразу же обнаружил приближение людей; они шли, переговариваясь, и речь их напоминала клекочущий птичий язык. Вороны же орали над их головами, выписывая беспорядочные, возмущенные круги, пока с земли не раздался выстрел. Облезлая птица, исполнившая ритуал, рухнула на землю возле трупа и поползла в сторону, как недавно ползла волчица. Предсмертный ее крик бил по ушам, заставляя стаю орать еще громче, а звереныша ежиться и вбуравливаться в землю. Еще один выстрел разом оборвал этот голос.
Человек даже не притронулся к своей добыче, разве что брезгливо пнул ее, загоняя под выворотень, и приблизился к трупу волчицы. Проклекотал что-то своему напарнику, засмеялся. Вдвоем они положили мертвого зверя на спину и стали осматривать, потянуло сладковатым дымом, речь их сделалась слышнее, гуще и веселее.
Первенец видел, как его мать вздернули на дыбу, привязав задние ноги к склоненному аркой дереву, и принялись сдирать шкуру. Это был тоже ритуал, только человеческий: работали не спеша, со вкусом, но молча, и один из них, с шерстью на лице, часто прикладывался к сосцу – пузатой фляжке, после чего становился еще молчаливее.
Наконец второй, гололицый, спрятал нож, хотя шкура еще висела на голове волчицы, прихватил ружье и направился в ельник, а первый, завершая работу, завыл протяжно и отчего-то безрадостно – а должен был бы победно, коль людям выдалась удача.
Слушая этот печальный голос, волчонок выбрался из укрытия, высунул морду из-под ветвей; он ощущал голод, пугающее одиночество и беззащитность; это была его песня, и, повинуясь своему состоянию, он подтянул негромким, но чувственным подголоском. Воющий человек с шерстью на лице не мог его услышать, занятый разделкой добычи, да и сейчас первенца не заботила собственная безопасность, ибо само пение приводило его в особое трепетное оцепенение, когда ничего, кроме высокого льющегося звука, в мире не существует.
Подвывая человеческой песне, он выкарабкался на полусгнившую моховую валежину и вознесся бы еще выше, если б смог и было куда. Вскинув голову, он пел, как мог, зато истово и самозабвенно, почему и не заметил, как на его голос вышел гололицый человек, осторожно подкрался и снял куртку. Но прежде чем набросить ее на волчонка, стоял и слушал, будто не хотел портить песню. И едва звук угас, как сверху упало что-то плотное и темное, обволокло со всех сторон, парализовало всякое движение.
Запах случайного логова – ямы от подпола – знакомый с первого мгновения, как явился на свет, и нестерпимо мерзкий, охватил первенца еще плотнее, чем брезент куртки, проник в ноздри, легкие, впитался в кровь и достал сердца. Он пытался отфыркнуть его, исторгнуть из своего существа, однако запах этот был подавляющим и вездесущим…
3
Интерес к этой охоте у Ражного пропал в первый же день, когда поляки сначала отказались от классических способов охоты на логове – оклада флажками и подманивания волков на утренней и вечерней вабе, – а потом заявили, что отстреливать хищников станут с вертолета, на котором прилетели.
Зимой еще куда ни шло, хотя Ражный как президент клуба был противником такой неспортивной охоты, а в начале лета, в зеленом лесу с воздуха и коня-то вряд ли увидишь. Но спорить с панами не стал, понимая, что те попросту не желают ломать ног по старым вырубам и чащобам, а хотят красиво и с ветерком полетать и пострелять.
Ну и на здоровье! Таковы и трофеи будут…
Можно сказать, полякам еще повезло: стронутая с логова волчья семья не исчезла в зеленке, а почему-то завертелась на территории брошенной деревни, не совсем заросшей и хорошо просматриваемой с вертолета. Отстреляли двух переярков, ранили матерого и, пожалуй, взяли бы волчицу с прибылыми, если уже разродилась, не провались один из панов в старый колодец. Поиск зверей пришлось прекратить и вернуться на базу, а надо было во что бы то ни стало добирать подстреленного волка, иначе начнет мстить за разорение гнезда и наделает беды.
Оставив гостей, Ражный вечером сходил на вабу, потрубил в ламповое стекло голосом волчицы, и матерый отозвался почти мгновенно, причем в районе логова. Это вселило надежду: если за ночь не уйдут, то рано утром можно расставить стрелков по лазам и тропам и взять волков на вабу.