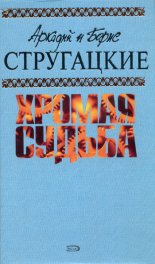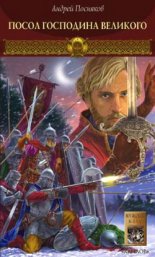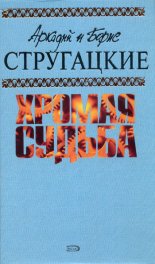Слово Алексеев Сергей
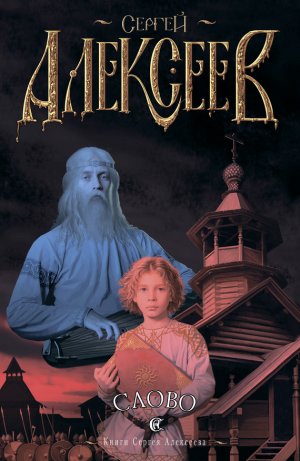
– Что с вами? Что?! – Анна наклонилась к старику, но дотронуться побоялась.
– Колун сорвался… – шепотом выдавил Иван, не меняя положения.
Старик простонал облегченно, перевел дух и, не убирая рук со лба, сел.
– Гли-ко, – как-то удивленно произнес он, тяжело двигая мутными глазами. – Ровно быка ссадил.
– Вам больно? До крови, да? – спрашивала Анна, осознавая собственную бестолковость. – Может, вам воды принести?
– Не суетись, девка, – проговорил старик и, отняв руки, потрогал лоб. На месте удара краснела широкая ссадина и росла шишка, опухоль поднималась быстро, вздувая переносицу и затягивая глаза.
– Я это… я нечаянно, – опомнившись, пролепетал Зародов. – Я не хотел, колун сорвался…
Старик поднял колун – тупоносую железку килограмма на четыре, повертел в руках и отбросил в траву.
– Однако приласкал, – с удовлетворением протянул старик. – Аж искры посыпались!
– Возьмите вот, платочек, – Анна торопливо намочила носовой платок в бочке с водой. – Приложите ко лбу.
– А-а, – отмахнулся старик и, поднявшись на ноги, пошел со двора. – Откололся я… Пойду.
Несколько минут они молчали. Анна проводила взглядом качающуюся, печальную фигуру старика и опустилась на чурку.
– Я же не специально… – сказал Иван. – Так вышло…
– Лучше молчите, – выдавила Анна и расслабилась. – Хорошо начали: человека чуть не убили.
– Да он вроде не обиделся…
– Колуном в лоб – и не обиделся… Теперь хоть беги отсюда… Ладно, тимуровец, колите дрова, если ни на что больше не годитесь.
– Как это – ни на что? – обиделся Иван. – Я же вон неплохую мысль подсказал, про старый капитал, – он взял колун старика, примерился.
Они кололи и складывали дрова, поджидая хозяйку, а вместе с ней и ее укора, может быть, даже сурового приговора. Что это вы, скажет, пришли сюда бог весть откуда; чуть старика не убили, а теперь хозяйничаете тут. Убирайтесь-ка с моего двора, проходимцы, не надо мне вашей помощи. Вы, может, тунеядцы, а я вас привечаю…
Марья Егоровна пришла только к обеду, когда вдоль плетня поднималась высокая поленница и от чурок осталась половина. Завидев хозяйку, незваные гости бросили работу и виновато присели. Зародов, голый до пояса и блестящий от пота, подтянул к себе ведро и, брякая дужкой, напился через край. Марья же Егоровна будто и не заметила, что творится в ее дворе. Она, не запирая калитки, прошла к крыльцу и тяжело опустилась на ступеньку. Глаза ее остановились на пропыленных броднях да так и застыли.
Анна вдруг поняла, что настал момент действовать. Она села рядом с Марьей Егоровной и неожиданно для себя вздохнула по-бабьи, устало и горько. Марья подняла глаза.
– Господи, зачем же вы? – тихо спросила она. – Я ведь нынче и дрова не хотела готовить… И так, поди, устали.
– Это не мы, – сказала Анна. – Тут дедушка приходил… А мы помогали.
– А, верно, Петрович был, – без интереса проговорила Марья Егоровна. – Вот тоже, мается старик, стыдно и сказать от чего… Господи, да что же это делается-то в жизни? Грешники мы, что ли, великие? За что нам испытания такие? Врагу не пожелаешь…
Ей сейчас нужен был человек рядом, независимо кто. Лучше даже, если чужой. Ей нужно было сейчас, чтобы ее слушали.
– А я в Останино ходила, в сельсовет, – сказала Марья Егоровна. – Просила запрос сделать про Тимофея, да сказывают, в район ехать надо, токо там запросы делают… Всесоюзный розыск называется…
Зародов демонстративно отвернулся от женщин и, взяв колун, принялся за дрова. Анна слушала Марью Белоглазову и думала, что перед экспедицией они с Ароновым обговорили все детали, отработали много вариантов установления контакта со старообрядцами, но никак не предполагали, что начнется все с дров и со случайной исповеди. Однако это еще ничего не значило. Рассказать, что наболело на душе, можно и первому встречному, но только чтобы этого встречного потом больше не видеть и не слышать…
Лука Давыдыч пришел в свою келейку лишь под вечер, оттопав босым верст пятнадцать по шелкопрядникам и старым гарям. На изодранных ногах кожа болталась лохмотьями, жгло исколотые пятки, ныла и горела шея, до мяса стертая верижной цепью. Домочадец – странник Леонтий – сидел возле избушки за столом из пустых ящиков и, склонясь над книгой, давил на щеках по-вечернему злых комаров. Лука поклонился ему, вежливо поздоровался и, сняв котомку, присел на ящик. Леонтий бережно закрыл книгу, огладил черную от времени обложку.
– Измарагд, – любовно сказал он. – Книга для чтения приятная, поучительная..! Ну, что принес, Лука Давыдыч?
– Что Бог послал, Леонтий, что Бог послал, – степенно проговорил Лука. – Соли маленько, лучку да огурчиков. И хлебца, из магазина.
Он развязал котомку, выложил на стол продукты и, чуть помедлив, достал книгу.
– Вот, Леонтий, старуха Смердова пожертвовала. Велела кланяться.
Леонтий оживился:
– До чтения я большой охотник! Благодарствую, Лука Давыдыч, спаси тебя Христос.
Он взял в руки принесенную книгу, осторожно приоткрыл ее, почитал что-то, шевеля губами, и захлопнул.
– Экая чудная книга! – восхищенно сказал он. – Ну ладно, вечером помолюсь да почитаю, да тебе растолкую, что здесь писано. К Марье-то заходил, к Белоглазовой?
– Заходил, Леонтий, заходил… Да что Марья-то? Всем умна женщина, всем хороша и божественна, а зло-то все еще на сердце держит. Который раз уж говорил: не вернется твой Тимка, назад его калачом не заманишь. В грехах он, аки свинья в грязи, пропащий человек, одно слово. Сказывал, не убивайся ты, Марья, понапрасну, не терзай свою душу надеждами. Так нет, она все свое…
– Как же, сын, – вздохнул Леонтий. – Ее, Марью, пожалеть надо, побеседовать с ней, чтоб сердце отмякло.
Лука Давыдыч поглядел на странника Леонтия с завистью, с уважением. Ведь молодой еще, поди, немного за тридцать, а какой подход к людям имеет, как говорит-то с ними хорошо – заслушаешься. И читать может, и толковать, ровно наставник, и по-новому шибко грамотный. Старухи по деревням, как ни встретят – поклоны ему шлют, о здоровье спрашивают и все добрым словом поминают. Кому-то он крышу перекрыл, кому завалинку поправил, на покосе помог. Давно ли Леонтий в этих краях появился, а везде его знают… Лука перекрестился и развернул тряпицу с припасом.
– Поснедаем, Леонтий, уж и солнышко на закат.
Леонтий взял огурец, луковицу, макнул в соль и захрустел. От хлеба же отказался, брезгливо отодвинул предложенную горбушку.
– Мне мирского и хлеба не надо. Огурчиком сыт буду.
– Я по дороге-то освятил хлебушек! – попробовал уговорить Лука. – А коли освятишь, так и магазинный есть можно. Старые люди говорят, можно, раз жизнь такая пошла. Все от Бога.
– Ты-то ешь, а я не буду. Я странник, я власти не подчиняюсь и хлебов ее есть не буду. – Лука замолчал. Видно, Леонтий знает, что говорит. Коль нельзя, зачем неволить? Странники – люди в вере серьезные, щепетильные, толк у них строгий.
– Слышь-ка, Леонтий, – вспомнил Лука. – К Марье-то странники пришли, ночевали нынче у нее.
– Кто такие?
– Мужик и баба с ним, молодые еще.
– А-а, – протянул Леонтий, сдержанно пережевывая огурец. – А у Петровича был?
– Быть-то был, – сказал Лука, раздумывая, есть ему хлеб или нет. – Да Петрович занемог маленько, ударенный он. Глаза-то напрочь заплыли, щелки одни.
– Кто ж его так-то? – пожалел Леонтий. – Безвредный старик.
– Да эти и ударили, странники, что у Марьи ночуют, – Лука все-таки отломил хлеба, прошептал молитву. – Будто дрова кололи и колун возьми и сорвись с черешка. Ну и Петровича по лбу.
– Вон как!
– А так ему и надо, – удовлетворенно сказал Лука Давыдыч и откусил хлеба. – Немоляка он, Петрович-то. Как с войны пришел – лба не перекрестил. Вот и получил по лбу! Бог его наказал.
– Нельзя так, Лука Давыдыч, – строго, но сдержанно заметил Леонтий. – Петрович без Бога словно в потемках живет, ему свет надо показывать, как слепому. Только осторожно, помаленьку, чтобы враз от света плохо не сделалось. Ты, Лука Давыдыч, вериги-то на что надел да обет принял? Чтоб грехи свои искупить, перед Богом покаяться. И чтоб потом братьев своих в смирении наставить. Зло-то, что против некоторых людей у тебя есть, ты сломи. Вера наша в добре – не во зле.
– Благодарствую, Леонтий, – виновато проронил Лука Давыдыч, – за науку, спаси Христос….
Лука стал есть молча и снова вспомнил про Марью Белоглазову. Может, умом тронулась Марья, коли до сих пор сына своего блудного ждет. Если и жив ее Тимка, то наверняка в тюрьме сидит, баланду хлебает да деньки до конца срока считает. Больно дерзкий сынок-то у Марьи, чуть что не по нему – в драку лезет. А Бог силушкой не обидел. Сама-то Марья тоже не чище, гордыня в ней так и бродит. Все они, Белоглазовы, такие были. И Кирилла ее, покойник, в тайге убиенный, тоже баламут был хороший…
Лука Давыдыч не любил вспоминать Кириллу Белоглазова. Другой раз на ум придет он, так Лука скорее открестится, отмолится от воспоминания, а в голове-то мысль знай зудит. В Макарихе, поди, уж забыли, что Кирилла перед самой войной вытворил, по крайней мере, не поминают и в лицо не тычут. Луке же самому во всю жизнь не забыть. Макариха в ту пору охотой промышляла да орехом. В межсезонье дуги и полозья гнули для леспромхоза. Предвоенный год выдался непутевый: белка ушла от бескормицы – шишка еще летом в цвету обгорела от зноя. Осталось промышлять лишь птицей да полозьями. Но и с этим беда. Пойдут мужики глухаря бить – что такое? Стрелишь – крылья падают, а птица все равно летит. Или днем дугу на правиле загнут, она к утру возьми да полопайся. Вроде и запаривали как следует, и загибали, как всегда, но дуга вся в щепу исходит. Вот и сиди, играй этой щепой, как медведь играет, сиди, думай и плачь. Тут-то Кирилла Белоглазов возьми при народе и скажи; мол, знаю, отчего неудача в промысле. У Лукашки глаз черный. Стоит ему увидеть мужика, когда тот на охоту идет, – считай, пустой вернется. И полозья с дугами тоже от его глаза трескаются и лопаются, поскольку Лука ночами не спит и бродит чего-то по берегу, где дуги на правилах сохнут.
Кирилла тогда уж в возрасте был, лет сорока, начетчиком в общине считался. Не то чтобы слишком уж божественный был, а людей вокруг себя собирал, чуть что – к нему шли. И как-то с властями ладить умел, если выходило наезжать милиции и сельсовету в Макариху. Мужики выслушали Кирилла – а им-то что? Только повод дай. Стали припоминать: выходит, и в самом деле Луке перед охотой на глаза не попадайся, вмиг удачу отпугнет. Ты, говорят, Лука, колдун и с нечистой силой знаешься. А потому из тебя беса изгонять станем. А какой он, Лука, колдун? В молельне – тогда и молельня еще в Макарихе была – часами на коленях стоит, книги читает и, пожалуй, еще помудрее, чем сам Кирилла, толковать может прочитанное. А Кирилла – на тебе! – колдун! Что ночами Лука Давыдыч не спал и по земле ходил, так и это не из колдовства. За день-то так выспишься, что ночью глаз не сомкнешь. Вот и ходил Лука по берегу, о Боге думал да молился шепотком. Но Кирилла народ-то уже взбулгачил. Мужики в воскресенье разговелись медовухой и собрались из Луки колдовство вытравливать, по старому обычаю. На кобылу хомут надели, погоняли ее как следует, чтобы хомут пропотел, потом схватили Луку и давай его через хомут протаскивать. Лука дрыгался, верещал, геенной огненной грозился, но где там с выпившими мужиками сладить. Народ собрался на берегу – все хохочут: мол, сатана из Лукашки выходит! Ишь как он бесится!.. Страх вспомнить. И Марья Белоглазова там же стояла тогда. Громче всех хохотала. Насмеялась над Лукой, теперь по сыночку своему плачет.
Вот ведь, Леонтий-странник, божественный человек, можно сказать, святой, подаянием питается, травкой, а к нему, к Луке Давыдычу, в скит пришел. Ну, был у Луки грех, на то и жизнь большую прожил, в такой-то жизни как не согрешишь? Покачнулся он в вере однажды, смута на душе была, и ушли они с Тимкой Белоглазовым из Макарихи в нефтеразведку. Там уж всяко было, вспомнить грех, но вернулся же Лука назад, в скит пошел, вериги надел, молится денно и нощно. А Тимка ее – что? Сколько он, Лука, уговаривал его пойти назад, в Макариху? Грех кругом творится великий, души людские страдают. Ну, попытали они жизни другой – на то воля Господня, испытание такое. Еще когда первый срок они с Тимкой в колонии отсидели, просил: айда назад, вернемся в лоно лесов святых, в Беловодье наше, да где там, своротишь белоглазовскую породу.
Если разобраться да, как Леонтий говорит, без зла посмотреть, Марья-то, она не виновата. Жизнь у нее тяжкая выпала, а оттого и праведная. Мужика ее, Кириллу, дезертиры убили в тайге, сын из дому шестнадцати лет сбежал…
Лука Давыдыч думал, вспоминал и не сводил глаза со странника Леонтия. Молодой еще, а сколько всего знает и в вере вон как укрепился, и сомнений в душе нет. Ходит по свету, страдания терпит, голодает, постится, иной раз вернется откуда-то в скит Луки – одни его черные глаза на лице горят, так исхудает. И все книги читает да про жизнь мудро толкует. Вот бы так-то укрепиться духом и жить потом в благости и других укреплять.
– Пойдем, Лука Давыдыч, – Леонтий встал, перекрестился, – помолимся да спать будем. А прежде – тут вода теплая есть, дай-ка ноги твои вымою, праведник.
Лука Давыдыч засиял, но, как подобает праведнику, принял омовение спокойно, с достоинством. Леонтий ноги Луке вымыл, какой-то мазью из баночки смазал ссадины и натертую шею, перекрестил его: терпи, мол, страдания, и возгорится в душе твоей вера и любовь.
Потом они встали перед иконами в переднем углу избушки, когда-то срубленной и брошенной нефтеразведчиками, и стали молиться. Лука Давыдыч отбил сто поклонов и покосился на Леонтия. Тот же на коленях стоит и новую книгу читает. «Божественный! Божественный! – про себя изумился Лука. – Он мне ноги мыл – экий божественный!» И еще сто раз бил поклоны, брякая веригой о неструганый черный пол. Леонтий же застыл, вперясь в книгу, и только губы шевелятся да черная борода под лампадкой сверкает. Между тем в избушке стемнело, и странник, не вставая с колен, подобрался к окошку.
– Довольно, Лука Давыдыч, отдыхай, – заметил колебания скитника Леонтий. – А я еще постою да почитаю. Голод чую по Божьему слову.
Лука Давыдыч тихонько отполз на четвереньках к лежанке – подняться на ноги уж не было сил, – забрался на нее и, устроив вериги у себя под боком, как мать ребенка, тут же, кажется, и заснул. И сразу же ему приснился милиционер Халтурин, длинный, худой, кадыкастый, с рыжей кирзовой кобурой на поясе. «Поймаю! – заорал Халтурин и погнался за Лукой. – Я тя измором возьму, лешак болотный!» Лука побежал, а кругом болото, зыбун под ногами ходуном ходит. Ни урмана, ни гривки вокруг, куда бы можно сигануть от милиционера. А тот бежит, как сохатый, и наганом размахивает: «Стой, лешак, стой, не то стрелю!» И вот-вот уж настигнуть ему, но тут Лука вдруг речку увидел, болотную, с низкими берегами. Отвернуть некуда, только вплавь, и Лука бросился в воду. Но что за чудо! – не поплыл, а пошел, пошел по воде, едва ногами касаясь. И так быстро, что, когда оглянулся назад, Халтурин уже далеко отстал: забрел в воду по горло, орет что-то и наганом размахивает. Лука, чтоб подразнить милиционера, остановился, руку к уху приложил. «Чего тебе, Халтурин?» – «Ты куда же бегаешь, дурень ты этакий! – будто отвечает милиционер. – Я ж тебе хотел ноги помыть!»
Лука Давыдыч тут же и проснулся. Не открывая глаз, перекрестился: приснится же… Откуда же взяться Халтурину, когда его в сорок втором вместе с Кирилой Белоглазовым в тайге убили. И вместе их, мерзлых, белых, на волокушке привезли в Макариху. Видно, к непогоде покойник приснился… Лука открыл глаза и увидел склоненное над ним лицо Леонтия. На улице светало, и розовые блики играли на бороде странника.
– Сам ты их видел, нет? – спросил Леонтий.
– Кого это? – насторожился Лука.
– Да странников, что у Марьи.
– А, нет, не видал. – Лука прокашлялся. – Мне старуха Смердова сказала. Двое, грит, пришли, мужик и баба, пристали больно, глаза ввалены – пожалела…
– Местные или чужие?
– Кто их знает! А мужик-то, сказывала, бритый, лицо что бабья коленка…
– Марья-то шибко переживает? – озабоченно спросил Леонтий.
– Шибко, ровно не в себе ходит. – Лука почесал искусанную комарами шею. – Глаза мутные, не поднимаются.
– Эх, Марья Егоровна, – вздохнул странник. – Пойду я, Лука Давыдыч, утешу ее, а то и помолюсь за сына ее… Где ж ей еще утешения искать!
«Святой, – снова, засыпая, думал Лука. – Как есть святой! Исповедуюсь ему… Вот придет – и исповедуюсь…»
Никита Страстный
У него было пальто из дорогого черного сукна, с каракулевым воротником, еще дореволюционного пошива. И сидело-то на нем, как влитое, хотя было с чужого плеча. Гудошников носил его совсем мало, да и не сезон еще был, берег на зиму – кто знает, сколько еще проторчишь в Олонце. И берег еще потому, что пальто было подарком профессора Гуляева. Снаряжая его в дорогу, профессор вдруг хватился: «Батенька! Да как же вы поедете? У вас и одежды теплой нет, а Олонец, дорогой мой, это север!» А у Гудошникова, в самом деле, кроме солдатской шинели, в которой он пришел из госпиталя, ничего не было. Да и шинель-то уже вытерлась, обтрепалась, полы просвечивали. И тогда Гуляев вынул из своего шкафа вот это самое пальто и вручил, отмахиваясь от всех возражений. Для убедительности склонился к уху и прошептал, что, дескать, он сам все равно не износит теперь этого пальто, и не потому, что стар, а потому что – по секрету – боится надевать его. Времена такие, человека по одежке узнают, а пальто барское, за версту видно. Ему же, бывшему комиссару, можно, если остановят где, то у него документы вон какие и орден. Ему не скажут вслед: ишь вырядился, контра недобитая! А если и скажут, так ответить можно.
Никита берег пальто еще и потому, что хотелось вернуться в Петроград не оборванцем, не зипунным мешочником, которых в то время было на вокзалах и пристанях пруд пруди. По сути, он оставался всегда гражданским человеком, хотя и воевал комиссаром полка, и командовать приходилось, и в сабельные атаки полк водить. Он всегда считал себя гражданским человеком, хотя шинель надел вынужденно, в шестнадцатом году, угодив на фронт за участие в студенческих волнениях, и не снимал ее до двадцать второго, до того самого момента, когда профессор Гуляев вручил ему пальто. И, как истинно мирный человек, он чувствовал себя свободно и уверенно только в гражданской одежде.
Но к концу второго месяца старуха хозяйка потребовала расчет с постояльца, и надо было срочно что-то продать. Сначала-то все скромничала, отмахивалась – ладно, денег заработаешь – отдашь, и по вечерам иногда на чай приглашала в свою половину. Ставила самовар на стол, фарфоровые чашки, бог весть откуда взявшиеся в ее доме, случалось, и сахар в китайской вазочке, и тарахтела: ей-де всегда приятно с интеллигентным человеком поговорить да почаевничать. Однако скоро потеряла интерес и будто невзначай стада говорить, что прибытка у нее никакого и живет она впроголодь: с хлеба на воду, потом и вовсе разговаривать перестала и лишь сверкала на постояльца недовольными глазами. Гудошников ждал, что ему предъявят счет, но не полагал, что так быстро и в такую пору: в Олонце стояла промозглая, сумеречно-тоскливая осень.
Он прикидывал, чем бы расплатиться со старухой, вытряхивал из мешка свой скарб, но ничего ценного для продажи не находил. Был у Гудошникова запасной, а вернее, лишний сапог на левую ногу. Хороший еще сапог, юфтевый, с высоким подбором, да кто его купит, один-то? Второй, правый, он носил сам и все думал, как бы и запасной перешить на правую, единственную ногу. Был у него еще офицерский френч, поношенный, но крепкий, из хорошего сукна, две рубахи-косоворотки и кавказский поясок. Однажды Гудошников хотел снести френч на базар – кончились последние деньги, – стал отвинчивать орден и пожалел. И был еще десятизарядный маузер без колодки, с гравировкой «Комиссару кавполка Н.Е.Гудошникову – герою Гражданской войны». Маузер был документом на все случаи жизни, а оттого свят и продаже не подлежал. Чтобы заплатить за постой, он ничего не мог продать, но вот за бумажку, за документ, за какой-нибудь мандат, в котором бы говорилось, что Никита Евсеевич Гудошников уполномочен осматривать архивы и собрания народных и частных библиотек, а также принадлежащих церквам и монастырям, – за него бы Гудошников, пожалуй, и маузера не пожалел. А такого мандата не было. И профессор Гуляев выручить не мог: археографическую комиссию упразднили. Поэтому Никита действовал как частное лицо, его попросту могли гнать отовсюду в шею, не подпускать ни к архивам, ни к библиотекам, но выручали френч с орденом Красного Знамени и протез. Гудошникова принимали то ли за чекиста, то ли за какого-то уполномоченного, побаивались на всякий случай и документов пока не спрашивали. Но был в Олонце нужный Гудошникову человек, собственно, ради которого он и оказался здесь, и вот этому человеку было ровным счетом наплевать на френч с орденом, на протез и даже на маузер. А фамилия человека была ничем не примечательная – Жиляков, впрочем, как и он сам, бывший учитель олонецкой семинарии.
Добыть такой мандат в Олонце и думать было нечего. Тут хоть бы деньгами разжиться, чтобы заплатить хозяйке, но где их взять, когда здесь, кроме этой старухи да Жилякова, – ни одного знакомого? И заработать невозможно. Весь август он сторожил рыбокоптильню и колол там дрова, но в сентябре ее закрыли…
Старуха явилась рано утром и потребовала денег. Гудошников попросил еще раз отсрочки, обещая заплатить в октябре, сразу за три месяца, однако хозяйка и слушать не стала.
– Ты – калека, – отрезала она. – Тебе пособие должно. Зря, что ли, за совецку власть ногу отдал?
И тут-то попало на глаза хозяйке его пальто. Видимо, она и раньше к нему приценивалась, поскольку вмиг определила, что от продажи пальто денег хватит заплатить и за постой, и еще кое-что останется.
– Я же замерзну! – взмолился Гудошников. – Зима скоро!
– А я тебе на остатние деньги шинельку дам, – нашлась старуха. – Она хоть и старовата, но стеганная изнутри.
Не долго думая, она принесла ему шинель, лежалую, пронафталиненную, зато пуговицы с орлами блестели как новенькие. Делать было нечего. Гудошников примерил шинель (не с убитого ли снята?) и согласился. Но старуха и на этом не успокоилась.
– Ты вот что, миленький, собирай-ка шмотки свои да съезжай. У меня родственница вот-вот нагрянет.
В мирные времена, за чаем, старуха жаловалась, что одна-одинешенька осталась на этом свете, а теперь безбожно врала. И на постой-то она взяла его, чтоб «не скушно было одной». Гудошников сразу по приезде в Олонец жил в сарае торговых рядов и целыми днями шатался по базару, где продавалось и покупалось буквально все, в том числе и рукописные книги, как дрова, наваленные в телегу. Будущая его квартирная хозяйка продавала там всякое старье, среди которого Гудошников обнаружил отличный березовый протез. Ходил он тогда на костылях, на них же и выменял, с доплатой, правда, деревянную ногу. Старуха раздобрилась, расчувствовалась и позвала на постой.
Гудошников «съехал». Забросил котомку за спину и подался месить грязь на кривых олонецких улочках. Тащились мимо крестьянские подводы с горбылем, мешками, с коровами, привязанными к телегам. Мужики на возах сидели чинно – в лаптях, в картузах, курили махорочку, дразня сладковатым дымком. Где-то пыхтел паровичок, тяжело дышали лесопилки, а на видном месте трепыхался на ветру красный плакат: «Кто не работает – тот не ест!»
Никита дважды заходил во дворы домов, спрашивал насчет жилья, но, получив отказы, махнул рукой и отправился на базар. Там он долго ходил, ковыляя между рядов, до одури пахнущих хлебом и салом, пока не отыскал знакомого уже крестьянина из Ильинского погоста. Мужик этот продавал соленую рыбу, а заодно и книги. Он разрешал Гудошникову рыться в своих сокровищах, а вместо платы заставлял его читать псалтырь.
– Благость какая! – восхищался он и вытирал слезы. – Душа радуется!.. А ты что же, из попов, что ли? Ишь, ровно батюшка читаешь-то!
И однажды, расщедрившись, подарил на выбор пять книг, да еще соленой кумжей угостил.
– Есть что новенькое? – поинтересовался Гудошников и уселся к мужику в телегу.
Мужик держал на коленях платок со снедью и лениво жевал.
– Гляди вон… – бросил он и пожаловался: – Не берут ни хрена. Говорят, написано непонятно.
Гудошников откинул тряпку, которой были прикрыты книги, и в глаза бросился пухлый, полурастерзанный том. Зашелестела в руках старая бумага, замелькали на страницах цветные украшения. То была лествица – собрание нравоучительных повестей примерно шестнадцатого века. Затем он осмотрел остальные книги, однако, кроме миней и месяцесловов с толкованием, ничего не нашел.
– Хоть бы купил когда, – ворчал ильинский мужик. – Ты-то вроде понимаешь, что писано…
– Того, что мне надо, у тебя нет, – сказал Гудошников, с сожалением расставаясь с лествицей.
– Откуда ты знаешь? – хитровато прищурился тот. – У меня в старой избе полный ларь стоит, чего там только нету… Как-то монах ко мне забрел, тоже, видать, понимал в книгах, так я его едва оттащил… Ишь ты, нету!
Гудошникова осенило:
– Послушай, братец, позволь мне глянуть в твой ларь. Может быть, я и подыщу что, а?
– Экий ты ловкай! – рассмеялся ильинский мужик. – По чужим ларям-то вы заглядывать умеете!
Не хотел Гудошников ссориться с ним, да на сей раз не выдержал: еще пальто было жалко и угнетало, что он бездомный теперь.
– А где ты их взял, эти книги? Твои они, что ли?
– Мои, – с достоинством сказал мужик. – Я их не крал. Валялись на земле, а я поднял. Если они властям не нужны – мне пригодятся.
– У-у, рожа кулацкая! – протянул Гудошников и, развернувшись круто, поковылял прочь. Через несколько шагов в его спину что-то тупо ударило и отлетело в сторону. Он оглянулся: в грязи валялась лествица – первое, что попалось под руку разъяренному мужику. Кричать же он не мог, поскольку рот его был забит хлебом. Мужик торопливо жевал, давился, краснел и, потрясая кулаком, готовился что-то сказать. Гудошников наклонился, поднял книгу и скрылся между рядов. Вечером, уже в сумерках, Гудошников отправился в сарай на ночевку. Сарай стоял на отшибе торговой площади, за свалкой.
Подходя к свалке, Гудошников достал из котомки маузер и опустил его в глубокий карман шинели. Ходить через свалку было опасно. В городе рассказывали, что от укусов бродячих псов умерло, или чуть не умерло, несколько человек, поэтому свалку обходили стороной и без дела туда не совались. Гудошников прошел напрямую, через заросли чертополоха, кучи мусора и остановился у сарая. Сарай оказался занятым: из отдушины под крышей струился дымок, слышались неразборчивые детские голоса, а дверь оказалась запертой изнутри.
– Эй, пустите на ночлег! – крикнул Гудошников. В сарае притихли, громко зашептались.
– А ты не легавый? – спросили.
– Нет, я странник, – сказал Гудошников серьезно.
– Монах, что ли?
– Да нет, просто человек.
Долго не открывали, совещались, спорили, кто-то тихонько плакал. Наконец дверь приоткрылась. В щель выглянул лысый мальчик и тут же попытался захлопнуть дверь, но Гудошников рванул ее на себя.
В сарае сидело восемь беспризорников, которых он уже видел на улицах Олонца: парнишки лет по десять-четырнадцать. Они сбились в угол, и лишь глаза поблескивали в свете маленького костерка на полу.
– Свой, не бойтесь, – успокоил Гудошников и сел к костру. Дым плавал под потолком: щипало глаза и першило в горле. На перевернутом вверх дном сундуке лежала вяленая кумжа, золотисто-жирная, вкусная на вид: беспризорники ужинали.
– Да это же инвалид! – обрадованно сказал лысый пацан. – Так бы сразу и сказал, а то – человек!..
Мальчишки вернулись к «столу», расселись у костра и, щурясь от дыма, принялись уписывать рыбу. Ели не жадно, видимо, были уже сыты и наедались впрок. Больше пили воду через край медного, подобранного на свалке таза.
– На, дядь, пожуй, – сказал лысый, протягивая Гудошникову кусок рыбы. – У меня уже пузо болит.
Гудошников молча взял кумжу…
– Табачку у вас не найдется?
– Самосад! – с гордостью сказал пацан. – Сами сушим – во!
Гудошников раскрошил в руках табачный лист и закурил. Мальчишки тоже начали вертеть самокрутки, швыркая носами и прикуривая от головешки.
– Где ранило-то? – деловито спросил лысый, видимо, вожак.
– На фронте, под Питером.
– А-а-а… Ну, а чего ходишь-то?
– Одну старинную книгу ищу, – сказал Гудошников. – Ты читать умеешь?
– По печатному умею, – с гордостью сказал мальчишка.
Доучиваться Никита Гудошников пришел в двадцатом. Вернулся на костылях, в шинели, человеком, повидавшим окопную жизнь в шестнадцатом, затем революция, Гражданская война, госпитали, голод и тиф. Здесь же, в университете, казалось, все было по-прежнему: лекции читали те же преподаватели, тем же хорошо заученным тоном. Случалось даже, что у кого-то из профессоров неожиданно срывалось обращение к аудитории – господа… Только «господа» в большинстве были одеты не в студенческие тужурки, а в гимнастерки, в английские френчи под солдатскими ремнями, в кожанки и тельняшки. И было еще одно отличие от старого: студенты контролировали работу профессуры.
К тому времени многие из преподавателей уже эмигрировали, однако из оставшихся, лояльных к Советской власти, с каждым годом нет-нет да кто-нибудь и уезжал за границу. Преподавателей не хватало, и бывший комиссар, проучившись два месяца, начал читать лекции и на рабфаке, и студентам-первокурсникам. В университете его знали, с ним уважительно раскланивались, шли за советами, и Гудошникову была уготована судьба «красного профессора».
Но случилось не предвиденное никем, даже самим Гудошниковым.
Летом двадцать второго года всегда тихий, далекий от политики, шестидесятилетний профессор Крон неожиданно уехал во Францию. Вначале прошел слух, что он связан с Савинковым и бежал из России, однако вскоре от него стали приходить письма друзьям, и в частности профессору Гуляеву. Гуляев стал заведовать кафедрой древнерусской литературы уже в советское время. Как и Крон, он был далек от политики, что всегда подчеркивал, и проявлял осторожность. Он часто советовался с Гудошниковым, хотя был чуть ли не втрое старше его, и Никита не видел в этом – ни малейшего заискивания профессора перед комиссаром. Он всегда помнил Гуляева аккуратным и старательным человеком, таким, глубоко интеллигентным, он оставался и сейчас. По сути, профессор был беспомощным в море революционных перемен, но, стараясь в них разобраться и не делать ошибок, спрашивал совета по любым мелочам. (Можно ли, к примеру, заставить пересдавать зачет матроса, штурмовавшего Зимний дворец? «Можно! – смеялся Никита, – Пускай теперь науку штурмует!»)
На этот раз Гуляев пригласил Гудошникова к себе домой, и по тому, что профессор выглядел больным, растерянным, измученным, Никита понял: что-то серьезное.
– Понимаете, Никита Евсеич… – Гуляев вытер испарину со лба. – Крон прислал мне письмо… Оттуда…
– Ничего страшного, – успокоил Гудошников. – Если письма доходят, значит, все нормально.
– Да-да, я согласен, – засуетился профессор. – Я всегда считал Крона порядочным человеком… И потом, меня бы уже вызвали в ЧК. Но дело в том… Крон уехал налегке и теперь просит, чтобы я выслал его архив, который здесь остался. И списки приложил, что в первую очередь отослать. Архив, по его просьбе, я перенес к себе, мы жили рядышком… В архиве-то вещи безобидные: наброски статей, материалы по исследованию славянских рукописей и его переписка. Почти вся личного характера… Крона я знаю тридцать лет, это настоящий ученый, но он почему-то не материалы просит выслать, а именно письма… Я стал просматривать, отбирать и нашел одно любопытнейшее…
Гуляев торопливо открыл шкаф и вынул картонку, плотно набитую письмами. Руки его слегка подрагивали, но, показалось Гудошникову, теперь уже не из-за боязни, что его обвинят в связи с эмигрантом.
– Я бы никогда себе не позволил – чужие письма, – бормотал Гуляев. – Но Крон сам просил отобрать… Поверьте, я еще не был в таком… щекотливом положении. И вот пригласил вас, Никита Евсеич…
Профессор отыскал письмо, подал его Никите, а сам сел напротив, не спуская с него глаз.
Письмо было адресовано Крону.
«Многоуважаемый Артур Карлович! – начал читать Гудошников. – Очень рад был получить от вас весточку в такое смутное время, когда уж на почту нет никакой надежды. С вашим письмом начинаю верить, что во всей России непоколебимым и прочным она, почта, только и осталась. Боюсь, что большевики и до нее доберутся. Молю теперь об одном: чтобы вы успели получить это письмо, поскольку у меня появились сведения, очень вас интересующие. Я не сообщал вам о своих розысках в последнее время только потому, что не знал, где вы сейчас и что с вами после переворота стало. Ведь нынче все умы России покидают родину и маются на чужбине. Очень рад, что вы не пострадали и не пострадал университет. У нас в Олонце говорят, будто все учебные заведения закроют, а помещения отдадут под казармы. Тут у нас многое изменилось после вашего приезда: семинарию закрыли и я теперь безработный.
Дорогой Артур Карлович! Мне удалось разыскать и встретиться с Христолюбовым. Зовут его Николай Николаевич, родом он из Вятской губернии, происхождением из крестьян, однако имеет образование. В Вятке он закончил гимназию, затем Киевскую духовную семинарию, но в сан рукоположен не был и служил в земской управе. Это тот самый человек, которого вы разыскивали в ваш приезд. Но тогда вы не знали его имени, а по вашим приметам найти его было трудно. Так вот, наш «вятич» – это Христолюбов Николай Николаевич. В Олонце он живет с 1905 года, сейчас ему около шестидесяти лет. Живет скудно, снимает две комнаты в доме купца Микитова и у него же прирабатывает переписыванием деловых бумаг. Родственников в Олонце нет, помочь некому. Я посещал его дважды. Первый раз беседы не получилось. Но во второй раз мы поговорили. Собеседник он интересный, однако в разговоре трудный и проповедует атеистические взгляды, много философствует. Очень осторожно я намекнул, что интересуюсь древними рукописями и что слышал о его диковинной книге (как мы с вами условились). К моему удивлению, он сразу меня понял и достал из сундучка деревянный ящик с выдвижной крышкой. В ящике оказалась книга, хотя это назвать книгой трудно. Серо-желтые пергаментные листы, сшиты какой-то ниткой, возможно дратвой. Христолюбов не вынимал книгу из ящика, а позволил посмотреть только ее первые листы, причем переворачивал их сам. По краям листов буквы видны слабо, но в середине они просматриваются хорошо. Написано в горизонтальную строку, без интервалов, черными чернилами, которые выцвели и теперь красноватые. Величина букв в высоту около четверти дюйма. С полной уверенностью могу сказать, что рукопись написана глаголическим письмом, коего прочесть я не смог, а только разобрал отдельные буквы. Есть там и знаки, напоминающие титлы. Впечатление такое, будто в рукописи все умышленно перевернуто, даже некоторые буквы. Без Вас мне ее не прочесть, даже если бы г-н Христолюбов позволил взять рукопись под залог. К книжному блоку отдельно пришит меньший по размеру лист пергамента, на котором кириллицей и другими по цвету чернилами написано: «Древнее письмо, писанное старцем Дивеем, язычником». Это все, что я смог увидеть и запомнить. Г-н Христолюбов тут же спрятал ящик в сундук и запер его на ключ. Я спросил, откуда у него появилась эта диковина, Николай Николаевич ответил, что рукопись досталась ему от отца – сельского старосты из Вятской губернии, к которому в свою очередь перешла от прадеда. У меня сложилось впечатление от рассказов Николая Николаевича, что рукопись эта хранилась в их семье как реликвия, в которой владельцы усматривали если не божество, то какой-то талисман или что-то наподобие талисмана.
Вам бы, Артур Карлович, самому следовало приехать и посмотреть ее, но время теперь смутное, опасное, и что ждать завтра – неизвестно. Погодить бы немного, пока не будет в России хоть какой-нибудь порядок…
Ваш покорный слуга Андрей Жиляков.
Февраля 6 числа 1919 года».
– Понимаете, о чем идет речь? – торопливо спросил Гуляев. – Вы понимаете, о чем он пишет Артуру Карловичу?
Гудошников не ответил. Он еще раз прочел письмо, рассмотрел конверт с царскими штемпелями и подпер голову рукой.
– Только поэтому я пригласил вас, – продолжал профессор. – Помню, вы очень живо интересовались деятельностью румянцевского кружка и теперь выступаете против пролеткульта…
– Это единственное письмо из Олонца? – спросил Никита осевшим голосом.
– Да-да, я прочитал все… – Гуляев взял картонку с письмами и замялся. – Никогда бы не позволил себе… Но Крон сам… И в первую очередь указывал на это письмо… Вы поверьте мне, Никита Евсеич, я никогда не ощущал такого… Трудная ситуация… По долгу чести, уважения к Артуру Карловичу я должен послать ему письмо. Но Крон теперь там… у них… Не знаю, как быть. Потому и позвал вас…
– Выходит, диковинная рукопись господина Христолюбова – языческое письмо дохристианской Руси? – задумчиво предположил Гудошников.
Гуляев оживился, вскочил и забегал по комнате, не зная, куда поставить картонку. Никита помог, взял у него коробку, взвесил на руке.
– Выходит – да, милейший Никита Евсеич! – воскликнул Гуляев. – Вы представляете, что это значит? Вы… вы только подумайте, что произойдет?.. Мы совершим переворот, имея в руках эту рукопись!.. Я хотел сказать, переворот в умах наших историков и словесников! Я всегда, я всегда верил в существование письменности на Руси задолго до прихода Кирилла! И вот оно – доказательство! – Профессор потряс письмом, зажатым в руке, и неожиданно резко наклонился к Гудошникову, заговорил отрывистым полушепотом: – Только за это я поддерживаю революцию! Только во время революции возможны такие открытия! Да-да!.. Я призываю вас, Никита Евсеич, товарищ Гудошников!..
– А если Крон уже ездил в Олонец? – резко спросил Никита.
– С семнадцатого Крон никуда не выезжал из Питера, – уверенно заявил Гуляев. – Дорогой товарищ Гудошников, умоляю вас, поезжайте и привезите рукопись! Я бы сам сию минуту отправился, но я уже стар, я не доеду…
Гудошников молча подтянул к себе костыли, встал.
– А этот покорный слуга Жиляков, похоже, сволочь, – возмутился он. – Как он о революции-то говорит…
– Ради всего святого! – молил профессор. – Поезжайте! Труда-то всего: наклониться и поднять… Я понимаю, вы инвалид, но кто же тогда поедет? Кого посылать?
Гудошников стоял, обвиснув на костылях, и думал, и судорогой сводило пальцы на левой, несуществующей ноге…
Он проснулся на мгновение раньше, чем сорвали дверь и осветили фонарем сарай. Протез был отстегнут, культя без привычки уставала и болела. Гудошников нашарил в темноте деревяшку, но застегнуть ремни не успел.
– По одному на выход! – скомандовал кто-то невидимый из-за слепящего света. – Ну, живее!
Рука инстинктивно нырнула в карман с маузером, однако Гудошников вовремя сообразил, что это не война, не враги, а лишь милиционеры.
– А, мелочь пузатая! – воскликнул кто-то и добавил облегченно: – Беспризорники здесь, не суетись, ребята… А то сигать будут.
Гудошников пристегнул протез и только сделал попытку встать, как от дверей крикнули – ни с места! – и в свете возникла рука с наганом. С улицы заскочили еще двое, окружили Гудошникова, обшарили карманы и нащупали маузер. Гудошников пробовал отбиваться, объяснять, в чем дело, но его не слушали – заломили руки, выхватили оружие и толкнули на улицу. Беспризорники толпились у входа под охраной милиционеров.
– Ведите его! – распорядился кто-то.
Один из милиционеров подошел к Гудошникову и, клацнув затвором винтовки, коротко бросил:
– Айда.
Гудошников выматерился и пошел, тяжело припадая на неловко пристегнутый протез.
– Офицерик! А говорил – книгу ищет, – донеслось вслед, и Гудошников понял, что это про него.
Его привели в помещение уездного ЧК и посадили под замок. Объяснений никто слушать не хотел, котомку и документы забрали. Гудошников свирепел от бессилия и, посидев в камере минуту, начал барабанить в дверь.
– Горяч, парень, горяч! – донеслось до него из угла камеры. – До утра будем сидеть. Не долбись. Ложись, хоть поспим в тепле.
Все было в жизни Гудошникова. Университет, война, революция, опять война, госпиталь, инвалидность и тиф, который свалил его сразу же после того, как поджила отнятая нога. После тифа на лице один нос остался, два мутных глаза и выпирающие вперед оголенные зубы с высохшими, превратившимися в нитку губами. Но всегда Гудошников оставался свободным. А тут схватили, не разобравшись, бросили в камеру. И кто? Свои!
Он отстегнул протез и, привалившись к косяку, стал долбить им дверь. Протез был крепкий, с кованной железом «ступней», тренированные костылями руки не знали устали. Охрана камеры не выдержала и пяти минут. Едва скрежетнул замок, Гудошников ударил двери плечом и, отбросив милиционера протезом, оказался в коридоре. Милиционер выхватил наган и попятился.
– Где начальник?! – задыхаясь от возмущения, крикнул Никита. – Живо начальника сюда!
Трясущимися руками он с горем пополам запихал культю в мягкую полость протеза и затянул ремни. Милиционер растерянно крутил головой, но нагана не убирал.
– Товарищ Муханов?! – неуверенно позвал он. – Товарища Муханова надо! Тут один…
Гудошников взглянул вдоль коридора и, сплюнув, выругался. По коридору торопливо шел командир эскадрона его, Гудошникова, полка, Серега Муханов. Скрипела наглухо застегнутая кожаная куртка, по-морскому, у бедра, болтался револьвер в кобуре.
– Муханов! Ну-ка объясни, в чем дело? – спросил Гудошников, словно они только вчера расстались. – Пусть твои орлы вернут мне маузер и документы!
Муханов остановился, дернул головой.
– Товарищ комиссар?.. Гудошников? Ты как здесь?!
– Это у тебя спросить надо – как, – отрезал Гудошников. – Почему это ты героев гражданской войны бросаешь за решетку!
Милиционер опустил наган и опешил.
– Ну, что встал? – напирал Гудошников. – Если ты здесь начальник – прикажи, чтобы отдали маузер и документы.
– Вещи и документы быстро ко мне! – опомнившись, распорядился Муханов, затем крепко пожал руку Гудошникова. – Ты извини, Никита… Товарищ комиссар, по ошибке тебя задержали…
– Ничего себе! – возмутился Никита. – Ты бы меня еще по ошибке в расход пустил!
– Да ну, – виновато улыбнулся Муханов. – Разобрались бы… Пошли ко мне!
В комнате с деревенскими лавками вдоль стен Муханов усадил гостя за стол, а сам присел напротив.
– Фу, черт, как оплошали. Ну ты прости меня, товарищ комиссар.
– Да хватит тебе! – оборвал его Никита. – Как барыня, извиняешься… Ты-то, Муханов, как здесь очутился? Что это я тебя раньше здесь не встречал?
– А ты был у нас?
– Бы-ыл, – отмахнулся Гудошников. – За помощью приходил, а ваш дежурный отправил меня, частное лицо, говорит… Муханов, ты же в Питере был?
Бывший комэск вдруг погрустнел, насупился, и Никита увидел перед собой усталого, обозленного человека, мало чем похожего на удалого кавалериста Серегу Муханова. Носил когда-то Муханов закрученные в шильце усы, сапоги в гармошку и саблю с золотым темляком. Теперь и усы обвисли, и сапоги сношенные, а вместо сабли – наган в кирзовой кобуре…
– Я уж год как здесь, – проговорил Муханов. – Начальник уездной ЧК…
– Вот мать твою… – по-кавалерийски выругался Никита. – Что же я раньше тебя не встретил? Ты мне вот так, по горло, нужен, Муханов! Помощь твоя нужна, гада одного взять!.. Эх, ну что же раньше ты мне не попался!..
– А я, товарищ комиссар, на месте не сижу, – недовольно отозвался Сергей. – Я из седла не вылажу… Два дня назад убили начальника сплава и подожгли лесозавод… Банды кругом, белофинны лезут… А у меня в ЧК – полэскадрона не наберется, ну, еще милиция…
Он замолчал, и стало слышно, как стучат большие напольные часы, совершенно лишние в убогой обстановке комнаты. За дверью, в коридоре, гремели сапоги, доносились брань и непонятный говор. Милиционер принес котомку и маузер Гудошникова, молча положил на стол и вышел. Никита заглянул в котомку, нащупал орден, привинченный к френчу, проверил документы, маузер и успокоился.
– Мне доложили, что офицера взяли у беспризорников. – Муханов тряхнул головой, словно отгоняя невеселые мысли. – Ты как в сарай попал?
– Ночевать было негде. Дожил я тут в Олонце до ручки: ни денег, ни крыши над головой.
– Погоди-ка… Ты что, на жительство сюда приехал?