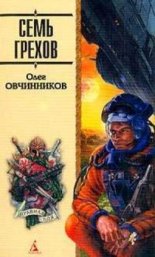Карл, герцог Зорич Александр
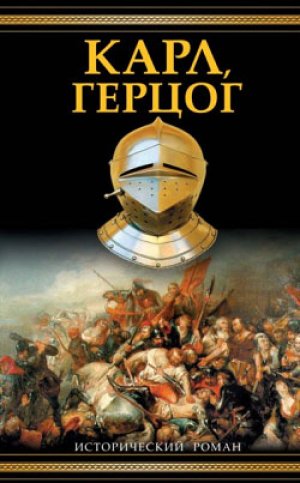
Девушки плетут из своих кос канаты для катапульт, когда город осажден и опоясан вражескими валами. Юноши бреют головы, когда у них на уме осада чужого города. Карл откинул с лица щедрую прядь. Катапульта выплюнула вишневую косточку, увесистую, словно колокол Сан-Марко дель Фьоре, бритоголовая дружина проорала победную тарабарщину. Мартин, отстукивая сердцем истерическую морзянку, выпалил на французском (который с того момента, как ему было дано осознать, что он и его лошадь топчут исконно франкскую пылищу, ухудшился, только ухудшился, оскудел и осип), точнее, процедил сквозь спазм на каком-то полуфранцузском:
– Здравствуйте, Карл, Вы очень хороши.
– Тю, – Карл выстрелил понимающим взглядом в недоуменные очи Луи, которому он только что объяснял, откуда деньги родятся.
Так все и началось.
Среди многочисленных гостей был некто по имени Альфонс Даре. Он приехал с опозданием – все уже успели устроиться, обжиться, поднадоесть Карлу и подустать от разнообразия. С Даре прибыла фура, груженная неизвестно чем, и юноша, которого он звал попеременно то сыном, то Марселем, и который был похож на него, как жеребец по кличке Falco[49] на сокола. Фуру бережно откатили на задворки, куда отправилась горстка любопытных, среди которых был, разумеется, и Мартин.
Граф Шароле изволили беседовать с господином Альфонсом, по одному извлекая из-под полотняного полога фуры различные предметы непонятного назначения: хламиды, расшитые элевсинской чертовней, шляпы, какие носят нарисованные сарацины, идолища с фальш-рубинами вместо глаз и прочее. Мартин издалека наблюдал за тем, как появляются и исчезают в фуре вещи, делая вид, что шатается просто так. Считает звезды, высматривает жучков для коллекции, знакомится с окрестностями.
Юноша по имени Марсель отирался в непосредственной близости от Карла и Альфонса Даре, брал все, что брали они, смотрел на все, на что смотрели они, и явно был в курсе.
Когда господин Альфонс закопался в фуре, выставив наружу стоптанные подошвы сапог, Марсель предложил Карлу совершить экскурсию за угол, где якобы было утеряно важное нечто, которое не сыскалось. Таким образом Марсель уединился с Карлом, и они говорили несколько невыносимых минут. Тем же вечером во время импровизированного пикника Марсель преподнес Карлу душистую ветку черемухи. Весь следующий день юноша не показывался, зато сутки спустя он прилюдно попросил Карла позировать ему для портрета. Он, видите ли, художник. Мартин, никогда не державший в руках карандаша, был готов удавиться.
– Я не буду позировать специально, но ничто не мешает рисовать меня так, – рассудил с занятой миной Карл.
Нервическая пружина внутри Мартина ослабела на микроньютон. Это как на дыбе – когда из-под тебя убирают жаровню с углями, ты уже готов признать, что в этом лучшем из миров все к лучшему.
В целом это была невыносимая неделя. Каждый день на прогулке Карл выбирал подходящую поляну, изъеденную кружевным дурманом цветущей черемухи. Марсель раскладывал свой станок, который был неуклюж и тяжел. Кстати сказать, кому-то всякий раз приходилось помогать донести этот станок до места. Добровольца назначал сам Карл. Доброволец всегда был не рад. Мартин так и не успел побывать добровольцем.
Шершавая кисть Марселя старательно облизывала холст. Холст все больше темнел. Прихоть Марселева дарования заключалась в том, чтобы двигаться от краев портрета к его центру, от фона к лицу, от флоры – к графу. Марсель был полон решимости вначале как следует изобразить то, чем Карл не является – колонной, листом черемухи или мухой, – а затем, полагал Марсель, будет гораздо легче изобразить, чем же Карл является. Своего рода стихийная апофатика.[50] «Что хорошо в литературе, дурно в живописи», – мечталось съязвить Мартину, но его, как назло, не спрашивали.
Лицо Карла – бескровное, цвета холста – оставалось в карандаше посередине. Кругом пестрел дополнительный план, который в детских описаниях портретов величают «остальным». Звезды, луны, травы, птички, змейки, лютни, прикорнувшие в уголке, загадили все, некуда было плюнуть. Остального прочего было так много, что не оставалось сомнений – Марсель всю жизнь рисовал одни декорации. Карл перемещался по поляне, описывая полукруги-полукружия; Марсель вторил ему перед мольбертом; Мартин, слившись со стволом ясеня, чувствовал себя Полканом на цепи, в то время как его взгляд любопытной сорокой парил над поляной, где творили живопись. Так Мартин подсматривал в холст.
Портрет продвигался к концу, неделя – к субботе. Мартин был близок к тому, чтобы отравить Марселя, перепилить струны на арфе дяди Дитриха и начать брать уроки рисования. А в воскресенье Марсель вместе с отцом исчез, ни с кем не попрощавшись.
– Как тебе понравился сынишка этого Даре? – вскрывая едва затянувшийся гнойник, спросил Дитрих. Кажется, уже в понедельник. Мартин буркнул: «Понравился». Впрочем, его ответ был безразличен Дитриху, всегда имевшему по любому поводу свое золотое мнение. Его старания быть образцовым воспитателем превращали всякий вопрос в риторический. Не важно, что спрашивать, лишь бы в итоге получалось наставление.
– Он уехал домой, обхаживать болезную матушку. Хороший мальчишка. Ты знал, что он пишет юного графа?
– Простите, а кто такой этот Даре? – Мартин стеснялся своего неприкрытого любопытства, от которого в иной момент воздержался бы. Дитрих, впрочем, не был склонен видеть тут что-либо предосудительное:
– Альфонс Даре – мастер из Арля, он привез с собой какие-то штуки, декорации и фокусы. Среди прочего, представь, есть, по слухам, даже невидимая веревка. И все это, включая веревку, совершенно необходимо для фаблио. Каково?
Как-то Мартину пришлось прослушать длинную дидактическую читку с экземплами[51] – краем уха, как и все, что говорилось Дитрихом, – о некоем обычае, бытующем в землях язычников. О предметных письмах. Когда кто-то заинтересован в передаче сообщения и не умеет либо не желает воспользоваться принадлежностями для букворождения, он шлет письмо, собранное из предметов. Заворачивает в красивый платок голубиное перо, два кардамоновых орешка и медную монету, а затем поручает посыльному доставить многозначительный сверток адресату. Это значит: «В два возле голубятни – за мной должок».
Получается очень выгодно – и адресат, и корреспондент в случае чего имеют возможность оспорить свою причастность к переписке, отстраниться от сообщения. Иными словами, предметное письмо – густые кущи, где всегда может скрыться струсивший или сомневающийся. Истинный податель письма в случае чего – недоказуемый податель. Тот, кто получил, в случае чего – несообразительный либо вообще ничего такого не получавший простак: платок сгорел на углях, перо пущено по ветру, орешки разгрызены и выплюнуты, грош брошен нищему. Никакой графологии, никаких уличающих бумажек – разъединенные предметы перестают значить, сообщать, существовать как письмо.
«В самом деле, какая это замечательная придумка, – размышлял Мартин, – для тех, кто таится». Так исподволь Мартин попал в плен предметной идеи послать Карлу сокола.
Представляя себе вероятный разговор с Карлом, который обязательно произойдет, Мартин всякий раз норовил направить его в то наперед выхоленное русло, где собеседника уже ожидает какая-нибудь заранее заготовленная и офранцуженная умность. Делая так, он тешил себя мыслью, что не просто фантазирует, но, подобно великим стратегам, просчитывает ход сражения, расставляет войска и устраивает засады.
Выбирать ловчих птиц, равно как и все остальное, Мартин толком не умел. Необходимость скрывать намерения делала Дитриха плохим советчиком. Сама идея представлялась Мартину то дурной, то доброй, но отказываться от столь эффектного послания не хотелось.
Можно было, конечно, послать «как бы сокола» – рисунок, статуэтку, камею, но ведь предмет, тем более один, должен говорить о предмете письма по всем канонам красноречия. Тогда понятно, что единственно живой сокол – прожорливый, вертлявый, способный к полету – может быть уподоблен всепоглощающей страсти, плохо запрятанной любовной горячке, очень даже рациональному иррациональному влечению «быть с», а не просто так – «быть, и все». Безобразный и старый виллан,[52] добывший для Мартина птицу, получил сполна – пожалованного «болезным немецким барчуком» доставало на покупку телушки и четвертушки.
Добрая половина дня впереди. Разомлевшие гости коротают полуденную сиесту, сидя за неубранным столом, во главе которого Филипп, Филипп Добрый, Филипп Уставший. Еду больше не подают, но, напротив, время от времени уносят лишнее. Грязные тарелки сменяются чистыми, приглашающими себя запачкать. Эта смена не возбуждает аппетит, но уменьшает тошноту. Граф Сен-Поль подливает себе вина, бокал полон на четверть, потом на половину, на три четверти. Дитрих с интересом косится на него. Сколько эти бургунды могут выпить и не лопнуть? Два литра? Три литра? За окном, у конюшни, Филиппов лоботряс Карл бьет баклуши. С Карлом – водимая им молодежь. Среди молодежи – Мартин.
Все утро Карл водил молодежь по конюшням. Наверное, так келарь[53] показывает молодым послушникам винные погреба – сироп из гордости и смущения.
Два брата – молодые Эннекены – хлопали породистых лошадок по крупам и угощали их ситным калачом, остальные насмехались. Самый младший, десятилетний, сопливый Русси, перепачкался с ног до головы навозом, и это тоже вызвало смех. Мартин был настойчиво немногословен и сдержан, словно римская карикатура на идеального спартанца. Он очень опасался испортить все равно чем торжественность предвкушаемого дарения или спугнуть глупым словом что-то, отвечающее в мире за счастье и за благосклонность лесных фей, красивых и всеми обожаемых людей, маленьких девочек и мальчиков. Сокол был в клетке, клетка в дырявом мешке, все это купно – на хранении у конюха.
От ненаблюдательного Карла не укрылся, однако, тот наэлектризованный неуют, который исходил от Мартина, погруженного в свои похвальные, но непонятные Карлу старания. Он без обиняков спросил у трепещущего от близости юноши, так ли скверно у него на душе, как это может представиться, если присмотреться к его фиолетовой роже. «Nein. Вовсе наоборот! Alles in Ordnung!»[54] – вспыхнул Мартин, готовый к откровениям любой тяжести. Поразмыслив еще, он даже улыбнулся «фиолетовой роже», ничуть не обидной. Он же слышал, он знает, что в Дижоне вовсе не такой пуризм, как в его родном Меце.
Заскучавший Карл отвернулся. В ответе юного отпрыска не было на его взгляд ничего, кроме невежливо онемеченного словотворения. Он-то сам немецкого не знает и знать не хочет. Да и вообще: ты ему участливое слово, а он тебе за это тарабарское слово, по смыслу что-то вроде «Да не цепляйся ты ко мне, пожалуйста!». Вот оно – пресловутое немецкое высокомерие. Очень охота разбираться, можно подумать, отчего у этого Мартина чего. Да чего у него может быть в пятнадцать лет? Любимый песик околел? Или там добренький хомячок отправился в Страну Обильной Еды? Или, может, противный дядька Дитрих запер Овидия на ключ и сказал, что если будешь и дальше коротать вечера за срамотищей, не видать тебе библиотеки как своих ушей? В общем, Мартин был вымаран из списка собеседников.
Заливаясь соловьем о седельных луках, слабых подпругах, выходящих из моды наглазниках и входящих в моду цельножелезных чепраках, Карл наслаждался своей добродетельной чуткостью, снисходительностью, способностью нравиться – в конце концов, Мартин определенно им восхищается, и это приятно. Хотя из списка собеседников он вымаран, да.
Когда позвали к обеду, стая молодых карасиков и самый большой карась, Карл, умерили интерес к сбруе и копытным, засуетились, засобирались. Не успевший оробеть Мартин приблизился к Карлу. Так индианка приближается к алтарю с ароматами и гирляндой. «Монсеньор, вы не могли бы задержаться здесь со мной на недолго?» – эту фразу Мартин фанатично репетировал полночи и, тем не менее, смазал конец.
Карл, отмечая про себя удивительное отсутствие чувства голода, согласился. «Мы вас догоним, мне необходимо переговорить с Мартином», – объяснил Карл своей молодой пастве, разувшей глаза завистливые, непонимающие. «Валите-валите!» – крикнул в нерешительные спины граф Шароле, непонятно зачем интригующий малышню, подливающий масла в огонь недоумения.
«Что там у вас, Мартин?» – справился Карл и повалился в сено. Он приготовился к повести о безвременной гибели злосчастного хомячка и уже заранее настроился внимать с тем выражением лица, которое было у святой Бригитты на одном образке. Ему было даже чуть-чуть интересно. Он скажет в утешение, что для всякой твари забронирована конура в зверином рае. Немец, правда, скорее всего не поверит.
– Я всего лишь хотел поднести вам в подарок вот эту птицу, – едва ворочая сухим языком, сказал Мартин, стащил мешок и передал клетку Карлу – возлегающему, всебезразличному.
– Ух ты! – Карл вскочил, весь – закипающая молодецкая удаль, весь – пружина. – Ух ты, какой красавец! – он уже почти не помнил о присутствии Мартина, о его занудстве, о его доставучем немецком. Он зачаровано постучал по клетке пальцем, сокол попытался расправить крылья. – Спасибо, Мартин.
– Es ist sehr venig![55] – Мартин испугался этого всплеска ненаигранной заинтересованности, квинтэссенции сюрприза и, не сумев совладать с испугом, снова заговорил на том языке, на котором ему предстоит отпираться на Страшном Суде.
– Vielen Dank![56] – слюбезничал Карл, снизойдя до редкого делегата из немецкого словаря, забитого-таки наставником Децием в его голову, и погладил юношу по безбородой, бескровной, безумной, возносящейся щеке, скользнув указательным пальцем по доверчиво распахнутым губам и чиркнув ребром ладони по белому локону. И все это – не отрывая взгляда от сокола. Птица всецело завладела вниманием Карла, кажется, надолго. Он, честное слово, хотел похлопать Мартина по плечу, но рассеянная рука заблудилась, сбилась с пути, промахнулась и ненароком благословила, нечаянно осчастливила.
– Спасибо! – швырнул через плечо Карл, затворяя ногой дверь конюшни. Таким образом, вся процедура дарения заняла не более шести минут.
На анонсированном обеде ни Карла, ни Мартина не было. Молодой граф тетешкался с живой игрушкой в своих покоях, откусывая наугад от хлебного ломтя с куском окорока. Мартин вкушал блаженство неожиданности на поляне среди знойного аромата земляничных листов и шмелей, першеронами пересекавших абрис соборных шпилей Нотр-Дам де Дижон. Надо же! Всего за шесть минут он успел разжиться крохотной вечностью.
«И ты забудешь все это как кошмарный сон». Почему так говорят? Правильнее было бы так: «Ты будешь помнить это как кошмарный сон». Или это: «Я еще поверил бы, если бы…» – так любит начинать Луи. Как странно думать, что если ты не можешь поверить сейчас, то сможешь поверить после, когда сложатся для этого благоприятные условия. Ведь очевидно, что вера и обстоятельства не состоят в близком родстве, всего-то шапочно знакомы. Карл вышел по нужде и заодно попить. Ничто так не отрадно душе, как стакан воды после кошмара. А потом – на свежий воздух. Вначале промыть потроха, а затем проветрить.
Вот он выходит и стоит на балконе, вдыхая кусками майскую ночь. Сплевывает вниз, плетется в уборную.
Два голоса, доносящиеся оттуда, опознаны Карлом как принадлежащие братьям Эннекенам – неразлучным засранцам. Карл не то чтобы крадется, но идет гепардом, дабы не наступить на швабру. Карл собран, не дышит, не пылит дорога, не дрожат листы. Подожди немного, ruhest du auch.[57]
Немецкий – Мартин – сокол от Мартина – вернуться и задать ему корму. Мысль слегка попугать этих недоделанных Эннекенов показалась Карлу не такой уж дурацкой – напротив, взбодрила и развеселила. Спрятаться возле уборной и с чувством повыть – больше ничего не требуется для ее воплощения, в этом-то и прелесть забавы. А после ждать в кустах, когда они выскочат оттуда, творя молитвы и осеняя все и вся крестным знамением. Побегут, спотыкаясь, в свою спальню, к другим мальчикам – расскажут по секрету и будут психовать дуэтом.
«Успеть бы сотворить молитву Господу и трижды осенить крестом нечистого». Помнится, так. Энергия кошмара, застопорившаяся в теле Карла, требовала сублимации – в виде кошмар-водевиля для недорослей Эннекенов.
Карл устроился в кустах близ уборной. Затаился на корточках. Со стороны это еще как смотрится! Молодой граф Шароле – в будущем по меньшей мере герцог, а может и король – в засаде. Среди ветвей и отголосков смрада, одной ногой в муравейнике, на околице нужника. Шпион-вервольф. Нинзя-черепашка – как выразились бы те же Эннекены пятью веками позже.
Куда им азы фехтования, какие им конюшни! Им еще пасочки печь в песочницах. Взрослее, чем в восемнадцать, Карл не ощущал себя никогда после.
Устроился. Теперь нужно дождаться удобной паузы в разговоре и предаться зловещему вою, сложив ладони бочонком. Причем сделать это побыстрее – все-таки зябко. Ага. Обсуждают фаблио.
– …Думаю, самый смак будет как раз когда фаблио закончится. Все налижутся и разбредутся по сеновалам, все твари по паре или кто как устроится. Сен-Поль, слышал? Водит шашни с этой Лютецией, – просвещал младшего старший Эннекен.
– С какой еще Лютецией?
– С той, которую Мартин обозвал сундучкой.
– Это тот Мартин, немец?
– Тот самый – любимчик Карла. Вот увидишь, после фаблио Сен-Поль с Лютецией, ручки крендельком, пойдут налево – скажут, прогуляться, а Карл с Мартином в обнимочку – направо; тоже что-нибудь наврут.
– Да ну! – Карл словно видел сквозь стену, как младший таращится на брата, определяя где север, а где юг, или недоверчиво, а может, близоруко щурится, отыскивая в очке гальюна стрелку компаса.
– Точно говорю. В Дижоне все такие. Бабы уже никого не интересуют. Я сам видел, как они с графом миловались в конюшне, помнишь? И на обеде их потом не было.
– Не верю! – стоически оборонял свою мировоззренческую целомудренность младший.
– Ну и дурак! – старший Эннекен, как и всякий Мефистофель, был жестоко уязвлен недоверием.
Единоутробные товарищи, составив счастливый бинарий – фантазерство и здравый смысл, ложь и правда, интересное-неинтересное – вышли из строения посвежевшие и готовые смотреть сто вторую серию своих сновидческих сериалов, а Карл так и остался сидеть в кустах – охреневший, растирающий руками предплечья рыцарь в гусиной коже.
«Buenos noches, добрый вечер, сынок!
Сквернейший вечер, если говорить правду. Верный нам синьор Мигель дель Пазо любезно согласился быть моим ave de paso (почтовым голубем) и, значит, передаст тебе мое письмо во что бы то ни стало – он человек слова. (Если ты читаешь это, значит он не соврал.) Моя жизнь здесь среди песен melodioso, из которых у моих компаньонок лучше всего выходит о любви к Господу, была бы хороша, если бы не мигрень. (Нынче на здоровье в письмах не жалуется только ленивый.)
В прошлый раз я уже описывала тебе все – крючковатый нос нашей настоятельницы, мигрень и здешнюю кухню. Вроде бы ты еще не ответил мне. Впрочем, это не странно – у тебя, полагаю, столько хлопот, сколько новых людей в Дижоне. Сеньор Меццо, которого твой отец совершенно, на мой взгляд, незаслуженно назвал в моем присутствии chivo и castrado (козлом и кастратом), что несколько антиномично, навещал меня в этой обители всего угодного Господу и рассказывал о том, с каким всеобщим рвением готовится грандиозное фаблио о Роланде. Мечтаю увидеть, точнее, мечтала бы увидеть это действо, где ты, мой повзрослевший, лучше всех.
К слову, теперь уже можно открыться, мы с твоим отцом до недавнего времени были не на шутку обеспокоены, и вот чем: ты казался нам несколько более ребенком, чем то пристало юноше твоих годов – ты всегда сторонился женщин, шумных сборищ, развитых сверстников. Теперь, к счастью, нет поводов тревожиться о твоей инфантильности, но появились другие. Бог с ними. Однако прошу тебя, сынок, сохраняй в тайне все, что касается этого chico, muchacho, pequeno (мальчика, мальчика, мальчика). Здесь, в Компостела, такое относят к большим грехам (сорок флоринов), в Кордове хуже – уличенных предают колесованию. Впрочем, ты не в Испании.
Не оставляю надежд повидать тебя. Молюсь за тебя, люблю.
Adios!»
Мать никогда не подписывала эпистулы,[58] адресованные близким. Твой адресат узнает тебя по первым словам. Для этого ему не нужен автограф.
Иное дело читающие из любопытства – якобы случайно увидел на столе, когда хозяин стола в отлучке, якобы подумал, что ему, якобы прочел только заглавное обращение и все такое прочее. Вот для таких существуют подписи. Кроме всего, подписи как бы заявляют о признании читателя-воришки, того, кто не узнает корреспондента по почерку. Матушка Изабелла не желала подписываться. Для нее это было жестом презрения к постороннему.
Монастырь Сантьяго-де-Компостела был достаточно далек, чтобы полагать его каким-то затридевятьземельным, но и достаточно близок, чтобы письма приходили часто. Карл свернул письмо в трубочку. Развернул в парус. Согнул вчетверо. Сослал в потайной ящик. На дно самого потайного из ящиков, куда можно получить доступ лишь в сновидческом угаре.
Чернила, пожираемые пламенем эпистолярного аутодафе, химически воняли. Карл закашлялся.
Сен-Поль, Дитрих, вечер. Из дома Юпитера в дом Марса проносится падающая звезда.
– Я не понимаю. Настоящий мужчина рождается с мечом и Евангелием в руках. Настоящий мужчина живет с мечом и Евангелием в руках. Мой прадед умер с мечом и Евангелием в Святой Земле, мой дед умер с мечом и Евангелием в Пруссии…
Сен-Поль, завороженный убедительным тевтонским рокотом, мерно покачивает головой – девяносто пятое согласие, девяносто шестое согласие, на тебе держится вся Священная Римская империя, твой отец подпирает небосвод за страной гипербореев, твой дед произошел из серебряной серьги твоей прабабки…
– У вас не так. Ученость, вежество, богохульство. Войной ведают лучники, бомбардиры и инженеры, на проповедях болтают о Тристане.
Сен-Полю скучно. Нераспечатанное письмо от Лютеции стучит в его сердце, взывая к прочтению.
– Только законы приличия, которые особо строги к гостям, удерживают меня от резких шагов. Мой Мартин, доселе благоразумно полагавший в женщинах дьяволиц, вчера так смотрел на прислужницу, вашу, прошу извинения, Франквазу, что небеса пунцовели от стыда, оскорбленные. В Меце он никогда не позволял себе так, хотя наша Гретхен ничем не хуже.
Сен-Поль, словно китайский болванчик, кивнул еще раз. Вчера Мартин так смотрел сквозь прислужницу, ибо вездесущий абрис ее задницы то и дело застил ему экспозицию Карла. С некоторых пор прислужницы модны в Бургундии стеклянными.
«Из всех фрустраций важнейшей для нас является любовь».
До жеребьевки оставалось около часа. Мартин, напряженный, как и все немецкое, вышедшее за опушку Герцинского леса,[59] напряженный, как мировое яйцо в момент «минус ноль», напряженный, как дверь в ожидании заговорщического стука, методически перелистывал страницы, силясь найти потерянное.
Карл говорил: «Бургундское фаблио мягко только на языке, на деле же это не так». Почему фаблио? Почему это слово, подслащенное соком сицилийских смокв, тающее леденцом, дремотное, почему не ристалище, не игры, не противоборение? Карл сам же ответил: «Дристалище – не про бургундов», и ослепительный след, оставленный весельем, начисто выжег в памяти, почему не игры и почему не противоборение.
Карл говорил: «Наше фаблио лучше охоты. На охоте триста лиг гонишь единорога, и во всей округе, как назло, ни одной девственницы. На охоте стреле удобно метить в перепела, а воткнуться в перья на вашей шляпе. Охота хуже турнира».
Когда поили коней, Карл исчез в зарослях жимолости и возвратился только когда двое его братьев-бастардов, уверившись, что граф исчез навсегда, уже успели поделить герцогство на Антуанию и Бодуэнию. Карл назначил им полную ночь караула, пароль «Карл – герцог» и, преступив границы мирской власти, по пятьсот отченашей на каждого выблядка; затем продолжал: «Визиволлен, наше фаблио отнюдь не свальный турнир. Да, есть сходство с тем, что немцы называют „бугурт“.[60] Но на турнире Морхульт может сразить Ланселота,[61] а может Ланселот Морхульта, и ничто не предначертано. У нас же если сказано, что Роланд сразит дюжину сарацинских эмиров, значит уж сразит так, что обломки копий достигнут небес и падут к ногам святого Петра, а дамы не просохнут и к обедне».
Что, такая кровища? Или грязь? Или такое что? «Такое наше фаблио», – таинственно подмигивал граф, брахман среди париев, я бы стал браслетом на его запястье, златым агнцем на его лебединой вые.
«И если сказано, что Роланд падет на бранном поле, а его душа отлетит в объятья Святого Петра, значит уж падет, как Ерихон, и отлетит, как Фаэтон, хотя, ставлю экю, никто из вас о таком и не слыхивал». Честно отдав экю просвещенному племяннику архиепископа Льежского, Карл ответил: «Да, без дураков. Отлетит. Кто-то из вас отлично прокатится. (Что, правда? А как же, ведь душа?) Кто-то прокатится, а другие будут петь псалмы, а третьи походят вслед за баронами с амуницией и побегают с любовными записочками, а четвертые поскучают в невольниках – все решит жеребьевка. Но это не главное. Три дня – под открытым небом, в шатрах, паланкинах, фурах, раззолоченных клетках, под кустами, в седле и пешком – все будут жить законами „Истории о пылком рыцаре Роланде и его славном Дюрандале, Марсилии, эмире Сарагосском, злонаветном Ганелоне и гибели сарацинов при соответственной экзекуции их поганых божеств, или О трубном гласе Олифана“.
Вопросы поглотились варевом всеобщей и конечной неясности. Карл встретил тишину встречным улыбчивым молчанием. Наконец: «Но и это не главное». Продемонстрировав внутренность небольшой торбы, где копошились изумрудные жуки, граф торжественно провозгласил: «Прошу не забывать, на фаблио будут все дамы Дижона!»
Со страницы, засеянной семьдесят четвертым псалмом (Не погуби. Псалом Асафа. Песнь),[62] на Мартина зыркнул правым и единственным оком сокол, облюбовавший куст орешника.
– Если хотите знать мое мнение, оно таково. Монтенуа нам не подходит – склоны крутоваты, да и не избежать трений с епископом. Мельничная гора излишне высока, терновые заросли на ее склонах слишком густы, и там никто ничего не разглядит. Лучше холма Святого Бенигния на Общественных Полях ничего не сыщешь. Отличный обзор, живописные дубы, удобные подходы. Кстати, через дубы и протянем… Вы согласны?
– Да, мой граф.
Карл упал на кровать, закинул руки за голову, цокнул языком. Сегодня я был более чем внятен. Как андреевский крест. Ш-ших-ш-ших, в два смелых и уверенных взмаха ножа, какими вскрывают гнойники в бубонную чуму. Все оттого, что рядом не было Луи, при Луи не выходит говорить как Луи, а это очень удобно, словно бы не по-французски. Единственно, забыл намекнуть на странность нашего фаблио. А ведь и правда, странное дело – на фаблио всегда ровно одно недоразумение, ровно одна пропажа. Как в том году уперли Святой Грааль, а на первом Изольда понесла не поймешь от кого. На то и фаблио.
Развернув письмо, Сен-Поль сразу же узнал полуграмотную руку Лютеции. Быстро пробежал по строкам, по строкам, мимо «нашей любви» и «служения искусству», в поисках времени и места, предпочитая числа словам. Ни X, ни V, ни кола. Уже в постскриптуме, прочитанном только со второго, более прилежного захода, значилось: «Когда наш паладин испустит дух, на холме Монтенуа».
Дитриху фон Хелленталь не повезло – по жребию ему выпало быть злонаветным Ганелоном, главным предателем великофранцузских интересов среди рыцарей Карла Великого. Но не поэтому – о нет! – Дитрих пребывал в состоянии музицирующей гневливости. Тевтон удручался кощунственной ролью, которая досталась его подопечному. Мартин – душа Ролянда, подумать только! Со всем согласная арфа печально откликалась третьим «ля».
Его подкараулили, когда шли к заутрене. Сначала накинули на голову мешок, затем связали, заковали в колодки шею и руки, заткнули рот, завязали глаза и посыпали раны красным перцем. Все это сделали с ним, и, наверное, это было не все, что с ним сделали – просто он не знал. Когда шли к заутрене, Карл оказался рядом с Мартином у дверей собора. Карл сказал: «Забери своего сокола, чтоб я его больше не видел». Руки Карла – руки палача, волосы Карла – волосы палача.
Сделав сообщение, молодой граф отделился, нырнул в толпу нарядных матрон, окликнул кого-то – и был таков.
Служба.
Среди прихожан всегда находится кто-то, кому не до вечности, кого не отпускает, кто думает о своем. Мартину было не до образов, не до вертикали, не до латыни, не до песен. Не до чего, кроме Карла, к которому, чтобы объясниться, он шажок за шажком пробирался.
– Опять ты! – Карл дрожал от раздражения. Саломея пустилась в пляс. Еще одно па, потом финальный поклон – и пора рубить голову. Он бы сейчас снес голову Мартину. И снес!
Теперь и Карлу было не до службы. Мартин, объявившийся у его уха, был воплощением самого себя – ненавистный, тощий пацан, белокожий как девка, скотина, зуб выщерблен, глаза грешного серафима. Ничего не скажешь – хорош задний дружок! В отдалении маячили стриженые затылки Эннекенов. Младший обернулся, посмотрел на Карла, на Мартина, потом подался к уху старшего брата, такого же недоноска – поделиться с ним добычей. Но ни один из них не сглотнул смешок, не захихикал, не прыснул в изнеможении и даже не скривился ядовито – ничего подобного.
– Ну! – негодующий Карл.
– Пожалуйста, не отказывайтесь от подарка!
– Мне надоело, отстань, – отрезал хамский, жестокий Карл.
– Выпустите птицу, если она вам не нравится, только не отказывайтесь!
– Я сказал забери! Да и вообще – вали, хватит ко мне клеиться! – Карл был аспидом шипящим, спрыснутым уксусом углем, немилостивым, неумолимым.
Свеча длинная-предлинная. У девушки впереди головной убор похож на перевернутый и начищенный коровий колокольчик, у ее соседки – на таз. Мартин роняет четки. Нагибается, садится на корточки, шарит рукой по полу. Подолы платьев, шлейфы, ноги, чужие ноги, нога Карла в шерстяных белых рейтузах. Мартин глянул вверх – Карл вроде бы совсем не смотрит на него. Он придвигается к белой голени, подносит бескровные губы к белой шерсти рейтуз, целует, еще раз целует и отстраняется. Никто ничего не заметил. Карл ничего не заметил и оттого молчит.
Украденный поцелуй Мартин спрятал – до лучших, до худших ли времен. Служба закончилась очень скоро.
На выходе из собора дядя Дитрих подловил Мартина и разразился спонтанной нотацией. Нельзя приличному мужику, каким Мартин станет в перспективе, быть таким чистюлей, каким Мартин уже есть. У Мартина оскорбительно чистые ногти, подозрительно завитые волосы – ты что, спозаранку сегодня их укладывал? – его тело пахнет какими-то эликсирами, манжеты чисты, словно он меняет сорочку раз в полдня. Да, дядя Дитрих, нет, дядя Дитрих. Всего лишь раз в день. Я буду. Я не буду. Понимаю. Ваша правда, дядя Дитрих. Мартин – благодарная мишень для всякой стрелы.
– Милейший фон Хелленталь, – заворковал Карл, подлаживаясь под медвежью поступь Дитриха Научающего, – ваша волшебная арфа будет на фаблио как нельзя кстати. Я бы просил…
И так далее.
Глаза Мартина – глаза ягненка, которого принесли к жертвеннику стреноженного, увитого гирляндами, окурили, омыли и приготовили, но! В последний момент жертвоприношение расстроилось и, похоже, его вот-вот отпустят. Мартин ищет в нежданной приветливости Карла ответ: может быть, его все-таки отпустят? Быть может, вот оно, прощение, и Карл не сердит более?
– А-а, Мартин! – Карл говорит как бы невзначай, будто только заметил его. – Там твой костюм, тот, что смастерил Даре, так его нужно подогнать по твоей мерке.
Карлово невзначайство обескураживает.
– Прямо сейчас? – спрашивает Мартин, успешно офранцузившийся для того, чтобы при случившемся буйстве чувств не ляпнуть чего-нибудь невпопад по-германски.
– Мне все равно, – смакует мнимое равнодушие Карл. – Если ты не против сейчас, то иди к декорациям, а я тебя потом догоню. У меня тут еще одно маленькое дело.
Мартин взглядом испрашивает и получает разрешение дяди Дитриха, сворачивает на нужную тропку. Карл исчезает. Дитрих, околдованный любезностями молодого графа, плетется восвояси.
В виду пустующих декораций Мартин оборачивается. Карл дышит ему в спину. Как случилось, что я не распознал родное дыхание, растворенное в переменчивых майских ветрах? – недоумевает Мартин и останавливается. Карл дает ему пощечину. Мартин закрывает глаза руками. Карл снова бьет. Бьет еще – кулаком поддых. Лупит открытой рукой по щекам, плечам, ссутулившейся спине. Шлепки, тычки – хладнокровные злые руки Карла работают без устали. «Ты меня позориш-ш-шь!» – шипит Карл в унисон последней затрещине.
Общественные поля были наследственным леном герцогов Бургундских, а названы «общественными» с легкой руки Иоанна Бесстрашного, деда Карла, романофила. Он придумал фаблио и частенько выступал в нем под женской личиной, что не помешало ему там же, теплой майской ночью, зачать Филиппа Доброго.
Общественные поля, когда-то, возможно, плодородные, за шестьдесят лет были вытоптаны безвозвратно. Дернув Мартина за рукав, Бодуэн с гордостью сообщил: «Здесь не пасутся ни козы, ни другие нечистые животные. Здесь нет навоза».
В воздухе еще витал дух ночной грозы. В комнате было сыро, на улице – свежо и солнечно. Сен-Поль, как обычно, малость заспался. Завтра – фаблио. Это значит, пора идти на Общественные поля, отправлять обязанности распорядителя. Но это еще ладно. А вот то, что вчера поздним вечером ввалился Луи и, глядя ему точно в переносицу, сообщил, что граф Шароле настоятельно рекомендует составить краткое изложение грядущих на фаблио событий, и притом сделать это к сегодняшнему полудню, дабы к ужину переписчики успели изготовить должное количество экземпляров для всех невежественных гостей, вот это уже не лезло ни в какие ворота.
Сен-Поль шумно выдохнул, молодецки отшвыривая покрывало и переправляя босые пятки на персидский ковер. Ну зачем, зачем, спрашивается, пересказывать сюжет всем известной «Песни о Роланде»? Ведь все и так просмотрят и прослушают ее от первой лэссы[63] до последней, без купюр. Ладно еще в прошлом году, когда занимались «Персевалем», в котором сам черт ногу сломит.[64] Но «Роланд»! Да его наизусть знает каждый немецкий мальчик. Впрочем, иные вызывают сомнение. Вот Дитрих: «Настоящий мужчина живет с мечом и Евангелием в руках». Его бледный подопечный наверное и не знает вовсе ни о каком «пылком рыцаре Роланде», ни о «Марсилии, эмире Сарагосском», ни о «трубном гласе Олифана». А должен бы знать, ибо ему предстоит весьма вдохновенное дело.
Итак, Общественные поля и Роланд. Орать на ленивых мастеровых, сооружающих махины для фаблио, и одновременно с этим писать чернилами все равно не получится – только раскрасишь школярскими кляксами и бумагу, и рубаху. Поэтому предусмотрительный Сен-Поль остановил свой выбор на старом военно-полевом инвентаре: железном грифеле[65] и четырех восковых дощечках. Много он все равно не напишет – вот уж дудки вам, граф Шароле. И вообще – просвещали бы публику сами.
Сразу за дижонскими воротами Сен-Поль для взбодрения духа погнал коня вскачь. Не теряя времени, он по дороге сочинил несколько первых фраз и, как только подошвы его сапог ухнули в парную траву близ холма Святого Бенигния, выхватил грифель с намерением поспешно вверить их воску. В этот момент, по своему дурацкому обыкновению словно из-под земли, появился Жювель.
– Не серчайте, сир, но без вас лихо. Не могу с плотниками говорить по делу.
Сен-Поль обронил мрачное «скоты» и пошел смотреть на плотников.
Вершина холма. Дуб слева, сорок шагов пустоты и дуб справа. В центре – распотрошенный магический ящик Альфонса Даре с надписью «К смерти Роланда» и десяток лентяев с лопатами и топорами. Лентяи мнутся над одной парой роскошных ослепительно-белых крыльев, панированных жемчугами, одной клеткой, одним мотком веревки, двумя лебедками – с воротом и без, и тремя блоками на длинных кованых стержнях.
Ну что ж тут не понять? Под левым дубом, где будет лежать Роланд и где душа графа покинет тело, роется яма с потайным выходом на обратный скат холма – там все равно болото, а публика не дура, кормить пиявок не пойдет. Выход еще обсадим кустами боярышника, которые надо выкопать на Монтенуа (но не все – иначе негде будет разложить Лютецию).
Но боярышник – это уже послезавтра, под шумок, пока все будут смотреть резню в Ронсевальском ущелье. Иначе цветы на кустах засохнут и куртуазного вида не выйдет. В яме будет врыта одна холостая лебедка, и в ней мы засядем вместе с этим немецким везунчиком, который жеребьеван душой Роланда. Там он загодя оденет крылатую сбрую, прицепится к веревке и получит от меня благословение. А под правым дубом будет такая же яма с таким же выходом, но лебедка там будет не холостая, а ведущая, и при ней будут трое ослов во главе с ишаком-верховодителем – Жювелем. Там же – первый блок, от которого пойдет веревка на второй блок, что будет на самой верхотуре правого дуба. Ну а третий блок будет в нашей с душою Роланда яме.
Когда отгремят из поднебесья слова «В рай душу графа понесли они», Жювель скомандует вращать, и подцепленная на веревку душа появится из-под земли. Но Роланд будет лежать так, что возникнет полная иллюзия отделения души от бездыханного тела. А потом, преодолев сорок саженей наклонного взлета, душа исчезнет в кроне правого дуба, которую, кстати, добро бы сделать погуще. Там будет клетка с символическим голубем, и Мартин выпустит его. Голубь взмоет вверх, и все.
– И все, остолопы! – заключил Сен-Поль, дважды повторив весь план, смысл и назначение грядущих работ, а заодно и начертав грифелем на лысой макушке холма места для ям и потайных ходов и даже набросав (это уже для самоуспокоения) на земле контур Роланда. – Вот, здесь он будет лежать. Ясно?!
– Ясно, – расцвели в малоосмысленных улыбках остолопы.
– Ну ты-то хоть понял? – спросил Сен-Поль у Жювеля.
– Понял. А не убьется?
Больно он умный, Жювель.
– Если убьется – я тебя этой самой веревкой распилю надвое, – Сен-Поль указал на чудо-вервие Даре. Образ мыслей Жювеля графу очень не понравился. Не понравился, ибо в точности совпал с его собственным.
Сен-Поль уединился на том самом обратном скате холма Святого Бенигния, где намечались фортификационно мудрые «потайные ходы» и, с трудом собирая обрывки распуганных Жювелем мыслей, записал: «Славный император Карл Великий идет войной на сарацинов, истребляет и крестит их семь лет и берет Кордову. Испуганный Марсилий, эмир язычников…»
Землекопы принялись за работу и затянули гнусную песню. «Шибчее, братва, давай-давай!» – ободрял их Жювель ежеминутными вскриками.
Сен-Поль обернулся, собираясь всыпать трудовой капелле по первое число, но когда он уже открыл рот, его удержало одно соображение: молчать для этих работяг означает спать или быть мертвыми. И наоборот – работать значит горлопанить.
Сен-Поль подошел к ним, сообщил, что через час приедет с проверкой, посулил по два су[66] сверху, если они к его возвращению успеют углубиться на длину лопаты, и поехал куда глаза глядят. Графу были необходимы покой и уединение.
«Славный император Карл Великий идет войной на сарацинов, истребляет и крестит их семь лет и берет Кордову. Испуганный Марсилий, эмир язычников, собирает в Сарагосе военный совет. Его приспешник Бланкандрен предлагает откупиться от Карла Великого баснословно богатой данью, чтобы тот ушел обратно во Францию. Марсилий принимает его совет как единственно разумный, ибо воевать против Карла, его отважных рыцарей и, главное, непревзойденного воителя графа Роланда у язычников больше мочи нет.
Сарацинское посольство во главе с Бланкандреном в лагере Карла Великого у стен Кордовы. Пэры Карла Великого обсуждают предложение Марсилия. Все находят его вполне пристойным, ибо уже устали воевать на чужбине, и только племянник короля граф Роланд – против. Решают все же принять предложение Марсилия, а послом с подачи Роланда выдвигают злонаветного Ганелона. К слову сказать, отчима Роланда.
По пути в Сарагосу Ганелон, истово ненавидящий Роланда, и сарацин Бланкандрен сговариваются погубить доблестного графа. Втроем с Марсилием они составляют такой план: принять условия императора Карла, выплатить ему дань и отослать французам своих заложников. Император Карл пойдет домой, а с подачи Ганелона Роланд будет назначен в арьергард войска. И здесь на него нападут тьмы сарацинов.
Все по уговору. Карл уходит во Францию, а Роланд, скрепя сердце, во главе двенадцати пэров и двадцати тысяч наилучших воинов остается держать Ронсевальское ущелье.
Их догоняют четыреста тысяч язычников во главе с Марсилием. Соратник Роланда Оливье просит графа затрубить в могучий рог Олифан, чтобы вызвать на подмогу французское войско во главе с Карлом Великим. Но, ослепленный собственной доблестью, Роланд отказывается взывать к императору о помощи, и случается величайшая битва меж паладинами и неверными, какую только знают хроники, ибо никогда еще не выходило в поле разом столько знатных и достойных бойцов, и никогда еще не было явлено небесам столько отваги и коварства, как в день Ронсеваля. Также в день Ронсеваля надо всей Францией бушевала буря, сверкали молнии, хлестал дождь и просыпался град размером с гусиное яйцо. В некоторых графствах колебалась земля и люди полагали, что настал день Страшного Суда. Они ошибались – то был плач по Роланду.
Свершив десятки достославных подвигов, которые будут явлены взорам на фаблио в наиполнейшем и блистательном великолепии, почти все пэры и прочие воины погибают. Теперь уже сам Роланд предлагает затрубить в Олифан. Но на этот раз возражает Оливье. Он говорит, что теперь было бы бесчестьем звать императора на помощь – ведь их руки уже окровавлены до самых плеч. И он, Оливье, и Роланд погибнут здесь и сегодня. Но архиепископ Турпен, вмешавшись в их спор, все же склоняет Роланда вострубить. Ибо, говорит Турпен, хотя они и погибнут все, но император Карл, явившись на бранное поле, отомстит за их гибель.
Роланд трубит. От натуги у него лопаются виски и уста обагряются кровью. Но его усилия не напрасны. Карл услышал зов Олифана за тридцать миль и ведет войско на помощь Роланду.
Сарацины, заслышав переливы боевых труб французов, ударяются в бегство. Но к этому времени, увы, из христиан в Ронсевальском ущелье живы только трое – граф Роланд, Оливье и архиепископ Турпен, причем все трое при смерти.
Оливье и Турпен испускают дух на руках у Роланда. Граф идет умирать на холм меж двух деревьев. Случайно уцелевший язычник нападает на Роланда, и граф, защищаясь, мозжит ему голову Олифаном. Тем подвигом Роланда и положен предел существованию дивного рога, ибо Олифан раскалывается надвое. Потом Роланд трижды и оттого втройне безуспешно тщится сокрушить могучий Дюрандаль о каменные глыбы, ибо не желает, чтобы столь светлый меч, в рукоять которого вделаны зуб Петра, власы Дениса, кровь Василия и обрывок риз Марии-приснодевы, попал в руки к сарацинам.
Вслед за тем Роланд обращает лицо к Испании, дабы император Карл видел, что граф погиб, но победил в бою, и кается в своих…»
Дальше было еще немало. Нападение мстительного Карла на Сарагосу, истребление неимоверного числа язычников при соответствующей экзекуции их поганых божеств, разоблачение и казнь злонаветного Ганелона. Но таблички закончились.
Утомленный письмом по воску, сам сплошь как воск, Сен-Поль был насильственно вышвырнут из компилятивного транса и в сердцах констатировал по солнцу, теням и острому голоду, что прошел отнюдь не унитарный час, отнюдь не манихейские два, а тринитарные три[67] – вполне в духе «Роланда». Он опаздывает!
Сен-Поль вскочил на ноги. Граф был зол, причем исключительно на самого себя, а это наипоследнее дело. Он, не глядя, всадил стило в ствол дерева, под которым творил либретто, вскочил в седло и погнал коня к холму Святого Бенигния.
– Смотри, какой интересный мужчина, – сказала Гибор в спину стремительно уносящемуся по тропе меж кустов боярышника всаднику.
– Чем же он интересный? – ревниво осведомился Гвискар.
Отношения у них в последнее время неважные. Оба прекрасно понимают, что природа глиняных людей сильнее их, оба знают, что лично из них двоих не виноват никто, и все же. Гвискар склонен обвинять свою морганатическую супругу в бесплодии. Гибор Гвискара – в мужской немочи. Нет, Гвискаров уд по-прежнему исправно распаляется для страсти, но его семя не всходит в богоданных теплицах Гибор. И так не только с нею – это проверено. Далее. Чего стоили семьсот семьдесят семь флорентийских ночей, когда Гибор под предлогом преодоления глиняной природы предавалась беспутству с воистину хтоническим рвением! Но и он, Гвискар, хорош – сколько италийских матрон совращено без толку, сколько алхимических штудий проведено впустую!
Но сейчас ревность Гвискара лишена оснований – когда глаза Гибор смеются так, это означает именно поверхностное ха-ха и точка, а не сто пятьдесят страниц «Любви Свана», открытых плюс-бесконечности.
– Он интересный тем, что у него вся спина в черной саже, – говорит Гибор. – А еще тем, что бежит прочь, бежит в Париж, но пока еще сам не знает этого.
Я не знаю, каким законам подчиняется бургундское фаблио, какие послушники льют воду на эту грандиозную мельницу, откуда в действительности и какие предписания получают люди и предметы. Поверить своим глазам значит купить за грош шелковый отрез длиной в семнадцать миль. Не поверить – значит проснуться. На фаблио в ушах свиристят флейты; флейты, которым послушны хрустальные сферы и пыль под ногами бойцов. Над телом Тристана плачут жаворонки, над сечей парит Сигрдрива.[69]
Я не знаю как устроено фаблио, я знаю лишь каково оно – яблоки сочатся кларетом,[70] поутру на клинках прохладной испариной проступает амбра, забытая в земле стрела прорастает омелой. Когда всадники три часа кряду избивают друг друга молотами и шестоперами, из-под распотрошенных лат брызжет клюквенный морс, а на всю округу разносится смех перепачканных, облизывающих пальчики виконтесс. На бивуаках сарацины жарят быков, а христиане – подсвинков, невольников обносят воблой и чечевичной похлебкой, кенарям подают просо, детям – сахарные головы. Горбатые карлики стоят по струнке, со свечами в три собственных роста, и между ними, как по аллеям камелотского парка, можно гулять так и этак: по левую руку прехорошенькая содержанка, по правую – бывалая сука с четырьмя щенками, сзади – два валета, волокущие корзину с обильной закуской.
Мне никогда не участвовать в фаблио, не понять его. Мой удел – числиться распорядителем и, распоряжаясь, надзирая, обустраивая, с восхищением и тайной завистью подмечать, как через все мои старания на Общественные поля нисходит божественный хаос.
- Карл-император радостен и горд:
- Взял Кордову он штурмом, башни снес,
- Баллистами своими стены смел,
- Всех оделил добычею большой —
- Оружьем, золотом и серебром.
- Язычников там нет ни одного:
- Кто не убит в бою, тот окрещен.[71]
В первый день Мартин, избавленный от каких-либо обязательных повинностей по причине будущего высокого предназначения, разбавлял своим присутствием зрителей, сплошь дам. Их обожательное жужжание, не знающее границ очарование восхищенное не давало ни на миг сосредоточиться на чем-то, самое «что-то» ускользало неуловимое от аналитики и эфики,[72] от попыток прокомментировать видимое в силу собственно нескончаемых посторонних комментариев к тексту-действу, которое и впрямь изумляло, фаблио.
У руин разграбленной Кордовы господа рыцари, докрестив язычников, загрузив трофеями трофейные же подводы, сели в скудной тени олив – к зрительницам достаточно близко, чтобы те внимали им без затруднений, от зрительниц достаточно далеко, чтобы не смущать их бранной вонью, которая, не исключено, для них самое то. По крайней мере, так нашел Мартин, тщетно гадавший, под каким из шикарных армэ,[73] страусиные перья льющих на плечи и спины счастливцев, красные, синие, буйные яичножелтые перья, кичливые метафоры париков и рукодельных букетов, – под каким из жабских забрал кроется кто, под каким – кое-кто, а под каким – никто.
- Промолвил император Карл: «Бароны,
- Прислал гонцов Марсилий Сарагосский».
Карл Великий – не Карл. Значит, как Мартин и думал, граф Шароле – Роланд, нехотя поднявшийся, вальяжно сорвавший маслину и задумчиво сплющивший ее в железных пальцах. Только Карл может вести себя так на военном совете – он играет с публикой, как Карл, он совлекает шлем, как Карл, он отирает лицо услужливо поданным кружевным платком, он говорит: «Марсилию не верьте», и Мартин, вздрогнув от прикосновения чужих пальцев, нежными щипцами ложащихся на его шею, понимает, что Роланд – Луи.
«Роланд – Луи, император – один англичанин, друг герцога Филиппа, и среди пэров Карла тоже нет», – шепчет ему в ухо хозяйка чужих пальцев и теплого дуновения. «Ну и что?» – отстраняется Мартин, смешавшийся и подавленный. «Пойдем поищем», – не отпускает она.
Возле Кордовы действительно делать больше нечего. Ганелон, чья неуклюжесть известна Мартину с младых ногтей, роняет железную перчатку, и огромная стая воронов, скольких не соберешь со всех рыцарских романов, с навязчивым гомоном покидает кроны олив. Все в мире не так, и Мартин сдается.
- Все молвят: «Что же будет, о создатель?
- Посольство это нам сулит несчастье».
- «Увидим», – дядя Дитрих отвечает.
- Сказал король: «Мы речи тратим зря,
- Совету без доверья грош цена.
- Клянитесь же Роланда нам предать».
- Посол сказал: «Охотно клятву дам».
Обитель язычников удалась бургундам под умелым руководством Альфонса Даре на славу. Так всегда – сердце тьмы выходит и живописней, и убедительней, чем парадиз, Аваллон[74] или королевство Артура. Быть может потому, что через него прошли все или почти все (в этом «или» – полные звезд и мишуры бездны еретических теологий), а вот в Элизиуме побывали очень и очень немногие, и уж совсем немногие бодхисатвы отважились из него вернуться (и здесь все религии прискорбно единогласны). Так думал просвещенный Гвискар.
Угольно-черный дворец сарацинов с трех сторон обрамлял жесткий квадрат площади, над которой победительно довлели идолы Аполлена, Тервагана и Магомета,[75] вознесенные на вершину неороманской колонны. В узких окнах дворца то и дело проскакивали багровые языки огня, а из-под земли неслось зловещее бормотание страшно подумать кого. Под колонной на змееногом троне восседал Марсилий в окружении тьмы сарацинов, а перед ним стояли Бланкандрен и Ганелон, предатель библейского масштаба.
И несмотря на то, что все это приторное инферно[76] было похоже на реальную Альгамбру реальных сарацинов как кизяк на шоколадку, замкнутый Гвискар, жизнелюбивая Гибор и еще две сотни зрителей из числа завсегдатаев публичных казней испытывали единый и неподдельный катарсический[77] спазм, в котором смешивались ужас, негодование, трепет и, на правах сопродюсера, – уверенность в конечном торжестве католического воинства над поганскими душегубами, почерпнутая из либретто господина распорядителя.
Когда все было окончено, когда Ганелон, набрав полные седельные сумы иудиных сребреников и сверхсметных шелков, вскочил на коня и погнал его обратно к ставке императора Карла, а язычники, похохатывая, сели точить сабли и зубы на графа Роланда, Гвискар деликатно кашлянул и, обратившись к своему соседу по катарсису, осведомился:
– Простите мне мое праздное любопытство, монсеньор, но, как я мог понять по акценту, в роли главного предателя французских интересов вполне логичным образом выступает англичанин.
Сосед Гвискара, знаменитый дижонский ростовщик Тудандаль – лицо низкого ремесла, категорически лишенное доступа к участию в фаблио, но зато именно в силу специфики своего щепетильного ремесла ведающее о Бургундском Доме и его сателлитах решительно все – разлепил тяжелые персидские губы и снисходительно сообщил:
– Нет, монсеньор. Злонаветный Ганелон – это некто герр Дитрих из Меца.
И, досконально обсосав в своих великолепных губах новый пакет информации, добавил конфиденциальным тоном:
– И вот это уже вправду логично.
Гвискар не до конца понял, что по мнению его собеседника представляется логичным – немецкий генезис Ганелона, мецский генезис Дитриха или равная злонаветность актора и его фаблиозного образа, но переспрашивать не стал.
– Благодарю вас, монсеньор, – учтиво кивнул он Тудандалю. – Вы удовлетворили мое любопытство целиком и полностью.
Тудандаль, который рассчитывал на длинный-предлинный обмен свежими сплетнями, был в глубине души уязвлен умеренностью познавательного аппетита Гвискара и, иронично прищурившись, осведомился:
– В самом деле? Целиком и полностью? А вы знаете, кто его приемный племянник?
– Знаю, – отрезал Гвискар. И поскольку поначалу впечатлявшее замогильное бормотание под сарацинским дворцом теперь, когда перфорированный круг «шумомелодийной клепсидры» Даре пошел на пятнадцатый повтор одного и того же, звучало мучительным мушиным жужжанием, раздраженный Гвискар, не стесняясь, добавил: – И не приведи Господь вам, монсеньор, рассказать мне животрепещущую новость о том, что сей племянник влюблен в Марсилия Сарагосского, который есть Карл, граф Шароле, сын добрейшей герцогини Изабеллы.
Когда мы отыскали Карла, о да, мы, разумеется, милочка, отыскали Карла, он так и сказал, что теперь это будет для него всегда «отыскать Карла», он сказал еще, вдобавок ко всему остальному: «Я убью графа Шароле». Я нашла очень забавным, что такой, такой, я даже затрудняюсь сказать кто, может умышлять против жизни графа Шароле, и как, правда, интересно, это у него выйдет, а он ответил: «Если я скажу тебе как, тогда об этом узнают все, и мне уже не добраться до него никогда». Понимаешь, мы лежали на мягком мху, в укромнейшем местечке, очень далеко от всех остальных, и я очень испугалась. Он мог задушить меня и уйти. А бежать через ночной лес нельзя, и я подумала, что надо самой задушить его, но, понимаешь, вино с корицей, которым поначалу были полны наши бутыли, вновь вспыхнуло во мне, и я нестерпимо, нестерпимо захотела опять найти Карла, я не могла думать о том, чтобы его задушить, да и как задушишь ребенка, пусть он даже не ребенок и собирается убить графа. А утром мы пошли на равнину, где наши бились с маврами, и целый день ели жирных каплунов с перечною подливкой, пили нектар, и когда Мартин глядел на графа, он глядел на него совсем иначе, не так, как раньше, что, впрочем, неудивительно, ведь граф в обличье Марсилия был подлинный дьявол, и когда он клекотал «Je renie Dieu!»[78] и вышибал из седла доброго христианина, все трепетали в ужасе и отвращении. Впрочем – и это меня не удивляет – он тем более затмевал собою всех и даже Роланда, даже Роланда.
Мысли totally fucked up Мартина, доселе сложные и витийствующие, как маргинальные кущи, как наречие геральдики, нерасчленимые, неназываемые, переходящие одна в другую и истекающие из предшествующей в последующую лишь с тем, чтобы повернуть вспять и обратить мысль в чувствование и недеяние, отлились в совершеннейших сферических формах и более не перевоплощались.
Земля под ногами была липкой от крови. Господа рыцари графа Роланда и тьмы сарацинов шесть часов кряду пырялись ножичками. Французов постепенно теснили к холму Святого Бенигния. Мертвецы, в синяках и ссадинах, непритворно охающие, валялись под всеми оливами, наконец-то разоблаченные, довольные, принимали от зрительниц подношения венками и целебными пилюлями.
Роланд в очередной раз описал Дюрандалем поэтическую дугу и
- К Шерноблю скакуна галопом гонит.
- Шлем, где горит карбункул, им раздроблен.
- Прорезал меч подшлемник, кудри, кожу,
- Прошел меж глаз середкой лобной кости,
- Рассек с размаху на кольчуге кольца
- И через пах наружу вышел снова,
- Пробил седло из кожи золоченой,
- Увяз глубоко в крупе под попоной.
Усталый счастливец псевдо-Шернобль, наконец-то разрубленный от темени до паха, обрастая шлейфом оруженосцев, женщин, попрошаек и Бог весть кого еще, поплелся на отдых.
Пора было приниматься за свое.
– Не обратиться ли нам вновь к уединению? – прошептал Мартин в плечо своей госпоже, оголенное и кому-нибудь в самом деле соблазнительное.
А потом он вдруг исчез, веришь? Пропал, растворился, я не знаю.
Чем, чем, чем писать? Чем? Мартин брел среди дробной и частой россыпи вздорных бугров, выбеленных цветущим боярышником. Здесь не было никого. «И ничего», – присовокупил он, устав вглядываться в заросли, теряя надежду найти искомый скриптор.[79]
Ему повезло, ибо фаблио.
В вяз, раскрашенный молнией в сотни переливчатых оттенков черного, был вонзен тончайший стальной грифель, какие уже не в ходу, ибо все саги давно записаны, а все цезари давно зарезаны.
Не менее получаса Мартин потратил на составление своей печальной истории в подобающем духе, небрегая гудением пчел, голодом, любовным зудом, некстати ударившим в чресла и преодоленным благодаря сферическому образу мыслей.
Убить Карла необходимо, ибо любить его более невозможно.
Мартин вложил свое послание в берет, засунул берет под голову вместо подушки и закололся грифелем.
Сен-Поль, господин распорядитель, присел на корточки и макнул пальцы в темную лужицу. Клюквенный морс? Малиновый сироп? Киноварь? Он посучил пальцами, перетирая пробу, понюхал, пожал плечами, лизнул.
Черт, настоящая.
Господин распорядитель вскочил на ноги и нервно прошелся – три шага назад, два шага вперед.
Ему через час воспарять душой Роланда, а он дрыхнет с железякой в груди и изволит быть мертвым помимо фаблио. Я отрицаю ботинки, каблуки, подошвы,[80] сапоги, хрустальные туфельки, пояса девственности, бутылки, брудершафт и заколотое тело в кустах боярышника.
Сен-Поль пощупал горло Мартина. Холодное, биения нет. На устах немецкая тонкогубая ухмылочка. Ангелов видишь, да?
В самом деле красивый – сбивая щелчком с Мартинова неодушевленного носа жука-мертвоеда, согласился Сен-Поль, все еще не решаясь заглянуть в будущее, где громыхали чугунные жернова неопределенных и множественно-вероятных последствий.
Распорядитель поцеловал Мартина в улыбку – так, на память.
- Граф головою на плечо поник
- И, руки на груди сложив, почил.
- К нему слетели с неба херувим
- И на водах спаситель Михаил
- И Гавриил-архангел в помощь им.
- В рай душу графа понесли они.
Разряженный в златотканые свободные одежды с парой блещущих жемчугами крыльев Мартин возносился в рай на тончайших во имя скрытности, крашеных несравненным мастером Даре Арльским под тон вечернего неба талях,[81] каковые невежественный дижонский двор прозвал «веревками-невидимками».
– Глядите, глядите! Душа Роланда!
– Господи свят, ты есть!
– Несравненно!
– Бесподобно!
– Виват!
– Бургундия!