Столпы земли Фоллетт Кен
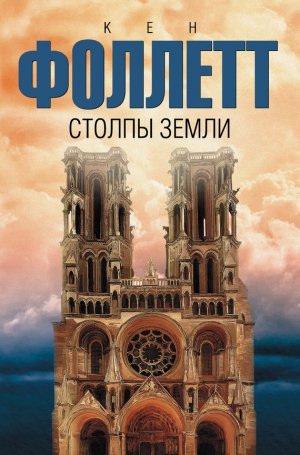
– А ел ли ты?
– Завтракал.
– И надеешься, что будешь обедать?
– Надеюсь.
– Большинство людей в твоем возрасте от зари до зари надрываются в поле, чтобы заработать на завтрак и обед, и несмотря ни на что, они отдают часть своего хлеба тебе! Знаешь, почему они делают это?
– Знаю, – проговорил Уильям, глядя в землю и переступая с ноги на ногу.
– Говори же.
– Они делают это, потому что хотят, чтобы монахи за них молились.
– Верно. Трудолюбивые крестьяне дают тебе и хлеб, и мясо, и теплое жилье, а ты так утомился, что нет сил ради них спокойно отсидеть торжественную мессу!
– Извини, брат.
Филип пристально смотрел на Уильяма. Ничего страшного тот не совершил. Во всем виноваты старшие, которые смотрели сквозь пальцы на поведение молодых монахов в церкви.
– Если тебя утомляют службы, почему ты стал монахом? – спокойно спросил Филип.
– Я у отца пятый сын.
Филип кивнул.
– И без сомнения, он дал монастырю участок земли, чтобы тебя приняли?
– Да, целое хозяйство.
Обычная история: человек, у которого было слишком много сыновей, одного из них отдавал Богу, а чтобы Господь не отверг его дар, еще и присовокуплял часть своей собственности, достаточную для поддержания скромного бытия будущего монаха. Не все молодые люди, по этой причине отдаваемые в монастырь, были склонны к такой жизни, и потому они вели себя порой из рук вон плохо.
– А что, если тебя перевести отсюда в какой-нибудь скит или, скажем, в мою скромную обитель Святого-Иоанна-что-в-Лесу, где нужно много трудиться на воздухе и гораздо меньше времени молиться? Может, тогда во время литургии ты станешь испытывать должные чувства?
Лицо Уильяма вспыхнуло.
– Да, брат, мне кажется, смогу.
– Мне тоже так кажется. Я подумаю, что можно сделать. Но не слишком радуйся – возможно, нам придется подождать, пока у нас не будет нового приора, и уже его просить о твоем переводе.
– Все равно, благодарю тебя!
Служба закончилась, и монахи друг за другом покидали церковь. Филип приложил палец к губам, тем самым давая понять, что разговор окончен. Когда вереница монахов проследовала через южный придел, Филип и Уильям присоединились к процессии и вышли в крытую галерею, примыкавшую к южной стороне нефа. Там строй монахов распался, и они разбрелись кто куда. Филип направился было на кухню, но ризничий преградил ему дорогу. Он стоял перед ним в агрессивной позе – расставив ноги, руки на бедрах.
– Брат Филип.
– Брат Эндрю, – отозвался Филип, недоумевая: «Что это он задумал?»
– Ты зачем сорвал торжественную мессу?
Филип был ошеломлен.
– Сорвал?! – воскликнул Филип. – Юноша вел себя безобразно. Он…
– Я сам в состоянии разобраться с нарушителями дисциплины на моих службах! – повысил голос Эндрю. Монахи остановились и наблюдали за их объяснением.
Филип не мог понять, из-за чего сыр-бор. Обычно во время служб старшие братья следили за поведением молодых монахов и послушников, и ему не было известно правила, согласно которому это мог делать только ризничий.
– Но ты не видел, что происходило… – заговорил Филип.
– Может, и видел, но решил разобраться с этим позже.
– В таком случае что же ты видел? – с вызовом спросил Филип.
– Как ты смеешь задавать мне вопросы?! – заорал Эндрю. Его красное лицо приобрело фиолетовый оттенок. – Ты всего лишь приор захудалой лесной обители, а я здесь уже двенадцать лет ризничий и буду вести соборные службы так, как считаю нужным, без участия всяких чужаков, которые к тому же вдвое младше меня!
Филип начал думать, что был неправ, – иначе почему Эндрю так взбесился? Но сейчас важнее было прекратить спектакль, разыгранный перед другими монахами. Филип подавил в себе гордость, покорно склонил голову и, стиснув зубы, произнес:
– Признаю свою ошибку, брат, и смиренно прошу простить меня.
Эндрю был взвинчен, намеревался продолжить перебранку, и поспешное отступление противника его разочаровало.
– И чтобы больше это не повторялось! – рявкнул он.
Филип промолчал. Последнее слово должно остаться за Эндрю, и любое замечание со стороны Филипа вызовет бурную ответную реакцию. Он стоял, опустив глаза и прикусив язык, в то время как Эндрю еще несколько секунд свирепо на него взирал. Наконец ризничий повернулся на каблуках и с гордо поднятой головой пошел прочь.
Братья уставились на Филипа. Он чувствовал себя униженным, но нужно было снести это, ибо гордый монах – плохой монах. Не проронив ни слова, он покинул галерею.
Опочивальня располагалась к юго-востоку от собора, а трапезная – к юго-западу. Филип пошел на запад и, пройдя трапезную, очутился неподалеку от гостевого дома и конюшни. Здесь, в юго-западном углу монастырской территории, кухонный двор с трех сторон окружали трапезная, кухня и пекарня с пивоварней. Во дворе в ожидании разгрузки стояла телега, доверху наполненная репой. Филип взошел на крыльцо кухни и открыл дверь.
Воздух был горячим и тяжелым от запаха готовящейся рыбы; то и дело гремели сковороды и раздавались приказания. Трое раскрасневшихся от жары и спешки поваров с помощью шести или семи подручных готовили обед. В двух огромных очагах, находившихся в разных концах помещения, полыхало пламя. Возле очагов, обливаясь потом, стояли мальчики, поворачивавшие вертела с нанизанной на них жарящейся рыбой. Филип сглотнул слюну. В огромном чугунном котле, подвешенном над огнем, варилась морковь. Двое молодцов, стоявших у деревянного чурбана, резали толстыми ломтями здоровенные – длиною в ярд – буханки белого хлеба. За всем этим кажущимся хаосом наблюдал брат Милиус, монастырский повар, ровесник Филипа. Он сидел на высокой скамье, невозмутимо смотрел на кипевшую вокруг работу, и его лицо выражало удовлетворение. Милиус приветливо улыбнулся Филипу и сказал:
– Спасибо за сыр.
– А… да. – С тех пор как Филип приехал, так много всего произошло, что он уже забыл об этом. – Он изготовлен из молока утренней дойки и имеет особенно нежный вкус.
– У меня уже слюнки текут. Но я вижу, ты печален. Случилось что-нибудь?
– Ничего особенного. Немного повздорил с Эндрю. – Филип взмахнул рукой, словно отгоняя ризничего. – Можно мне взять из очага горячий камень?
– Конечно.
На кухне всегда имелось несколько раскаленных булыжников, которые использовали, когда нужно было быстро разогреть небольшое количество воды или супа.
– Брат Поль обморозил ноги на мосту, а Ремигиус не дает ему дров, развести костер. – Щипцами с длинными ручками Филип выхватил из огня нагретый камень.
Милиус открыл шкаф и вытащил оттуда кусок старой кожи, который когда-то был фартуком.
– Вот, заверни.
– Благодарю. – Филип положил камень на середину кожи и, взявшись за концы, осторожно поднял.
– Поторопись, – сказал Милиус. – Обед уже готов.
Филип вышел из кухни, пересек двор и направился к воротам. Слева, у западной стены, стояла мельница. Много лет назад был вырыт канал, который начинался выше по течению реки и обеспечивал водой мельничную запруду. Затем вода бежала по подземному руслу к пивоварне, на кухню, к фонтанчику в соборной галерее, где монахи мыли перед едой руки, и наконец к отхожему месту рядом с опочивальней, после которого канал поворачивал на юг и устремлялся к реке, возвращая ей воду. Должно быть, один из первых приоров монастыря обладал настоящим инженерным талантом.
Возле конюшни Филип заметил кучу грязного сена – это конюхи, исполняя его приказание, вычищали стойла. Он миновал ворота и через деревню направился к мосту.
«Имел ли я право делать выговор Уильяму Бови?» – спрашивал себя Филип, проходя мимо деревенских лачуг. Подумав, он решил, что имел. Было бы неправильно не замечать столь безобразного поведения во время службы.
Он подошел к мосту и заглянул в будку Поля.
– Вот, возьми, погрейся, – сказал он, протягивая завернутый в кожу раскаленный камень. – Когда остынет, разверни кожу и поставь ноги прямо на него. До ночи тепла должно хватить.
Брат Поль был чрезвычайно тронут. Сбросив сандалии, он не мешкая прижал ступни к теплому свертку.
– Я чувствую, как боль уже отпускает… – блаженно улыбаясь, проговорил он.
– Если ты на ночь положишь камень обратно в очаг, к утру он снова будет горячим.
– А брат Милиус разрешит? – нерешительно спросил Поль.
– Можешь не сомневаться.
– Ты очень добр ко мне, брат Филип.
– Пустяки, – ответил Филип и, чтобы не выслушивать далее бурных благодарностей Поля, поспешно вышел. В самом деле, это был всего лишь горячий камень.
Он вернулся в монастырь, обмыл в каменной чаше руки и вошел в трапезную. Один из монахов, стоя у аналоя, вслух читал из Священного Писания. Во время обеда должна была соблюдаться полная тишина, но сорок с лишним обедающих монахов производили постоянный приглушенный шум, к которому, вопреки правилу, примешивался еще и громкий шепот. Филип скользнул на свободное место за длинным столом. Сидевший рядом монах с аппетитом поглощал пищу. Поймав взгляд Филипа, он прочавкал:
– Сегодня свежая рыба.
Филип кивнул. Он видел, как ее жарили на кухне. От голода у него бурчало в животе.
– Я слышал, – прошептал монах, – вы у себя в лесной обители каждый день едите свежую рыбу. – В его голосе звучала зависть.
Филип покачал головой:
– Через день у нас птица.
Монах угрюмо посмотрел на него и заметил:
– А здесь соленая рыба шесть раз в неделю.
Слуга положил перед Филипом толстый ломоть хлеба, а на него – рыбу, благоухавшую приправами. Филип достал нож и собрался было наброситься на еду, но тут, указывая на него перстом, из-за дальнего конца стола поднялся монах, отвечавший за дисциплину в монастыре. «Что на этот раз?» – подумал Филип.
– Брат Филип! – строго сказал монах.
Все перестали есть, и трапезная погрузилась в тишину. Филип застыл с занесенным над рыбой ножом и выжидательно поднятыми глазами.
– Правило гласит: опоздавшие лишаются обеда, – проговорил монах.
Филип вздохнул. Казалось, сегодня он все делал не так. Он положил нож, вернул слуге хлеб с рыбой и, склонив голову, приготовился слушать чтение Священного Писания.
После обеда был час отдыха. Филип зашел в расположенную над кухней кладовую поговорить с Белобрысым Катбертом, монастырским келарем. Кладовая представляла собой большое, темное помещение с низкими, толстыми колоннами и крохотными окошками. Воздух был сухой, наполненный запахом хранившихся там продуктов: хмеля и меда, яблок и сушеных трав, сыра и уксуса. Здесь всегда можно было найти брата Катберта, ибо работа не оставляла ему времени на церковные службы, что ничуть его не огорчало, – келарь был умным, вполне земным человеком и не испытывал особого интереса к духовной жизни. В задачу Катберта входило обеспечение монахов всем необходимым, сбор произведенных в принадлежащих монастырю хозяйствах продуктов и закупка на базаре всего того, чем монахи и их наемные работники не могли сами себя обеспечить. У Катберта имелись два помощника: Милиус, повар, отвечавший за приготовление пищи, и постельничий, который следил за сохранностью одежды и белья монахов. Формально под началом келаря работали еще трое, хотя, по сути, они не зависели от него: смотритель гостевого дома, лекарь, который ухаживал за престарелыми и больными в монастырской больнице, и раздатчик милостыни. Даже при наличии помощников забот у Катберта было предостаточно, и все свои дела он старался держать в голове, считая недопустимым тратить на это пергамент и чернила. Правда, Филип подозревал, что он так и не выучился как следует ни читать ни писать. В молодости у Катберта имелись белые волосы – отсюда и прозвище Белобрысый, – но сейчас ему было за шестьдесят, и у него остались только те волосы, что росли густыми светлыми пучками из ушей и ноздрей. Так как в своем первом монастыре Филип сам был келарем, он хорошо понимал проблемы Катберта и сочувственно слушал его ворчбу. А потому и Катберт любил Филипа. Зная, что тот остался без обеда, старый келарь вытащил из бочки полдюжины груш, которые слегка сморщились, но все же были очень вкусны, и Филип с благодарностью ел их, а Катберт брюзжал.
– Никак не возьму в толк, откуда у монастыря долги, – пережевывая грушу, изрек Филип.
– Их и не должно быть! – с горечью воскликнул Катберт. – Монастырь владеет большими землями и собирает десятины с большего количества приходов, чем когда бы то ни было.
– Тогда почему мы не богатеем?
– Ты знаешь нашу систему – монастырская собственность делится главным образом между монахами, выполняющими определенное послушание. У ризничего своя земля, у меня своя, несколько меньше наделы у учителя, смотрителя гостевого дома, лекаря и раздатчика милостыни. Все остальное принадлежит приору. И каждый использует прибыль, получаемую от его собственности, на выполнение своих обязанностей.
– Ну и что в этом плохого?
– Но всей этой собственностью надо управлять. К примеру, представь, что у нас есть земля и мы за денежки сдаем ее в аренду. Мы ведь не должны отдавать ее любому встречному-поперечному, лишь бы получить побольше монет. Нам надо постараться найти рачительного хозяина и постоянно следить за ним, чтобы быть уверенным, что он обрабатывает полученный надел должным образом, в противном случае пастбища будут заболочены, почва истощится и арендатор, не будучи в состоянии платить ренту, вернет землю назад, но уже в непригодном состоянии. Или возьми фермы, на которых работают наши батраки и которые управляются монахами: если их оставить без присмотра, монахи, обленившись, предадутся пороку, батраки начнут воровать, а сами хозяйства с годами будут производить все меньше. Даже церковные сооружения требуют постоянного ухода. Мы не можем просто собирать десятину. Мы должны поставить во главе себя достойного священника, знающего латынь и ведущего праведный образ жизни. Иначе люди отвернутся от Бога, будут заключать браки, рожать детей и умирать без благословения Церкви и начнут уклоняться от уплаты десятины.
– Монахам следует с большим радением относиться к тому, что они имеют, – заключил Филип, покончив с последней грушей.
Катберт нацедил из бочки чашку вина.
– Следует, но не тем заняты их головы. Ну скажи, что может знать наш учитель о земледелии? С какой это стати лекарь должен быть еще и способным управляющим? Конечно, сильный приор мог бы заставить их лучше вести хозяйство… до некоторой степени. Но в течение последних тринадцати лет мы имели слабого приора, и теперь у нас нет денег даже на то, чтобы отремонтировать собор, шесть раз в неделю мы питаемся соленой рыбой, школа почти опустела, и не видно больше в монастыре гостей.
В мрачном молчании Филип потягивал свое вино. Нелегко было сохранять спокойствие, видя, как разбазаривается то, что должно служить Богу. Ему хотелось схватить виновного и трясти его, пока тот не придет в чувство. Но главный виновник лежал теперь в гробу перед алтарем. И все же проблеск надежды существовал.
– Скоро у нас будет новый приор, – сказал Филип. – Он должен направить дела на путь истинный.
Катберт насмешливо посмотрел на него.
– Ремигиус? Направит на путь истинный?
Филип не сразу понял, что имеет в виду старый келарь.
– Неужели Ремигиус собирается стать приором?
– Похоже на то.
Филип опешил.
– Но он ничуть не лучше приора Джеймса! Неужели братья его изберут?
– Они с подозрением относятся к чужакам и поэтому не станут голосовать за того, кого не знают. Отсюда следует, что приором должен стать один из нас. А Ремигиус – помощник приора, старший из здешних монахов.
– Но ведь нет такого правила, что мы должны выбирать самого старшего монаха, – возразил Филип. – Можно и кого-нибудь другого. Тебя, например.
– Меня уже спрашивали, – кивнул Катберт. – Я отказался.
– Но почему?
– Я старею, Филип. Мне не справиться ни с какой другой работой, кроме той, к которой я так привык, что могу выполнять ее почти не задумываясь. На большее я не способен. У меня не хватит сил вернуть к жизни этот хиреющий монастырь. В конце концов, я стал бы не лучше Ремигиуса.
Филип все не мог с этим согласиться.
– Но есть другие – ризничий, смотритель гостевого дома, учитель…
– Учитель слишком стар и еще более немощен, чем я. Смотритель гостевого дома – лодырь и к тому же пьяница. А ризничий с надзирателем будут голосовать за Ремигиуса. Почему? Не знаю, но могу догадаться – в награду за поддержку Ремигиус обещал сделать первого помощником приора, а второго – ризничим.
Филип тяжело опустился на мешки с мукой.
– Ты хочешь сказать, что Ремигиус уже всех обработал и ничего нельзя сделать?
Катберт ответил не сразу. Он встал и прошел в другой конец кладовой, где в ряд стояли приготовленные им корыто, полное живых угрей, ведро с чистой водой и бочка, на треть заполненная рассолом.
– Помоги-ка мне, – прокряхтел он, вынимая нож. Катберт извлек из корыта извивающегося угря, стукнул его головой о каменный пол, выпотрошил и передал слегка подергивавшуюся рыбу Филипу. – Вымой его в ведре и брось в бочку. Во время великого поста это поможет нам утолить голод.
Филип осторожно ополоснул полумертвого угря и бросил в соленую воду.
Выпотрошив следующего, Катберт проговорил:
– Есть еще одна возможность: претендент, который мог бы стать настоящим приором-реформатором и чей сан, хотя и ниже помощника приора, равен ризничему или келарю.
Филип опустил угря в ведро.
– Кто же это?
– Ты.
– Я?! – От удивления Филип выронил следующего угря на пол. Да, он действительно являлся приором обители, но никогда не считал себя равным ризничему и другим прежде всего потому, что они были гораздо старше. – Но я слишком молод…
– Подумай об этом, – сказал Катберт. – Всю жизнь ты провел в монастырях. В двадцать один год был келарем. Уже четыре или пять лет ты приор небольшого монастыря, и ты его преобразил. Каждому ясно, что на тебе длань Божия.
Филип подобрал выскользнувшего угря и бросил в бочку.
– Длань Божия на всех нас, – уклончиво произнес он. Предложение Катберта его озадачило. Ему очень хотелось, чтобы в Кингсбридже был энергичный приор, но он не собирался претендовать на эту роль. – По правде говоря, из меня получился бы лучший приор, чем из Ремигиуса, – добавил он задумчиво.
Катберт был доволен.
– Если ты в чем и виноват, то только в том, что абсолютно невинен.
Филип таковым себя не считал.
– Что ты имеешь в виду?
– Ты никогда не ищешь в людях низменных побуждений, как делает большинство из нас. Например, все в монастыре убеждены, что ты являешься претендентом и приехал сюда домогаться их голосов.
– Почему они так решили? – возмущенно спросил Филип.
– А ты постарайся взглянуть на свое поведение глазами людей, привыкших всех и вся подозревать. Ты прибыл в день смерти приора Джеймса, словно кто-то тайно известил тебя о ней.
– И как же, по их мнению, я все это подстроил?
– Они не знают, но убеждены, что ты умнее их. – Катберт вновь принялся потрошить рыбу. – И посмотри, что ты сегодня сделал. Едва приехав, распорядился вычистить конюшню. Затем навел порядок во время торжественной литургии, завел разговор о переводе молодого Уильяма Бови в свою обитель, когда всем известно, что перевод монахов из одного места в другое – привилегия приора. Ты отнес брату Полю горячий камень, тем самым косвенно осудив Ремигиуса. И наконец, отдал на кухню божественный сыр, и все мы полакомились им после обеда, и, хотя никто не сказал, откуда он, каждый знает, что такой чудесный вкус может быть только у сыра из Святого-Иоанна-что-в-Лесу.
Филипа смутило, что его действия были столь превратно истолкованы.
– Все это мог сделать кто угодно.
– Кто угодно из старших монахов мог бы сделать что-нибудь одно, но ни один не сделал бы всего этого. Ты пришел и стал распоряжаться! По сути, ты уже начал преобразование монастыря. И конечно, Ремигиус и его присные уже сопротивляются. Поэтому-то ризничий Эндрю и отчитал тебя в галерее.
– Ах вот в чем причина! А я-то не мог понять, что это на него нашло. – Филип в задумчивости полоскал угря. – И я полагаю, по этой же причине мне было отказано в обеде.
– Точно! Чтобы унизить тебя перед другими монахами. Однако я подозреваю, что эти действия возымели обратный результат: ни одно из порицаний не было оправданным, и тем не менее ты достойно их принял. У тебя был вид истинного праведника.
– Но я делал это не для того, чтобы произвести впечатление.
– Истинные праведники тоже так поступали… Однако звонят к вечерне. Оставь угрей, а сам ступай в церковь. После службы будет час раздумий и многие братья, уверен, захотят с тобой побеседовать.
– Не так скоро! – взволнованно произнес Филип. – Только потому, что кто-то решил, что я хочу стать приором, еще не значит, что я действительно собираюсь бороться за это место. – Перспектива принять участие в выборах в качестве одного из кандидатов его страшила, к тому же он не был уверен, что готов бросить свою преуспевающую обитель и взвалить на себя проблемы Кингсбриджского монастыря. – Мне требуется время, чтобы подумать.
– Я знаю. – Катберт распрямился и взглянул Филипу в глаза. – Когда будешь думать, пожалуйста, помни: чрезмерная гордыня – это, конечно, грех, но как бы чрезмерная скромность не расстроила то, на что есть воля Божия.
Филип кивнул.
– Буду помнить. Благодарю тебя.
Выйдя от старого келаря, он поспешил в церковь. В его душе бушевала буря, когда он присоединился к входящим в храм монахам. Мысль о том, что он может стать приором Кингсбриджа, волновала его. Многие годы в нем кипела злость на бездарное руководство монастырем, и вот теперь появился шанс самому все исправить. Но сможет ли он? Дело не в том, чтобы выявить недостатки и распорядиться их исправить. Нужно убедить людей, правильно организовать хозяйство, найти средства. Тяжелая ответственность ляжет на его плечи.
Как всегда, служба подействовала на него умиротворяюще. На этот раз монахи были спокойны и торжественны. Слушая знакомые слова молитвы, он снова почувствовал себя способным ясно мыслить.
«А хочу ли я быть приором Кингсбриджа?» – спрашивал он себя и тут же отвечал: «Да!» Взять под свою опеку этот разваливающийся храм, отремонтировать его, покрасить, наполнить пением сотен монахов и голосами тысячи прихожан, читающих «Отче наш», – да ради одного этого стоит желать места приора. А монастырское хозяйство, которое необходимо преобразовать, вдохнуть в него жизнь, снова сделать крепким и продуктивным? Филипу хотелось видеть в монастыре целую толпу мальчишек, обучающихся читать и писать, гостевой дом, полный света и тепла, чтобы лорды и епископы приезжали сюда и привозили драгоценные подарки. Да, он хотел быть приором Кингсбриджа.
«Что еще двигает мною? – вопрошал Филип. – Когда я представляю себя в роли приора, делающего все это во славу Божию, есть ли гордыня в моем сердце? О да».
Он не мог обманывать себя, находясь в святой Церкви. Его цель – слава Божия, но и собственная слава тоже была желанна. Он вообразил, как будет отдавать приказы, коих никто не посмеет ослушаться, по своему усмотрению принимать решения, отправлять правосудие, карать и миловать. Он представил, как люди будут говорить: «Это Филип из Гуинедда преобразовал монастырь. До него здесь был сплошной срам, а посмотрите, что теперь!»
«Но я обязан быть сильным приором, – рассуждал он. – Бог дал мне ум, чтобы я мог управлять хозяйством и вести за собой людей. Как келарь Гуинедда и как приор Святого-Иоанна-что-в-Лесу я уже доказал, что это мне по плечу. И монахи довольны. В моей обители старики не мерзнут, а молодые не маются от безделья. Я забочусь о людях».
С другой стороны, трудно сравнивать Гуинедд или Святого-Иоанна-что-в-Лесу с Кингсбриджским монастырем. Дела в Гуинедде всегда шли хорошо. В лесной же обители действительно были проблемы, но она крохотная, и ею несложно управлять. А преобразовать Кингсбридж может лишь человек, сильный, как Геркулес. Потребуются недели, чтобы только разобраться в монастырском хозяйстве: сколько имеется земли, и где, и что за земля – леса ли, пастбища или пшеничные поля. Навести порядок в разбросанных угодьях, собрать их в одно целое – это работа на годы. Здесь не лесная обитель, где от Филипа только и требовалось, что заставить дюжину монахов усердно работать да истово молиться.
«Ладно, – признал Филип, – мотивы мои зыбки, а возможности сомнительны. Может, мне стоит отказаться. По крайней мере, я буду спокоен, что не поддался гордыне. Но что имел в виду Катберт, говоря, что чрезмерная скромность может расстроить то, на что есть воля Божия?
И кто же Богу угоден? Ремигиус? Но возможностей у него не больше, чем у меня, а его помыслы не чище. Есть ли другой претендент? В настоящее время нет. Пока Господь не укажет на кого-то третьего, надо признать, что выбирать придется лишь между мной и Ремигиусом. Ясно, что Ремигиус будет руководить так же, как он делал это, пока приор Джеймс был болен, другими словами, пребывать в безделье и беспечности, позволяя монастырю приходить во все большее запустение. А я? Я полон честолюбивых помыслов, и хотя способности мои неизвестны, приложу все силы, чтобы преобразовать это святое место, а если Бог даст мне силы, я смогу это сделать.
Что ж, – сказал он, обращаясь к Богу, когда служба подошла к концу, – я принимаю вызов и буду бороться изо всех сил, и, если почему-либо стану неугодным Тебе, Господи, только в Твоей воле будет меня остановить».
Хотя Филип провел в монастырях уже двадцать один год, на его памяти впервые после смерти старого приора происходили выборы на его место нового. Это было единственное событие в монастырской жизни, когда от братьев не требовалось послушания – во время голосования все они становились равными.
Когда-то, если верить преданиям, монахи были равными во всем. Однажды несколько человек решили отказаться от мирских страстей и построить в лесной глуши храм, где смогли бы прожить свою жизнь в молитвах Господу Богу и самоотречении. Они расчистили лес, осушили болото, возделали землю и вместе построили церковь. В те дни они действительно были как братья. Приор считался всего лишь первым среди равных, и все они давали обет следовать завету Святого Бенедикта, а не приказам монастырских чинов. И единственное, что теперь осталось от той изначальной демократии, это процедура избрания приора или аббата.
Некоторые монахи не знали, как поступить, и просили, чтобы им подсказали, за кого голосовать, или предлагали поручить решение этого вопроса совету старейшин. Другие, обнаглев, старались воспользоваться случаем и требовали себе всяческих льгот в обмен на поддержку. Большинство же горели желанием наконец поучаствовать в принятии решения.
В тот вечер Филип говорил со многими, откровенно поведав, что хотел бы занять место приора, ибо чувствует, что, несмотря на молодость, справится с этой обязанностью лучше Ремигиуса. Он ответил на их вопросы, как правило, касавшиеся питания. Все беседы он неизменно заканчивал словами: «Если каждый, помолясь, примет обдуманное решение, Господь нас не оставит». Он и сам в это верил.
– Наша берет, – сказал Милиус на следующее утро, когда они с Филипом завтракали грубым хлебом и пивом, в то время как помощники повара разводили в очагах огонь.
Филип откусил большой кусок темного хлеба, смочив его добрым глотком пива. Милиус был остроумным, энергичным человеком, протеже Катберта и сторонником Филипа. Прямые темные волосы обрамляли его небольшое, с четкими правильными чертами лицо. Как и Катберт, он был рад, что имеет возможность пропускать большинство служб, предпочитая служить Богу практическими делами. Филип с сомнением отнесся к его оптимизму.
– Каким же образом ты пришел к такому выводу? – скептически спросил он.
– Все люди Катберта – постельничий, лекарь, наставник послушников, ну и я – поддержат тебя, ибо нам известно, что ты знаешь толк в хозяйственных делах, а проблема снабжения продовольствием сейчас стоит очень остро. Да и многие другие монахи будут голосовать за тебя по этой же причине: они уверены, ты лучше сможешь справиться с монастырским хозяйством, что в результате скажется на питании.
Филип нахмурился.
– Я бы не хотел никого вводить в заблуждение. Своей первейшей задачей я считаю восстановление церкви и улучшение ведения службы. Это важнее телесной пищи.
– Все верно, и они это знают, – поспешно заговорил Милиус. – Вот поэтому-то смотритель гостевого дома и кое-кто еще будут на стороне Ремигиуса – им больше по душе безделье и спокойная жизнь. Кроме того, его поддержат дружки, которые надеются получить новые должности, – ризничий, надзиратель, хранитель монастырской казны и прочие. Регент хора – приятель ризничего, но, думаю, его можно перетащить на нашу сторону, особенно если пообещать ввести должность хранителя книг.
Филип кивнул. Заботой регента была музыка, и он считал, что присматривать за книгами – вовсе не его дело.
– Это хорошая мысль, – подхватил Филип. – Чтобы собрать собственную библиотеку, нам нужен хранитель.
Милиус встал и принялся точить кухонный нож. Энергия из него била ключом, и ему необходимо было чем-то занять руки.
– В голосовании примут участие сорок четыре монаха, – рассуждал Милиус. – По моему разумению, восемнадцать за нас, десять с Ремигиусом, а шестнадцать пока не определились. Чтобы получить большинство, нам надо набрать двадцать три голоса. Это значит, ты должен склонить на свою сторону еще пятерых.
– Когда ты так говоришь, все кажется очень просто, – сказал Филип. – А сколько у нас времени?
– Трудно сказать. Когда проводить выборы, решают братья, но, если мы проведем их слишком рано, епископ может отказаться утвердить нашего избранника. А если будем тянуть, он решит сам определить дату. Кроме того, у него есть право назначить своего претендента. Правда, сейчас он, возможно, еще не получил известие о смерти старого приора.
– В таком случае время еще есть.
– Да. И как только убедимся, что у нас большинство, возвращайся в свою обитель и оставайся там, пока все не закончится.
– Почему? – удивился Филип.
– Близкое знакомство может породить неуважение. – Милиус энергично взмахнул отточенным ножом. – Прости меня, если мои слова звучат обидно, но ты сам спросил. Сейчас ты вроде бы окружен ореолом безгрешности, особенно для нас, молодых монахов. В своей скромной обители ты сотворил чудо, вдохнув в нее жизнь и сделав ее самостоятельной. Ты сторонник строгой дисциплины, но ты сытно кормишь своих монахов. Ты прирожденный вождь, но можешь покорно склонить голову и снести укор, словно молоденький послушник. Ты знаешь Священное писание и умеешь делать лучший в стране сыр.
– А ты не преувеличиваешь?
– Слегка.
– Поверить не могу, что у людей сложилось обо мне такое мнение. Да это же неестественно!
– Конечно, – согласился Милиус, слегка пожав плечами. – И это впечатление развеется, как только они узнают тебя ближе. Если ты здесь останешься, они могут в тебе разочароваться. Они увидят, как ты ковыряешь в зубах и чешешь задницу, услышат, как ты храпишь, и узнают, каков ты есть, когда у тебя плохое настроение, или тебя снедает гордыня, или у тебя болит голова. Не стоит этого допускать. Пусть они видят, как Ремигиус каждый день совершает все новые ошибки, в то время как твой образ будет оставаться сияющим и совершенным.
– Но я так не хочу! – обеспокоенно воскликнул Филип. – В этом есть что-то бесчестное.
– Ничего бесчестного здесь нет, – возразил Милиус. – Это трезвое рассуждение о том, как славно, будучи приором, ты смог бы послужить Богу и монастырю и как плохо управлял бы Ремигиус.
Филип покачал головой.
– Я не стану притворяться ангелом. Хорошо, я уеду – так или иначе мне нужно вернуться в лес. Но мы обязаны быть откровенны с братьями. Они должны знать, что выбирают обыкновенного человека, которому свойственно ошибаться и которому нужны будут их помощь и их молитвы.
– Вот это им и скажи! Прекрасно! Им это понравится.
«Его не переспоришь», – подумал Филип и решил сменить тему разговора.
– А каково твое мнение о колеблющихся братьях, которые еще не определились?
– Консерваторы, – не мешкая, ответил Милиус. – Они видят в Ремигиусе пожилого человека, который едва ли будет осуществлять какие-либо перемены, вполне предсказуемого и в настоящее время имеющего реальную власть.
Филип согласно кивнул.
– И они смотрят на меня с беспокойством, как на чужую собаку, которая может укусить.
Зазвонили к молитве. Милиус допил остатки пива.
– Сейчас ты подвергнешься нападкам. Не могу предсказать, в какой форме это будет происходить, но они постараются выставить тебя неопытным, упрямым и не заслуживающим доверия. Сохраняй спокойствие, осмотрительность и благоразумие, а нам с Катбертом предоставь тебя защищать.
Филип почувствовал тревогу. Теперь ему предстояло научиться мыслить по-новому: взвешивать каждый шаг, постоянно думая о том, как он будет истолкован.
– Обычно, – в его голосе зазвучала нотка протеста, – меня заботит только то, как Бог оценивает мои поступки.
– Знаю, знаю, – нетерпеливо сказал Милиус. – Но не грех будет помочь людям увидеть твои действия в правильном свете.
Филип нахмурился.
Они покинули кухню и, миновав трапезную, оказались в часовне. Филип ужасно волновался. Нападки. Что это значит – нападки? Когда кто-то пытался его оболгать, он приходил в ярость. Как ему теперь реагировать? Сдерживаться, сохраняя достоинство? Но если так, поверят ли ему, не примут ли братья ту ложь за правду? Он решил предстать перед ними таким, каков он есть, разве что чуть более спокойным и рассудительным.
Часовня представляла собой небольшую круглую постройку, примыкающую к восточному входу в собор, скамьи там были расставлены концентрическими кругами. Огонь в помещении отсутствовал, и после кухни помещение показалось холодным. Свет проникал через высокие оконца, расположенные выше уровня глаз, и смотреть было вовсе некуда, разве что друг на друга.
Именно этим Филип и занялся. Здесь собрался почти весь монастырь: молодые и старые, высокие и низенькие, темноволосые и блондины – все в грубых домотканых шерстяных одеждах и кожаных сандалиях. Вот стоит смотритель гостевого дома – с пузцом и красным носом, свидетельствующим о его пороке, который мог бы быть простительным, если бы он на самом деле хоть когда-нибудь принимал гостей. А вот постельничий, заставлявший монахов менять одежду и бриться на Рождество и Троицу (мытье рекомендовалось, но было не обязательным). Прислонившись к дальней стене, стоит самый старый из братьев – худой, задумчивый и невозмутимый старик с посеребренными сединой волосами, который говорит редко, но всегда по делу, и который, не будь он таким застенчивым, вполне мог бы стать приором. Тут же брат Симон с бегающими глазками и беспокойными руками, человек, так часто каявшийся в непристойных поступках, что можно подумать, шепнул Милиус Филипу, ему доставляет удовольствие не столько грех, сколько покаяние. Уильям Бови на этот раз серьезен; брат Поль еле передвигает ноги; Белобрысый Катберт совершенно спокоен. Здесь же и Джон Малыш – тщедушный человечек, хранитель монастырской казны; и надзиратель Пьер, что вчера отказал Филипу в обеде. Оглядевшись, Филип заметил, что все они смотрят на него, и, смутившись, он опустил глаза.
Вошедшие Ремигиус и ризничий Эндрю сели подле Джона и Пьера. Ну что ж, эти братья явно не собирались скрывать, что они заодно.
Служба началась чтением жития Симеона Пустынника, ибо в тот день отмечался его праздник. Большую часть жизни этот отшельник провел на вершине столпа, совершая подвиг самоотречения, но что до оценки такого подвига, то у Филипа было к нему сложное отношение. Толпы людей стекались, чтобы посмотреть на столпника, но стремились ли и они возвыситься духовно или просто хотели поглазеть на чудака?
После молитвы состоялось чтение главы из книги Святого Бенедикта. Читать должен был Ремигиус, и, когда он, держа перед собой книгу, встал, Филип впервые взглянул на него глазами соперника. Живая, энергичная манера держаться и говорить придавала облику Ремигиуса цельность и завершенность. Между тем при более внимательном рассмотрении можно было заметить, что его выпученные голубые глазки беспокойно бегали, безвольный рот дрожал, а руки то и дело нервно сцеплялись, даже если внешне он оставался спокойным. Власть его зиждилась на высокомерии, нетерпимости и грубости по отношению к подчиненным.
Филип пытался понять, почему Ремигиус решил читать главу сам. Очень скоро ему все стало ясно.
– Первая ступень покорности – это безоговорочное послушание, – произнес помощник приора. Он выбрал для чтения главу пятую, посвященную послушанию, дабы напомнить всем о своем превосходстве. Это была тактика устрашения. Ремигиус хитрил. – Слуги Божьи живут не по своей воле и не идут на поводу у своих желаний и удовольствий, но следуют повелениям других и, пребывая в монастырях, покорно исполняют приказы своего аббата. Надо отбросить сомнения, ибо, как сказал Господь: «Я пришел, чтобы исполнить не свою волю, но волю Того, Кто послал Меня». – Как и ожидалось, Ремигиус гнул свою линию: в данный момент именно он представлял законную власть.
Затем наступил через поминальной молитвы, и все монахи помолились за спасение души усопшего приора Джеймса. В конце службы обсуждались монастырские дела, признавались ошибки и выносились обвинения в недостойном поведении.
Ремигиус начал следующими словами:






