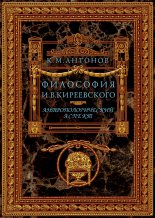Зимняя дорога. Генерал А. Н. Пепеляев и анархист И. Я. Строд в Якутии. 1922–1923 Юзефович Леонид

Нина не могла не страдать от незаслуженной отверженности, а при частых командировках мужа – и от одиночества. Готовясь к родам, на помощь свекрови она не рассчитывала и рожать уехала к родителям в Верхнеудинск.
Это типичный юношеский брак, когда поначалу оба уверены, что все знают о себе и друг о друге, а потом выясняется, что каждому еще предстояло измениться и стать новостью для другого – тем большей, чем дольше жили врозь. К началу Первой мировой войны они были женаты полтора года, но и в это время постоянно разлучались. Потом Пепеляев три с лишним года пробыл на фронте, вернулся в марте 1918-го, а уже в мае ушел на другую войну. Нина Ивановна опять осталась в Томске одна с маленьким Всеволодом.
В феврале 1919 года юная генеральша, оставив пятилетнего сына в Томске со свекровью, приехала в недавно взятую войсками ее мужа Пермь. Из жены безработного офицера, вынужденного перебиваться “частным заработком”, детали которого он предпочитал не уточнять, поскольку гордиться тут, видимо, было нечем, Нина Ивановна в свои двадцать шесть лет превратилась в первую леди Восточного фронта.
В Перми ей отвели апартаменты в роскошном здании Волжско-Камского банка, приставили свиту из влиятельных в городе дам. Ее непритязательное замечание о том, что раненым тесно в городских больницах и неплохо бы устроить для них отдельный госпиталь, в прессе подается как блестящая свежая мысль. Подобострастно, словно она предложила нечто такое, до чего никто без нее додуматься не мог, сообщается: “Идею открытия дополнительных лечебных учреждений, высказанную г-жой Пепеляевой, подхватили местные общественные деятельницы”.
Скоро городские газеты напечатали объявление: “В пятницу 28-го февраля 1919 года женой командира 1-го Средне-Сибирского корпуса Н. И. Пепеляевой устраивается музыкальный вечер. 75 % сбора от вечера поступит на устройство госпиталя для раненых и больных воинов, а 25 % – на приобретение необходимых для библиотеки Александровской гимназии книг”.
Все хлопоты взяли на себя библиотекарши женской гимназии, за что и выторговали четвертую часть от суммы сбора. Организованный ими вечер с концертной программой и танцами состоялся в здании Благородного собрания и, по уверениям публики, оказался “лучшим из вечеров сезона”. После года жизни при военном коммунизме пермяки жаждали развлечений, которые лишь маскировались под разного рода благотворительные акции.
Коммерческий успех вечера превзошел все ожидания. Нина Ивановна лично провела лотерею. В качестве призов разыгрывались пожертвованные будущему госпиталю вещи, довольно бессмысленные с точки зрения “пользы больных и раненых воинов”: два “тиковых чехла” непонятного назначения, дюжина пар дамских перчаток, пять мешков, двадцать одна диванная подушка, “дорожка на качалку” и т. п., но эти малособлазнительные лоты объявляла супруга “сибирского Суворова”, так что лотерея дала неплохой результат.
Какие-то деньги в виде штрафов удалось получить с тех гостей, кто явился в обычном, а не в “национальном костюме”, как требовала надпись на пригласительном билете. По сообщению газеты “Свободная Пермь”, в национальных костюмах “не было почти никого”, так что тут можно заподозрить хитрость устроительниц, на то и рассчитывавших. Наибольшая часть выручки поступила от продажи билетов, от буфета, лотков с папиросами и “сверхпрограммного выступления г-жи Борегар в монологе Мансфельда «Сон», которое было куплено публикой за 2600 р. путем американского аукциона”. Самым прибыльным оказался “аукцион бутылки шампанского” – ее купили за пятнадцать тысяч рублей, а общий сбор составил около пятидесяти тысяч.
Нина Ивановна царила на этом празднике жизни с шампанским и танцами, но мужа рядом с ней не было, хотя в тот вечер он находился не на позициях. Наутро ему предстояло провожать на фронт только что сформированную Пермскую дивизию, ночевал он в городе, но на праздник, где жена впервые в жизни была королевой бала, не пришел, и едва ли только по причине занятости. “Не люблю веселье, легкомысленность”, – писал он с явной мыслью о том, что серьезность и нравственность – близкие понятия.
Правда, через десять дней супруги присутствовали на открытии в Мариинской женской гимназии “лазарета имени А.Н. и Н.И.Пепеляевых” (на госпиталь средств не хватило). Пепеляев произнес короткую речь об успехах на фронте, “произвел обход раненых”, очень недолго посидел за завтраком и ушел, оставив Нину Ивановну допивать чай в компании местных “общественных деятельниц”.
Это последнее, что можно узнать о ней из пермских газет. После открытия лазарета она вернулась в Томск и снова увидела мужа только в страшном для него ноябре 1919 года. Под Новый год опять расстались и, если не считать свидания в Верхнеудинске (она – после тюрьмы, он – после тифа), встретились уже в Харбине. Там и началась их настоящая семейная жизнь.
Они были женаты семь с лишним лет, а вместе прожили от силы два. Виделись урывками, и теперь каждый обнаружил, как сильно за эти годы изменился другой. Он привык повелевать, она – быть независимой. Он пережил взлет и славу, утрату надежд, поражение, бегство, гибель братьев, она – невеселые годы одиночества зрелой женщины. Он был опустошен, ей хотелось внимания к себе. Копились обиды. Вероятно, во время одной из ссор у Нины вырвалось признание, о котором Пепеляев вспомнит в письме к ней, написанном в Якутии, но попавшем не к жене, а в его следственное дело: “Сильную душевную драму пережил я, когда ты мне рассказала, что было у тебя в 18-м году в Томске. Много горьких сомнений зародилось в душе, не раз ночью плакал или надолго уходил куда-нибудь, чаще на кладбище, и думал, думал, но, слава богу, любовь к тебе взяла верх”.
В чем именно призналась ему Нина, можно только догадываться, зато место его одиноких ночных прогулок установить нетрудно – это кладбище Госпитального городка в Харбине. В годы русско-японской войны на нем хоронили умерших в двух здешних госпиталях солдат и офицеров. Отсюда недалеко было до Модягоу, где Пепеляев с семьей снимал квартиру. Свое тогдашнее душевное состояние он потом одной фразой передаст в дневнике: “В прошлом году это ужасное известие навсегда убило во мне радость жизни”.
Подразумевается признание Нины. Слово “навсегда”, которое употребил Пепеляев, вспоминая убитую в нем “радость жизни”, говорит лишь о том, что год спустя ему все еще было больно. Похоже, она того и добивалась, чтобы уязвить его и пробудить угасающий интерес к себе, но после расставания казнила себя за это и за все остальное, что омрачало их отношения в последние два года. Ее письмо с просьбой о прощении привезет в Якутию генерал Вишневский. Оно не сохранилось, но содержание можно восстановить по ответу Пепеляева: “Ты пишешь «прости меня за все», прости меня и ты, родная, – во многом, во многом я был неправ, груб, недостаточно внимателен”.
Он каялся в традиционных мужских грехах, однако в его прошлой жизни, в той ее части, что прошла отдельно от жены, смутно мелькает образ другой женщины.
В январе 1919 года, вскоре после того, как Средне-Сибирский корпус взял Пермь, в местной газете “Освобождение России” появилось стихотворение поручика Леонида Малышева “Женщина и воин”:
- Целуй меня,
- Ты – женщина,
- Я – воин,
- Я шел к тебе средь пихты, гнилопня,
- Под пенье пуль, под гром орудий, с боем,
- И видел – Ночь садилась на коня
- И в снежных вихрях уносилась, воя.
- Синели нам уста слепого дня,
- Дышала ночь над мертвенным покоем. Я так устал.
- Нам хорошо обоим.
- Ты – женщина. Целуй меня[16].
Может быть, и Пепеляев, “под пенье пуль” прошедший тем же путем от Екатеринбурга до Перми, в дни своего триумфа испытал нечто похожее. Во всяком случае, какая-то женщина приснится ему в самый тяжелый период Якутской экспедиции, во время отступления обратно к Охотскому побережью.
Ее полное имя не доверено даже дневнику, указана лишь первая буква: “Сегодня снилась К., счастливая, с чистым открытым лицом, с глазами, полными любви, такая нежная, но полная сил и жизни, в белом платье… Я все смотрел, смотрел, и сердце наполнялось любовью и радостью. Чем-то милым, каким-то давно забытым чувством повеяло, счастьем”.
Если это сон о любимой женщине, то, учитывая, что приснился он тридцатилетнему мужчине на восьмом месяце воздержания, все очень целомудренно. Не исключено, что так все обстояло и наяву, но каковы бы ни были отношения Пепеляева с К., познакомились они скорее всего в Перми.
От притока войск с востока и беженцев с запада ее без того почти стотысячное население увеличилось тогда чуть ли не вдвое, как во всех губернских центрах Урала и Сибири. Пермь стала западным форпостом подвластных Омску территорий, как недавно была восточным рубежом Советской России. Раньше сюда бежали от большевиков, чтобы затем пробираться к Колчаку или в Китай, а теперь, после начала наступления Сибирской армии, здесь скапливались беженцы в надежде на скорое возвращение в Москву и Петроград. На этом оживленном перекрестке с университетом и несколькими газетами неожиданно встречали старых знакомых, а с новыми сходились легко, как в дороге. До того, как в июне 1919 года Сибирская армия оставила Пермь, город был прифронтовым, с характерной для таких мест лихорадочной атмосферой, в которой ценность каждого момента жизни возрастает пропорционально падению цены жизни как таковой.
Пепеляев бывал тут наездами, задерживаясь иногда на два-три дня. Ему было двадцать семь лет, из них последние четыре он провел на войне, и любая интеллигентная молодая женщина, особенно в белом платье, с легкостью могла взволновать его удачно имитируемым или натуральным сочетанием душевной чистоты и жизненной энергии. В предвоенные годы, когда он еще читал беллетристику, сплав этих двух качеств считался эталоном девической прелести.
23 марта 1919 года газета “Прибайкальская жизнь” напечатала отчет о состоявшемся в Верхнеудинске “литературном суде” над героем рассказа Леонида Андреева “Бездна” – студентом, изнасиловавшим свою же девушку после того, как над ней надругались встреченные в лесу бродяги.
Суд прошел в здании Народного собрания при переполненном актовом зале. В публике “преобладала интеллигенция, в основном учителя и учительницы”. Роли подсудимого, обвинителя и защитника распределили заранее, а присяжных по ходу дела выбрали из числа зрителей. При обвинительном вердикте определять меру наказания не предполагалось, поэтому судья отсутствовал, заседание вел кто-то из устроителей этого действа. В ситуации, когда политика подчинила себе жизнь, театрализованные судебные процессы над историческими и литературными персонажами стали популярны у интеллигенции как способ публично заявить о превосходстве моральных принципов над государственными или классовыми.
Сначала со сцены зачитали сам рассказ. “С замиранием сердца, – пишет автор заметки, – слушали собравшиеся историю о том, как перед молодым человеком открылась бездна, обойти которую он не сумел. Черная бездна поглотила его, и он опустился до преступления, до оскорбления женщины”.
Из вопросов, заданных подсудимому сторонами обвинения и защиты, выяснилось, в частности, что “из писателей на него наибольшее влияние оказал Ницше”, как с самого начала и предполагал прозорливый обвинитель. Наконец на сцену поднялись присяжные, и защитник обратился к ним с речью, призывая их учесть, что “студенту не у кого было спросить объяснений, что хорошо и что плохо, так как мать постоянно была занята нарядами и концертами, а отец – службой и картами”.
Последнее слово подсудимого было произнесено “сдавленным тихим голосом”, носило “лирически-нервный характер” и завершилось восклицанием: “Вам не придумать казни мучительнее той, что в сердце ношу!”
В итоге присяжные вынесли вердикт: “Виновен, но заслуживает снисхождения”.
Пепеляева с женой нетрудно представить среди публики на таком спектакле. Оба они – провинциальные интеллигенты, плоть от плоти этих людей, в разгар Гражданской войны бурно обсуждавших “падение” андреевского персонажа из рассказа почти двадцатилетней давности. В Пепеляеве есть наивность, плохо соотносимая с его биографией, зато в очередной раз доказывающая, что дух времени сильнее личного опыта. Участники “литературного суда” за последние годы тоже насмотрелись всякого и наверняка слышали или буквально на днях читали в той же “Прибайкальской жизни” о верхнеудинской гимназистке, которую двое семеновских солдат изнасиловали, задушили и, заметая следы, сожгли в топке бронепоезда. Вероятно, многие из сидевших в зале учителей и учительниц лично знали убитую девочку, но это не мешало им верить, что даже самое страшное преступление обусловлено воспитанием и средой, беспричинной жестокости не бывает, и преступник, особенно если он учился в университете, всегда раскаивается в совершенном злодеянии. Эти люди еще не поняли, в каком мире им предстоит жить.
Отплытие
Когда подготовка Якутской экспедиции шла полным ходом, всю военную и гражданскую власть в Приморье сосредоточил в своих руках генерал Дитерихс. Его брат Иосиф был секретарем Льва Толстого, сестра Анна – женой главного толстовца Черткова и моделью девушки на популярной у интеллигенции картине Николая Ярошенко “Курсистка”, но сам Михаил Константинович придерживался правых убеждений: с тех пор, как Колчак назначил его руководить комиссией по расследованию убийства царской семьи в Екатеринбурге, залогом возрождения России он считал “утверждение национально-религиозного самодержавного строя”.
Дитерихс давно хотел превратить борьбу с большевиками в войну за веру и еще в 1919 году организовал православные и мусульманские “дружины Святого Креста и Зеленого Полумесяца”. Его религиозная экзальтированность вызывала насмешки (“Жанна д’Арк в галифе”), но он остался верен себе и, став правителем Приамурского края, обратился к идеалу Святой Руси как к единственному, способному противостоять коммунистической идее. Целью своего правления Дитерихс объявил реставрацию Романовых, самого себя назначил Земским воеводой, Белоповстанческую армию переименовал в Земскую рать, полки – в дружины, устраивал пышные молебны и крестные ходы, являясь на них в костюме думного боярина времен царя Алексея Михайловича, для чего требовалось не только отсутствие чувства юмора. Эти переименования и переодевания – не верноподданнический спектакль, поставленный в горящем театре свихнувшимся режиссером, как изображали дело по ту сторону фронта, скорее – нечто вроде надеваемой перед смертью чистой рубахи. Комический эффект возникал от того, что приходилось надевать ее на грязное тело и делать вид, будто к ней не пристает никакая скверна.
“Стонали и охали публичные дома Корейской и Бородинской улиц, пожирая обмундирование и снаряжение Земской рати”, – без кавычек цитировал Строд записки ротмистра Нудатова, которые он использовал в своей книге. Для него это было свидетельство очевидца о попытках “белогвардейцев” найти “забвение от надвигающейся грозы”. Между тем Дитерихс, возводя свой град Китеж, обреченный скрыться под волнами революционного моря, сделал шаг, который одобрили бы его брат и сестра, правоверные толстовцы: он отменил смертную казнь даже для большевиков, заменив ее высылкой в ДВР.
Основной административной единицей при нем стали церковные приходы. Их руководство предписывалось избирать по жребию, то есть с учетом божественной воли, но сам Земский воевода целиком зависел от контролировавших Приморье японцев. В воззваниях Дитерихс писал, что “разложение евреями Египта – ничто по сравнению с разложением ими России”, при этом сотрудничал с еврейскими коммерсантами. Он провозгласил себя наместником идеального православного монарха, но, принимая власть, подписал обязательство не затрагивать вопроса о выдаче концессий иностранным компаниям и не проверять финансовую отчетность по правительственным контрактам.
Его экзотические новшества с полным равнодушием встретили и горожане, и беженцы, и наводнившие город каппелевцы, семеновцы, моряки Сибирской флотилии контр-адмирала Георгия Старка. Чтобы отрезать Владивосток от Красной Сибири, по приказу Дитерихса начали разбирать участок Транссибирской магистрали в районе Волочаевки и Спасска (рельсы продавали японцам на металлолом), но все понимали, что шансов остаться осколком былой России у Приморья еще меньше, чем было у Крыма при Врангеле.
Одно время всерьез обсуждался план использовать Сибирскую флотилию для эвакуации правительства и Земской рати из Владивостока на Камчатку, чтобы сделать ее опорной базой в борьбе с большевиками, однако ни сил, ни средств, ни, главное, воодушевления и веры в успех этого столь же грандиозного, как и фантастического, замысла у белых уже не было.
Кто-то из тогдашних остроумцев заметил, что когда какой-нибудь город занимают красные, скоро в нем исчезают все продукты, кроме селедки и черного хлеба, но расцветают все искусства; когда приходят белые – продукты появляются, зато из искусств остается один канкан[17]. Владивосток был исключением из этого правила: в кафе “Балаганчик” собиралась богема, выступали поэты Николай Асеев, Давид Бурлюк, Арсений Несмелов. Пепеляев сам писал стихи, но в то время ему было не до поэзии, да и жил он в шести верстах от города, в казармах на железнодорожной станции Вторая Речка. Через пятнадцать лет в расположенном поблизости от нее пересыльном лагпункте умрет Осип Мандельштам.
Зато, может быть, в “Балаганчике” бывал поручик и поэт Александр Зуйков из Барнаула, публиковавшийся под псевдонимом Алтайский. Во время наступления Пепеляева от Перми на Глазов он служил под его началом и в апреле 1919 года, в корпусной газете “Сибирский стрелок”, напечатал ироническое вроде бы, а на самом деле грустное стихотворение “Весна на фронте”:
- Весна! Выставляется первая рама
- Снарядом, упавшим под самым окном,
- И дымкой закрылась полей панорама
- От дыма пожара за ближним леском.
- Повеяло свежей душистой весною
- От грязной дороги, от свежей хвои,
- И хвост обнажило под старой сосною
- У лошади павшей в лихие бои.
- Широкой волной разливается нега
- По телу усталых стрелков на печи,
- И тонут обозы в сугробине снега,
- И воют пропеллером где-то грачи.
- Весна! Ее лаской природа согрета,
- И тает на сердце мучительный лед,
- И хочется воли, веселья, привета.
- А тут, как назло, затрещал пулемет.
Вряд ли за прошедшие с тех пор три года, после разгрома Колчака и бегства на восток, у Зуйкова-Алтайского прибавилось военного энтузиазма, но эмигрантская тоска и надежда, что Пепеляеву удастся сотворить чудо, привели его на вербовочный пункт к Малышеву: из Харбина он приехал во Владивосток, чтобы затем плыть в Якутию.
В казармах на Второй Речке и поставленных рядом с ними палатках размещали будущих бойцов Сибирской добровольческой дружины. Для конспирации она пока что именовалась Милицией Северного края, который можно было толковать и как Сахалин или Камчатку. Среди добровольцев кадровые военные составляли меньшинство, в прошлой жизни это люди мирных занятий – землемер, бухгалтер, губернский чиновник, юрист, в Харбине ставший “сторожем автостоянки”, земские учителя, крестьяне, рабочие ижевских заводов, студенты университета и Технологического института в Томске, Политехнического института во Владивостоке.
Афанасий Соболев разделил их на четыре группы.
Первая – “пошедшие по глубокому убеждению в необходимости бороться за народ и Родину”. Таких “относительно мало”.
Вторая – те, кто “идет с целью вернуться домой”. Они составляют “большинство”.
Третья – авантюристы.
Четвертая – “неудачники, которым деваться было некуда и есть было нечего”.
Во Владивостоке вербовкой занимался капитан Михайловский, однокашник Пепеляева по кадетскому корпусу, в Харбине – Малышев и второй близкий друг “командующего дружиной”, полковник Шнаперман. Ажиотаж подогревался истеричными статьями Сазонова в харбинских и приморских газетах: он уверял, что “вся Сибирь уже восстала” и “добровольцы скоро увидят свои семьи”.
Поначалу думали набрать не более трехсот человек, затем решили довести эту цифру до семисот, на ней, с небольшим перебором, и остановились. Поток желающих не иссякал, но опоздавшим отказывали. В итоге офицеров оказалось триста семьдесят два, чуть больше половины всего отряда, генералов двое – Ракитин и Вишневский.
Чтобы спаять добровольцев одушевляющим чувством равенства, Пепеляев хотел упразднить погоны, но возмутились офицеры, и ему пришлось отступить. Протест возглавил полковник Аркадий Сейфулин. Дворянин, он почему-то попал на германский фронт рядовым и, по словам Пепеляева, выслужил свой полковничий чин кровью двадцати семи ранений. Для таких, как Сейфулин, тяжело зарабатывавших себе на кусок хлеба в созданных Пепеляевым артелях, офицерские погоны оставались единственным наглядным подтверждением их жизненного успеха.
Финансовая история Якутского похода темна, как все подобные истории. В трибунале 5-й Армии очень ею интересовались, но главные денежные документы исчезли, а Куликовский к тому времени был мертв и все коммерческие тайны унес с собой в могилу. Ясно одно: экспедиция состоялась исключительно благодаря тому, что в Якутии водились лисы, куницы, песцы и белки.
Главным кредитором Сибирской дружины выступил созданный в 1922 году, в Сиэтле, торговый синдикат “Олаф Свенсон и К°“, в совет директоров которого вошел уехавший из Якутии в Японию купец-миллионер Кушнарев. Он и его земляк, тоже купец и миллионер Никифоров, представлявший Якутское повстанческое правительство, заключили договор о том, что «Олаф Свенсон» будет иметь монопольное право скупки пушнины в освобожденной от большевиков Якутии. Никифорову это гарантировал Куликовский, еще при Меркуловых назначенный временным управляющим Якутской областью. Цена пушной монополии составила сто тысяч рублей, но от «Олаф Свенсон» Куликовский получил только шестьдесят тысяч и еще двадцать пять – от британской фирмы “Гудзон Бэй”, связанной с тем же Кушнаревым и другими русскими коммерсантами на Дальнем Востоке. Недостающие пятнадцать тысяч не то были удержаны как процент по кредиту, не то осели в карманах посредников. На сделке такого масштаба погрели руки многие, но подозревать в этом Куликовского нет оснований. Просто многолетняя служба в фирме Громовой и кооперативе «Холбос» приучила его соблюдать неписаные законы русской коммерции.
Приамурское правительство еще до Дитерихса выделило ему двадцать тысяч рублей золотом, но на руки он получил четверть этой суммы. Остальное вычли за фрахт пароходов для доставки Сибирской дружины в Аян, а в утешение выдали казначейские и гербовые знаки на сто тысяч рублей (“бандероли, почтовые марки, вексельная и актовая бумага”).
“Тогда Куликовский, – рассказывает Строд о его не типичной для интеллигента предприимчивости, – решил спекульнуть шестью пудами ценных бумаг и пустил их в распродажу на 50 % дешевле номинальной стоимости. Около своеобразного государственного аукциона поднялась страшная свистопляска, которая не преминула отразиться на денежном курсе, и правительство, обеспокоенное падением рубля, поспешило отобрать у Куликовского эти бумаги. Тот, однако, успел заработать 16 000 золотых рублей”.
Во Владивостоке он продал еще и двадцать тысяч вывезенных из Якутии беличьих шкурок, но Пепеляев, похоже, об этом не знал, как не знал и о его договоренности с Кушнаревым и Никифоровым. Получив шестьдесят тысяч рублей, потом еще двадцать, он думал, что первую сумму собрали сами якуты, а вторую дал Дитерихс. “Получение Куликовским денег и ценных бумаг от торговых фирм мне совершенно неизвестно”, – говорил Пепеляев. Скорее всего, так оно и было.
Из наличных денег выплатили скромное пособие офицерам, “не могущим оставить семьи без средств к существованию”, прочее пошло на закупку снаряжения, продовольствия и вооружения. Поставщиками выступили те же “Олаф Свенсон” и “Гудзон Бэй”. Это означало, что чуть ли не большую часть кредита Кушнарев и его компаньоны выплатили не деньгами, а товарами, сократив свои фактические расходы.
Кое-что из закупленного Пепеляев потом перечислил на допросе: фуфайки, чайники, вёдра, кальсоны, дратва, ножи канадские, керосин, ламповое стекло, цепи, порох, дробь, а в качестве “предметов роскоши” – неизвестно кому предназначенные (сам он не курил) “три английские курительные трубки”.
Малышеву выдали деньги на приобретение “фотографического аппарата и принадлежностей”. Он, видимо, умел обращаться с этими предметами, к тому же считал, что как адъютант Пепеляева всегда будет находиться в центре событий и лучше других сможет вести фотохронику похода.
В окружении Пепеляева служба у Семенова осуждалась как не достойная порядочного офицера. Когда Малышева в плену спросили, приходилось ли ему служить в семеновских частях, он ответил: “Я атаманам не служил”. Легко представить, с какой интонацией это было сказано.
Семеновцев в дружину не брали, хотя в Харбине приняли нескольких бывших унгерновцев[18], а во Владивостоке в нее вступали исключительно каппелевцы. Они, по замечанию современника, “ухватились за Пепеляева, как за якорь спасения”. Ему верили как никому другому из колчаковских генералов. Впоследствии груз этой веры тяжело ляжет на его совесть, но пока что она, как наркотик, заглушала все сомнения.
Разрешение принимать к себе офицеров и солдат из тогда еще не переименованной Белоповстанческой армии Пепеляев получил от братьев Меркуловых до того, как власть перешла к Дитерихсу. Теперь тому жаль было терять сплоченную боеспособную часть, и он предложил Пепеляеву вместе с его добровольцами перейти на службу в Земскую рать. Категорический отказ ухудшил без того прохладные отношения между ними. Пепеляев считал Дитерихса “старорежимцем”, а тот не забыл, что три года назад “мужицкий генерал” распустил свою армию и пытался заставить Колчака отречься от власти. Он весьма скупо снабдил Сибирскую дружину оружием, “огнеприпасами” и обмундированием. Винтовки были самых разных и далеко не лучших систем, вплоть до мексиканских, вдобавок часть их оказалась неисправна. Патронов, как с горечью заметил Вишневский, “едва хватило бы на один хороший бой”, и впоследствии пришлось добывать их у противника, пулеметов имелось всего два, орудий – ни одного. Продовольствием запаслись лишь на дорогу и на первый месяц после высадки, да и продукты выдали худшего качества, чем значилось по накладным: вместо муки “высшего сорта” подсунули такую, что из нее, как выяснилось в Якутии, невозможно было выпекать хлеб. Зимнее обмундирование получили на половину отряда, но Пепеляев рвался поскорее отплыть в Аян. Он рассчитывал захватить Якутск до наступления морозов.
В декабре 1919 года, в Томске, Пепеляев издал свой последний приказ по Сибирской армии – о ее роспуске. Все такие тексты он писал сам, не прибегая к услугам штатных публицистов, и этот не стал исключением.
Большевики для Пепеляева – душители революции в масках революционеров, и его прощальный приказ похож на завещание разбитого правительственными войсками народного вождя, которое тот ночью вывешивает на рыночной площади, прежде чем переодеться в крестьянское платье и затеряться в толпе: “Сибирская армия не погибла, а с нею вместе не погибло и дело освобождения Сибири от ига красных тиранов. Меч восстания не сломан, он только вложен в ножны. Сибирская армия распускается по домам для тайной работы – пока грозный час всенародного мщения не позовет ее вновь под бело-зеленое знамя. Я появлюсь в Сибири среди верных и храбрых войск, когда это время наступит, и я верю – оно придет”.
Пепеляев надеялся, что те, к кому были обращены эти слова, их помнят. С ними перекликается его речь, произнесенная перед погрузкой Сибирской дружины на корабли: “Мы, старые соратники, послужили великому делу борьбы за свободу Родины. Всегда верил, что настанет момент, и вновь соберемся, и эта вера не обманула меня. Мы бросаем семьи, заработок, привычный труд и с верою в помощь Божью имеем перед собой одну цель – служить народу до Страшного суда”.
Странно выглядит временной предел этого служения. В минуты душевного подъема человеку свойственно прибегать к выражениям, чья эмоциональная наполненность важнее их смысла, но эсхатологическая метафора здесь не случайна – Пепеляев, как многие в те годы, легко находил вокруг себя приметы близкого Апокалипсиса.
Не известно, впрочем, было ли все это произнесено вслух. Судить о содержании речи можно только по черновику. Пепеляев набросал его в блокноте, где месяц назад записывал траты на браслет и сумочку для Нины Ивановны, а в Якутии будет вести дневник.
До упоминания о Страшном суде некоторые слова зачеркнуты и заменены другими, но нарастающее возбуждение заставляет Пепеляева забыть о стиле. Дальше исправлений нет, буквы становятся крупнее, фразы укорачиваются, перемежаются отточиями: “А трудности будут, я говорил вам о них… Холод, голод, болезни, тяжелые переходы. Но вы готовы на всё. Знаю… Не сам иду – выбирает меня судьба… Много жертв и крови впереди, много… Готовьтесь к великим лишениям… Но велика и цель наша. Народ ждет”.
Кушнарев, кредитор экспедиции, тоже ждал от них победы, чтобы во всеоружии выйти на американский пушной рынок, но для Пепеляева главное – что обещанное сбылось, “меч восстания” извлечен из ножен, пропавший вождь явился среди “верных и храбрых войск”. При всех сомнениях у него не могло не быть надежды повторить свой “пермский триумф” и еще раз пережить те минуты счастья, когда, как вспоминал свидетель его взошедшей в зенит славы, он “скакал на белом коне, под бело-зеленым флагом, в вихре ясного клубящегося снега по Сенной площади в Перми, вдоль огромного фронта тольк что сформированной для борьбы с красными Пермской дивизии, а за ним, под раскаты «ура», летел его конвой в шапках с малиновыми верхами”.
После речи – молебен, затем выступили в порт. Отчалить должны были ночью, но задержались на сутки: Дитерихс обвинил Пепеляева в том, что он “сманивал” к себе солдат и офицеров из других частей, и приказал произвести на кораблях обыск. Никого не нашли, хотя дезертиры из Земской рати на борту были – перед обыском они съехали в лодках на противоположный берег бухты, а когда опасность миновала, вернулись. Пепеляев не мог о них не знать, но выдавать не хотел.
В ночь с 29 на 30 августа 1922 года минный транспорт “Защитник” и канонерская лодка “Батарея” вышли в море. На них разместились пятьсот тридцать три добровольца с минимальным запасом снаряжения и продовольствия. Остальных людей и большую часть грузов должно было доставить в Аян гидрографическое судно “Охотск”. Ему предстояло отправиться через несколько дней, но на нем взорвались котлы (подозревали диверсию большевиков), и прошло целых три недели, прежде чем оставшиеся сто восемьдесят семь человек под командой Вишневского отплыли по тому же маршруту на океанском пароходе “Томск”. Обыск не проводили, Дитерихсу было не до дезертиров – Народно-Революционная армия ДВР уже начала наступление на Приморье. В конце октября она войдет во Владивосток, но отрезанный от всего мира Пепеляев узнает об этом лишь накануне нового, 1923 года.
В Аяне. Новости
На пароходе, по пути в Аян, полковник Кронье де Поль сделал еще одну выписку из взятого с собой Метерлинка: “Каждый может сказать смерти: я не знаю, кто ты, потому что если бы знал, то стал бы твоим господином. Зато каждый может сказать иначе: я знаю, чем ты не можешь быть, и этого достаточно, чтобы ты не стала моей повелительницей. Тогда не будет бессильных мук агонии, ужасных молитв умирающих – будет молитва, рожденная не в момент смерти, а на вершинах жизни”.
Остальные вряд ли размышляли о подобных материях. Погода стояла тихая, солнечная, а для большинства, включая Пепеляева, это было первое в жизни морское путешествие. В приподнятой атмосфере, обычно сопутствующей началу плавания, на кораблях зачитали приказ о переименовании Милиции Северного края в Сибирскую добровольческую дружину. После этого кокарды на фуражках заменили бело-зелеными ленточками – старым отличительным знаком Сибирской армии.
Пепеляев со штабом плыл на “Защитнике”, здесь же находился Куликовский. Ему было пятьдесят два года, но пепеляевским офицерам он казался патриархом. Вишневский, будучи ненамного младше, называет его “стариком 60–65 лет”. В свою очередь красные уверяли, будто он “выжил из ума от старости”, и в русле этой традиции якутский писатель Софрон Данилов, родившийся за год до гибели Куликовского, в романе “Красавица Амга” описал его как “высохшего старца с помутневшими голубыми глазами”. Возможно, его внешняя изможденность – следствие того мало кому известного факта, что он был морфинист. Отсюда, может быть, и его фантастическая энергия, без которой Якутская экспедиция попросту не состоялась бы. Михаил Булгаков с опорой на собственный опыт утверждал, что после инъекции морфия человек переживает “необыкновенное прояснение мыслей и взрыв работоспособности”.
Пепеляев видел в Куликовском “человека самоотверженного и бескорыстного”, рассказывал, что тот “ругался с купцами, называя их хищниками, защищал от них якутов”. Позднее он посвятит его памяти одно из своих стихотворений. Адресат этих стихов – борец “за счастье народное”, томившийся “то в ссылке далекой, то в мрачной тюрьме”. Основные вехи его жизненного пути Пепеляев знал, но весьма неточно – считал, например, что Куликовский попал на каторгу за участие в покушении на Александра III. Вообще имя его жертвы нередко путали, а сам он об этом эпизоде своей молодости вспоминать не любил и туманно писал о себе, что “долго боролся с произволом”.
Куликовский появился во Владивостоке в конце июня или начале июля 1922 года. Перед отъездом из Нелькана до него успели дойти известия о гибели Каландаришвили и осаде Якутска, но о последних событиях они с Пепеляевым ничего толком не знали. Новости из Якутии доходили в Приморье с большим опозданием, и не напрямую, а через Камчатку, искаженные многократной передачей из уст в уста. Пепеляев надеялся узнать обстановку на месте, в Аяне.
Море было спокойно, на восьмой день плавания “Защитник” и “Батарея” подошли к скалистому мысу у входа в Аянскую бухту.
Сюда же в 1854 году, на шхуне “Восток”, на которую он в устье Амура пересел с фрегата “Паллада”, приплыл Иван Александрович Гончаров.
“Мы заметили, – писал он, – на горизонте не поля, не домы, а какую-то серую, неприступную, грозную стену. Это была куча громадных утесов. По мере нашего приближения они все казались страшнее, отвеснее и неприступнее… Кажется, на этих утесах и чайкам страшно сидеть. Пустота, голь и вышина, от которой дух занимается, да свист ветра – вот характер этого места. Здесь бы в старину хорошо поставить разбойничий замок, если б было кого грабить”.
Генерал Вишневский, приплывший сюда через три недели после Пепеляева, рисует картину не столь зловещую: “Аян живописен, его правильно очерченная бухта окружена покрытыми зеленым кедровником горами, из которых небольшая гора Пирамида и особенно Ландор очень красивы. Берег отлогий, к морю – обрывистый, и среди скал есть много живописных, таинственных углублений и гротов. Вода Охотского моря – прозрачного красивого оттенка и летом обладает фосфоресценцией. Но все эти красоты так часто скрываются туманами, дождями и пургами, что покинуть их можно без сожаления”.
Вишневскому удалось вернуться в Харбин, и он не без ностальгии вспоминал Аян как место последних в его жизни сильных чувств и больших надежд. Для тех, кому повезло меньше, этот полумертвый порт, где начался и закончился Якутский поход, навсегда остался проклятым местом.
Узкий залив глубоко вдавался в сушу. На северном берегу бухты Гончаров увидел здание пакгауза под “нарядной красной кровлей”, десяток домов, церковь с зеленым куполом и золоченым крестом, верфь, палаточный лагерь и полдесятка якутских берестяных юрт. Население Аяна тогда составляло около двухсот душ.
Он был основан Российско-Американской компанией, чтобы заместить чересчур удаленный к северу Охотск и сократить дорогу к Якутску, но после того, как Аляску продали США, превратился в порт-призрак. Лишь в конце XIX столетия сюда стали завозить чай и рис из Китая, которые затем отправляли вглубь материка. Изредка приходили за пушниной американские и японские суда.
К моменту появления здесь кораблей Якутской экспедиции от недолгого расцвета Аянского порта сохранилась ветхая церковь без зеленой краски на куполе и без позолоты на кресте, баня, кузница и несколько полуразрушенных бревенчатых пакгаузов. Красной кровли ни на одном не было. “Об остальных постройках, – писал приплывший с Пепеляевым ротмистр Нудатов, – напоминали гниющие столбы и кучи битого кирпича”.
Жизнь переместилась на южную сторону бухты, в поселок Аянка. Здесь тоже находились складские помещения, но были и жилые дома, с северной стороны защищенные от разрушительных морских ветров листами кровельного железа. В четырех жалких лавчонках торговали американец, японец, англичанин и русский. Постоянных жителей насчитывалось около полусотни. Женщин, как обычно в таких местах, было меньше, чем мужчин.
“Кто не бывал Улиссом на своем веку и, возвращаясь издалека, не отыскивал глазами Итаки? – мысленно восклицал Гончаров при виде Аяна, с грустью думая о том, что отсюда до Петербурга ему предстоит добираться сушей. – Но десять тысяч верст остается до той красной кровли, где будешь иметь право сказать: я дома. Какая огромная Итака, и каково нашим Улиссам добираться до своих Пенелоп!”
Путь, который собирался пройти Пепеляев, чтобы на будущий год встретиться с женой и детьми, был ненамного короче, но в эти дни у него еще оставалась возможность ступить на берег Итаки не здесь, а в гавани Владивостока. Когда вечером 6 сентября 1922 года, в кают-компании “Защитника”, он узнал новости, первое побуждение было именно таким – плыть назад.
6 марта 1922 года, ровно за полгода до того, как “Защитник” и “Батарея” вошли в Аянскую бухту, Каландаришвили и сорок шесть его спутников погибли в устроенной повстанцами засаде. Во избежание паники решено было скрыть случившееся от жителей Якутска: тела убитых привезли в город ночью и сложили в чьем-то амбаре. Мороз позволял не спешить с погребением.
Официальных известий о случившемся не публиковали, газета “Ленский коммунар” под нейтральной рубрикой “Разное” напечатала только список похищенных у военкома Гошадзе документов, которые отныне следовало считать недействительными. О том, что владельцев этих удостоверений, как и самого Гошадзе, три недели нет в живых, не сообщалось.
Якутск по-прежнему был окружен повстанцами. В конце марта Коробейников сумел войти на окраины, и хотя его быстро выбили из города, кольцо блокады не разомкнулось. Не хватало продовольствия, в огне “дровяного кризиса” сгорали сараи, заборы, дощатые тротуары. С января действовало уже не военное, а осадное положение: запрещалось появляться на улицах не после девяти часов вечера, как раньше, а сначала после шести, потом – после пяти. Театр и кино не работали, нельзя было послать за врачом при необходимости скорой помощи или пробраться к телефону в соседнем доме. Был застрелен какой-то глухой, не остановившийся на окрик патруля. Арестовывали и сажали под замок людей, вечерами “пробиравшихся в уборную или подыскивающих для своих нужд укромный уголок”.
Лишь 2 апреля, когда откладывать похороны стало невозможно, вышел номер “Ленского коммунара”, от первой до последней строки посвященный Каландаришвили – воспоминания о нем, клятвы верности делу, которому он служил, стихи:
- Подлый враг отравленной стрелою
- Яркий путь полета прекратил…
В передовой статье Каландаришвили ставился в один ряд с теми гениями, кого погубили не способные оценить их величие современники: “Он гибнет от руки невежественного охотника-якута, в темном безумии поднявшего оружие против грядущего обновления мира. Так Архимед погибает от рук варвара в момент гениального открытия, несущего свет и радость потомкам убийцы. Так умирает на костре Джордано Бруно”.
В этот же день сорок семь гробов опустили в братскую могилу посреди городского сада. Каландаришвили лежал в поставленном на орудийный лафет открытом гробу, но в землю не лег, тело вернулось на ледник и пролежало там еще почти пять месяцев. Лишь в августе, на пароходе с холодильной камерой, его по Лене отправили в Иркутск и похоронили с полагающимися ему по рангу почестями.
Через три недели после похорон в обложенный повстанцами Якутск прибыл Карл Байкалов, назначенный командующим вооруженными силами Якутии вместо Каландаришвили. Он пробрался в город под видом врача, сопровождаемый всего двумя спутниками, сыном и братом. Настоящая фамилия Байкалова – Некундэ, он выходец из латышской крестьянской семьи, состоял при нелегальной типографии РСДРП, в 1909 году был сослан в Сибирь, работал забойщиком на Черемховских угольных копях под Иркутском. Вслед за ним в Сибирь переселилась его безземельная родня, и если старший брат, взяв местный топонимический псевдоним, остался Карлом, то младший из Яниса превратился в Ивана, как Строд, и в Якутии фигурировал под коренной сибирской фамилией Жарных, чье происхождение туманно. Байкалов партизанил еще при Колчаке, но его мужество и военные таланты раскрылись полгода назад, при обороне монастыря Сарыл-гун в Западной Монголии, где он с двумястами красноармейцами и “красными монголами” полтора месяца противостоял объединенным силам генерала Бакича и атамана Кайгородова, впятеро превосходящим по численности его отряд.
Байкалову тридцать шесть лет. Голова брита наголо, ни бороды, ни усов. Кобура с наганом простецки висит на поясном ремне, без портупеи. В отличие от подтянутого Строда, он в любой обстановке, будь то штаб или трибуна митинга, одет в обвислые галифе и суконную гимнастерку с полученным за Сарыл-гун орденом Красного Знамени, но этот аскетизм – следствие расчета, а не простодушия. Байкалов – военный администратор с широчайшими полномочиями, умный, жесткий, рационалистичный, виртуозно умеющий лавировать между иркутским начальством и местной партийной верхушкой. Прямой импульсивный Строд – полная ему противоположность.
Причиной первого конфликта между ними стала речь Строда на похоронах в городском саду: устрашающе размахивая обнаженной шашкой, он тогда обвинил якутскую интеллигенцию в предательстве и посулил, что это ей не простится. Байкалов узнал о его выходке по прибытии в Якутск, и когда со дня похорон прошло уже больше месяца, в “Ленском коммунаре” появилась статья Строда под выразительным названием: “За вспышкой настало раздумье”.
“Я не мог, – оправдывался он, – выразить всей моей боли и скорби, происходивших в душе при виде братской могилы… Мне было душно в темных оковах событий последних дней. Из-за всего пережитого и душевной боли я резко и отчасти несправедливо выразился по адресу якутской интеллигенции…”
“Раздумье” после этой “вспышки” заставило себя долго ждать и, судя по характеру оратора, вообще бы не “настало”, если бы Байкалов, стремившийся реабилитировать власть в глазах якутских интеллигентов, не приказал Строду написать покаянную статью. Тому пришлось смирить самолюбие и подчиниться.
До открытия навигации по Лене ждать помощи было неоткуда. Единственный крупный отряд, остававшийся вне Якутска, был заперт повстанцами в Амге-слободе и надеялся на приход Каландаришвили, не зная о его гибели. Связи с Якутском не было, блокада продолжалась третий месяц.
Однажды в Амгу со стороны лагеря повстанцев пришла корова. К рогам у нее были привязаны личные документы Каландаришвили, среди них – недавно полученный им билет члена РКП(б). Смысл этой посылки, имевшей целью, как выразился один из местных партийцев, “моральное разложение красных воинов”, был понятен без слов: тот, кого вы ждете, мертв, никто вам не поможет, сдавайтесь. Сама по себе корова сулила то, чем всегда соблазняют осажденных – еду, но рогатую почтальоншу съели, а сдаваться не стали.
Байкалов выслал отряд им на выручку. Одной из колонн командовал Строд, а военкомом (комиссаром) стал Сергей Широких-Полянский, бывший заместитель Каландаришвили по политчасти. Сын забайкальского казака, он окончил в Чите учительскую семинарию, рано увлекся марксизмом, вел пропаганду среди рабочих. В 1918 году, когда Пепеляев подходил к Чите, Широких-Полянский, как Строд, ушел в тайгу, но не с группой, а в полном одиночестве, взяв с собой только винтовку с патронами, топорик, нож, спички и “много книг”. Последний кусок хлеба съел накануне вечером, а запасное белье, мыло и полотенце выбросил как лишний груз. По словам Байкалова, в тайге его младший друг занимался самообразованием и охотой, и к зиме “оказался настолько оборванным, обросшим бородой и волосами, что стеснялся показаться даже коренным таежникам”. В конце концов, “по русским следам” его отыскали и приняли к себе обитатели тунгусского стойбища. Юный отшельник со своими книгами произвел на них сильное впечатление, они “чтили его как святого” и впоследствии переправили к партизанам. К моменту похода к Амге ему было двадцать четыре года, но он успел побывать и министром юстиции ДВР, и представителем Коминтерна в Западной Монголии. Там Байкалов с ним и познакомился: Широких-Полянский был самым верным его помощником при обороне монастыря Сарыл-гун.
Первая стычка с повстанцами произошла в лесу, в местности Туора-Тумул в полусотне верст от Амги. После короткой перестрелки якуты отступили, но один, “зазевавшись”, не сумел отойти вместе со всеми и засел в лесу. Строд и брат Байкалова, Жарных, прячась за деревьями, держали его “на мушке”, а Широких-Полянский остался в седле и шагом стал подъезжать к нему, громко уговаривая сдаться. Тот ничего не понял и с перепугу пальнул из своего “бердана”.
Байкалов, знавший подробности от брата, рассказывает, что Широких-Полянский “сразу свернулся с лошади, не успев даже ногу вытащить из стремени”. Пуля попала ему в живот. Когда ногу освободили, он уже понимал, что рана – смертельная.
“Бойцы схватили стрелявшего, – пишет Строд, – и готовы были растерзать, но потом решили дать возможность умирающему застрелить его самому”.
Широких-Полянский был в сознании. Ему вложили в руку наган, но когда перед ним поставили “трясущегося человека в залатанных дырявых одеждах из звериных шкур и кожи”, стрелять он отказался, сказав: “Пусть идет на все четыре стороны. Накормите его и отпустите. Все равно моя жизнь кончена. Он не виноват”.
Это перевели пленному, но тот долго не мог поверить в свое спасение, умолял убить его – из страха, что уйти ему не дадут, и если сделать такую попытку, местью за убитого начальника станет казнь куда более изощренная и мучительная, чем расстрел. Наконец он ушел, а Широких-Полянского положили в утепленную войлоком и шкурами повозку для транспортировки раненых, но и в ней он постоянно мерз. Врач, как передает его диагноз Байкалов, сказал: “Это такого характера ранение, какое получил когда-то Пушкин, но более тяжелое, так как ударную силу пули нарезной берданы нельзя сравнить с пистолетной. Немедленная операция, на которую с мизерной долей надежды можно было бы рискнуть, в данных условиях немыслима”. Под утро раненый впал в беспамятство и умер, лежа в придвинутой к костру санитарной повозке, которая “закрывалась сверху кожаным колпаком наподобие швейной машинки”.
“Весть о случившемся, – констатировал современник, – быстро разнеслась по тайге и внесла начало разложения в ряды повстанцев”. Поступок Широких-Полянского объясняли тем, что для “демонстрации населению новой гуманной политики партии” он сумел подняться над такими личными чувствами, как “желание отомстить”.
Об этом говорил и Байкалов. Отпущенного на свободу якута он охарактеризовал как “слепое, тупое и потому особенно опасное оружие контрреволюции”, а о великодушии покойного друга писал: “Для многих большевиков это было непонятно. Могу сказать одно: Полянский не руководствовался какими-либо побуждениями толстовизма, здесь имели место тактические соображения”. Точно так же впоследствии он будет объяснять гуманность Пепеляева.
Однако для Широких-Полянского это был еще и вздох сожаления об уходящей жизни, прожитой среди “моря крови”, и жест праведника, кротостью смиряющего злобу мира. Он не просто пощадил собственного убийцу, он его простил, иначе не завещал бы ему свой кисет с табаком – вещь, которая на войне, после гибели хозяина, обычно достается его ближайшему другу.
Впрочем, по слухам, этого якута скоро убили свои. Им он мешал как воплощенное вражеское милосердие, последнюю волю умирающего комиссара они тоже истолковали как удачную пропагандистскую акцию, чей эффект следует нейтрализовать.
Одновременно с вызволением амгинского гарнизона произошло еще более важное событие: Москва, снизойдя к истерическим мольбам местного руководства, приняла постановление о Якутской автономии в составе РСФСР. Оно склонило часть национальной интеллигенции к сотрудничеству с советской властью. На посвященное этому вопросу собрание, писал Байкалов, многие интеллигенты “пришли со следами наших шомполов и плетей”, но, услышав, что прежние действия властей расцениваются как “красный бандитизм”, после трехдневных прений приняли нужную резолюцию. В ответ ревком объявил амнистию всем сложившим оружие повстанцам, исключая русских офицеров.
Прекратились расстрелы, арестованных распустили по домам, сняли всем осточертевшее осадное положение. Параллельно Байкалов готовился к летней кампании. С началом навигации из Иркутска прибыли два стрелковых полка 5-й Армии, дивизион кавалерии, артиллерийская батарея, телеграфно-строительная рота – восстанавливать нарушенную связь. Командующему привезли новенький мотоцикл “Индиана”, сразу поднявший его авторитет у городских обывателей, никогда не видевших даже автомобиля.
Теперь в распоряжении Байкалова свыше четырех тысяч штыков и сабель – колоссальная для Якутии сила. Флот состоял из восьми обыкновенных пароходов, вооруженных снятыми с кораблей Байкальской флотилии пушками, и трех “бронированных”. У последних палубные надстройки обшивались листовым железом, борта укрепляли двойными стенками из досок с насыпанным между ними щебнем.
В середине лета Байкалов перешел в наступление. Численный перевес и “богатство патронов” приносили красным легкие победы во всех стычках. Пароходы без особой цели курсировали по рекам, оглашая берега орудийными выстрелами, дабы никогда не слыхавшие пушечной пальбы якуты прониклись почтением к власти. Как выразился Байкалов, “жалкой моське контрреволюции” следовало понять, что она бросается на “советского слона”.
После первых поражений в армии Коробейникова обострились противоречия между рядовыми повстанцами и офицерами. Последние были недовольны плохой дисциплиной подчиненных, их “косностью в военном деле”, желанием действовать исключительно из засад. Якуты не без оснований обвиняли своих командиров в грубости, пьянстве, грабежах и убийствах мирных жителей.
Раньше, обороняясь, повстанцы запирались в юртах[19], а после того, как расстреливали все патроны, позволяли красноармейцам поджечь стены и погибали в огне или перерезали себе горло, чтобы не попасть в руки врага живыми. Сейчас они стали сдаваться в плен. Слово “белобандитизм”, которое раньше использовали как пропагандистское клише, насыщается реальным смыслом. В повстанческом движении все отчетливее проступает бунт архаики против олицетворяемой русскими цивилизации: опустошаются лепрозории (здесь издавна свирепствовала проказа), в школах сжигаются книги и учебные пособия, а в Чурапче сожжены и само здание школы, и лучшая в области сельская больница. Громче начинают звучать призывы, чей смысл можно передать фразой “Якутия для якутов”.
Коробейников особой жестокостью не отличался, но на закате восстания к нему прибился семеновский полковник Дуганов с группой одичавших беглецов, именовавших себя “дугановскими волками”. Они пришли сюда из Забайкалья с целью разжиться “готовой пушниной из складов и амбаров” и принесли с собой озверение тамошней смуты, свидетелем которого в сожженной унгерновцами Кулинге стал Строд. В Чурапче, обвинив крестьян в сочувствии красным, дугановцы насмерть забили полтора десятка человек колотушками для сбора кедровых орехов[20].
В июле Коробейников сумел собрать часть своей рассеянной по тайге “Народной армии” и дал Байкалову генеральное сражение у села Никольское. Он стянул сюда не то шестьсот, не то тысячу бойцов, но люди в одежде из “звериных шкур и кожи” не выдержали кавалерийской атаки и шрапнельного обстрела из орудий на пароходах. Кавалеристы, войдя в раж, рубили всех подряд, бегущие “скашивались пулеметным огнем”, тонули в протоке Лены, через которую пытались переправиться и спастись, хотя якуты, как правило, не умеют плавать. Вид поля битвы, усеянного полутора сотнями мертвых тел со страшными ранами от шашек, ужасал окрестных крестьян. По представлениям якутов, даже в двадцать лет мужчина еще остается ребенком, а многие из убитых были не старше этого возраста.
Рассказывали, будто Байкалов, не в силах прекратить бойню, лично застрелил какого-то опьяневшего от крови иркутского краскома, но это – легенда. Никаких угрызений совести командующий не испытывал. “Никольский бой показал, что большевики – не толстовцы”, – писал он с напором, словно кто-то в этом сомневался, а поскольку национальная интеллигенция и даже некоторые из членов РКП(б) “ныли о якобы проявленной в никольском бою чрезвычайной жестокости”, Байкалову пришлось “посвятить анализу этого боя несколько собраний и дать ему правильное освещение”.
Бросив обоз и госпиталь, Коробейников отступил в Нелькан, но не удержался и там. В начале сентября остатки его армии приближались к морю по двум маршрутам: меньшая часть шла в Охотск, большая, в том числе Коробейников с Дугановым и кое-кто из якутских деятелей – в Аян, куда им удалось добраться лишь за пару дней до Пепеляева. Появление пароходов с Сибирской дружиной на борту стало для них настоящим чудом. О готовящейся во Владивостоке экспедиции они знали, но на ее прибытие давно не надеялись.
В Аяне. Сомнения
К скалам Аянского мыса корабли подошли во второй половине дня. Начинало смеркаться, но впереди не видно было ни огонька, берег казался безлюден. С шедшей впереди “Батареи” выслали шлюпку с разведчиками. По возвращении они доложили, что в поселке – свои, тогда оба судна двинулись в бухту.
Уже в сумерках Коробейников на лодке причалил к “Защитнику”. С ним вместе на борт поднялся его начальник штаба, капитан Николай Занфиров, до бегства из Якутска служивший в Народном театре на какой-то хозяйственной должности. Обоих пригласили в кают-компанию, где за чаем выяснилось, что помощь опоздала по меньшей мере на два месяца.
Перед Пепеляевым встал вопрос: высаживаться или плыть назад? На то и на другое решиться было одинаково непросто. Пятьсот человек пошли за ним на край света, предстояло сказать им, что он их обманул, пусть даже по неведению, обманувшись сам. Напрасно потрачены были громадные деньги, даром пропали труды двух месяцев, но воевать ради войны как таковой Пепеляев тоже не хотел.
“Мрачным мыслям генерала соответствовала надвигавшаяся темная осенняя ночь, – пытался Строд выразить его настроение в духе фольклорной баллады, где природа всегда откликается чувствам героя. – С последними лучами уходящего солнца в низины поползли седые облака холодного тумана. С моря потянуло пронизывающей сыростью, у берега зашумели, заплескались ворчливые волны”.
Утром 7 сентября, не отдавая приказа о высадке, Пепеляев съехал на берег, встретился с якутами из армии Коробейникова и беженцами, а после полудня в одном из жилых домов на южном берегу бухты провел совещание с участием Куликовского, генерала Ракитина, начальника информационно-политического отдела Афанасия Соболева и начальника штаба дружины полковника Леонова. Якутское областное народное управление (ВЯОНУ) представляли Борисов, Антипин и Филиппов, общественность – купец Галибаров и еще трое-четверо коммерсантов, “Народную армию” – Коробейников и Занфиров. Дуганова, запятнанного откровенным бандитизмом, Пепеляев не пригласил, и все время, пока продолжалось совещание, тот простоял под дверью в тщетной надежде, что его позовут.
Вести протокол поручили Соболеву. Тот, видимо, ролью секретаря был недоволен и отнесся к делу формально: выступления участников совещания фиксировал вкратце, вдобавок позволял себе иронические ремарки прямо в тексте.
Сам Пепеляев позднее писал: “Я поставил вопросы: нужна ли наша помощь? Не будет ли это напрасной жертвой? Ответили: народ ждал”.
Ответы не ограничились этой взывающей к его совести фразой. Галибаров, например, сообщил, что “население ушло в лес, побросало хозяйство”, и “только 10–15 процентов против нас, остальные ждут ваше превосходительство”.
Его поддержал Коробейников: “Когда я отступал, все спрашивали, вернусь ли, будут ли ружья. Якуты отдавали последнее… Общественные деятели из населения заявляли, что в случае нашего возвращения по-прежнему встретят с энтузиазмом”.
Прочие говорили то же самое. Пепеляев довольно легко дал убедить себя, что “еще много партизанских отрядов находится в тайге, и стоит двинуться дружине вперед, как она будет усиливаться новыми добровольцами”.
Когда он согласился начать поход, Борисов не мог сдержать эмоций: “Как мы были печальны вчера! А благодаря вашему приезду я никогда не был такой радостный!”
Галибаров, не смущавшийся ни патетикой, ни лестью, воскликнул: “Мы воскресли! Кричим «ура»! Я готов работать, как прежде… Отдам всё на борьбу с большевиками!”
В ответ Пепеляев изложил свою программу: “Мы пришли не навязывать свою волю, свою власть, и не будем насаждать ни монархии, ни республики. Поможет Бог, отстоим область, тогда само население скажет, чего оно хочет… Для меня важно, чтобы инициатива движения была взята местными людьми. Я бы желал сосредоточить в своих руках только распоряжение военными силами”.
Соболева дополняет Василий Никифоров-Кюлюмнюр, якутский журналист и ученый, автор первой национальной пьесы “Разбойник Манчары” – о легендарном таежном Робин Гуде середины XIX столетия. На совещании он не присутствовал, но знал подробности от кого-то из участников.
По его словам, Пепеляев обещал “повести борьбу не так, как Коробейников, который не с коммунистами воевал, а воевал с якутским народом, производил расстрелы безоружных людей, сжигал дома, а встречи с вооруженными силами избегал”.
О том, что приказы о расстрелах отдавал и сам Коробейников, Пепеляеву утром сообщил священник-якут из повстанческой армии. Это настроило его против корнета. Он еще не знал, что были случаи, когда и якуты убивали своих русских командиров. Поражение выявило скрытый прежде национальный антагонизм.
Под конец совещания опять выступил Коробейников. По словам Никифорова-Кюлюмнюра, Коробейников “лепетал, что он все-таки воевал, делал большое и нужное для населения дело, давал какие-то сбивчивые объяснения”, а когда Пепеляев велел ему говорить яснее, растерялся и сказал, что поскольку Якутское народное управление передало ему “полноту военной и гражданской власти”, он теперь военную власть передает Пепеляеву, а гражданскую – Куликовскому, и “сделал руками жест в их сторону”. Тот и другой ответили “поклонами с иронической улыбкой”.
Соболев не без ехидства это подтверждает: “С полнотой власти Коробейников расстался с помпой и театральными жестами”.
Объясняя, почему он отправился в Якутию, Пепеляев писал в своей исповеди, единственными читателями которой стали сотрудники ГПУ и следователи военного трибунала: “Не жажда власти и богатства влекла меня. Я знал, какие трудности, гибель, может быть, нас ждут, но мы идем к народу, и не мы начинаем войну, она уже идет со страшной жестокостью. Неужели отказать в помощи лишь потому, что нас мало? Сказать: мы вели борьбу, вы нас не поддержали, так пусть вас бьют, мы будем смотреть, сидя за границей? Так я поступить не мог”.
В Аяне ситуация была схожей, но сейчас приходилось думать и о том, что опоздавший всегда смешон, возвращение без попытки вступить в борьбу скажется на его репутации и, значит, на всей последующей жизни вплоть до отношений в семье. За последние два года он на опыте узнал, каково это – жить с разъедающей душу памятью о проявленной слабости, с сознанием упущенных возможностей, которые, как известно, мстят за себя уже одним тем, что не повторяются.
“Нужно пройти через это для оправдания жизни, для оправдания будущего счастья, спокойствия совести”, – через месяц напишет он жене, объясняя свое решение начать поход.
А под Новый год в его дневнике появится запись: “Счастья нет для меня, и его не будет, это нужно сказать раз и навсегда. Я всегда это чувствовал, терзался, мучился, доходило до исступления несколько месяцев назад, теперь же говорю спокойно. Только долг – как он силен во мне!”
К зиме он утратит надежду с честью выдержать все испытания, чтобы обновленным вернуться в прежнюю жизнь и сделать ее иной, лучшей. В Аяне такая надежда еще была. Уйти отсюда ни с чем значило признать поражение и смириться с судьбой. Обратный путь для него – дорога в царство теней.
Высадка началась сразу после совещания и закончилась через сутки. Было пасмурно, высаживались на лодках под моросящим дождем. 8 сентября Коробейников построил на берегу своих якутов и тунгусов, а Пепеляев – добровольцев. Куликовский сказал речь, Малышев сделал несколько фотографий (они не сохранились, но Байкалов их видел). Из-за плохой погоды церемония прошла без должной торжественности. На следующий день батальон полковника Андерса выступил на запад, в направлении села Нелькан, год назад ставшего колыбелью Якутского восстания, а Пепеляев с большей частью дружины задержался в Аяне еще на двое суток.
Первым делом он на “Защитнике” послал в Охотск, на пятьсот верст севернее, генерала Ракитина и полковника Худоярова с двумя десятками добровольцев. Они должны были сформировать отряд из ушедших туда повстанцев и самостоятельно наступать на Якутск через сёла Татта и Чурапча.
Прежде чем покинуть Аян, Пепеляеву нужно было решить, что делать с Коробейниковым. По Никифорову-Кюлюмнюру, “генерал не церемонился с предшественником и вел себя по отношению к нему крайне неуважительно”, однако он, видимо, сожалел, что несправедливо обвинил его в уклонении от встреч с противником. Корнет был ему не нужен, более того – вреден; за ним тянулся шлейф неудач и насилий, он компрометировал бы в глазах якутов самого Пепеляева, тем не менее Коробейникову и Занфирову предложено было принять участие в походе. Занфиров согласился, а Коробейников отказался, ссылаясь “на усталость и на то, что в связи с перенесенным нуждается в серьезном лечении”.
Все-таки Пепеляев не ставил его на одну доску с Дугановым, которому он такого предложения не сделал. Дуганова и его людей на “Батарее” спровадили во Владивосток; с ними отправились те офицеры, кто больше воевать не хотел, в том числе Коробейников. О его дальнейшей судьбе сведений нет. В Маньчжурии с ним никто никогда не встречался, но и в Советской России его больше не видели. Можно предположить, что из Владивостока он с флотилией адмирала Старка уплыл в Китай, затем – на Филиппины, а оттуда, вместе с большинством моряков и беженцами – в США, но это не более чем домысел. Ровно на год “отчаянный мальчик” вынырнул из безвестности, чтобы исчезнуть снова, теперь уже навсегда.
Рассказы о вывезенном им с собой пуде золотого песка – миф; на дорогу он получил от Куликовского пятьсот рублей, сумму не слишком большую, но и не ничтожную. Пепеляев на год жизни оставил жене с двумя детьми всего вдвое больше.
Дуганову и его спутникам не дали ничего. Поговаривали, будто им удалось прихватить с собой пушнину, но Никифоров-Кюлюмнюр уверяет, что при посадке на пароход ее у них отобрали.
11 сентября Пепеляев с главными силами двинулся вслед за Андерсом. Куликовский, якутские деятели и ряд офицеров остались на месте. Им предстояло наладить снабжение дружины, встретить вторую партию добровольцев под командой Вишневского и организовать переброску на запад привезенных ими грузов. Вошедший в эту группу Кронье де Поль стал начальником кузницы, избежав тягот похода как инженер и специалист, а почему от них был избавлен поручик Малышев, понять сложнее. Возможно – по состоянию здоровья. Пепеляев взял себе нового адъютанта, а друга оставил в Аяне на странной для юриста и, похоже, фиктивной должности заведующего “моторно-технической частью”. Может быть, поэтому при наличии фотоаппарата фотохроники Якутского похода не существует.
В Якутии, кроме Пепеляева, дневники вели Андерс, Вишневский и “начполитотдел” дружины Афанасий Соболев, впоследствии сдавшийся в плен красным. Его тетрадь, как блокнот Пепеляева, должна была попасть в следственное дело, но там ее почему-то нет. Есть лишь краткие выписки с пересказом отдельных мест.
Приведена, в частности, запись Соболева о том, как в Нелькане георгиевские кавалеры дружины собрались “на чашку чая” у полковника Сивко. Многие служили в Средне-Сибирском корпусе и за столом вспоминали Восточный фронт, ругали контрразведчиков, говорили, что в Перми контрразведка “вывела в расход 200 человек”. Кто-то рассказал историю из декабря 1918 года: на глухом железнодорожном полустанке, в лесу, сибиряки расстреляли партию пленных, после чего заночевали в единственном находившемся поблизости доме. Никто не заметил, что один из красноармейцев лишь притворился мертвым. Когда все ушли, он хотел скрыться, но был страшный мороз, а перед расстрелом их раздели до белья, и этот несчастный, чувствуя, что замерзает, в полночь явился в занятый расстрельной командой дом, “перепугав всех до полусмерти”. Придя в себя, хозяева напоили гостя чаем, позволили до утра поспать в тепле, а утром все-таки расстреляли.
Об этом случае Пепеляев мог и не знать, но, конечно, слышал о других, подобных. Отказ от идеи возмездия он продекларировал еще в 1921 году, в интервью харбинскому “Русскому голосу”: “Не злобу, месть и расправу, а забвение прошлых обид должно нести истинно народное движение”.
Этот принцип – основа его приказа по дружине, изданного перед выступлением из Аяна:
Сдавшиеся с оружием или без оружия никаким преследованиям не подвергаются, хотя бы и состояли начальниками частей Красной Армии.
Взятые в бою комиссары и коммунисты задерживаются до суда Народной власти.
Все служащие советских учреждений остаются на своих местах.
Никакой военный начальник ни к кому не имеет права применить смертную казнь.
Никаких истязаний над пленными не допускать, помнить, что мы боремся с властью, а не с отдельными лицами.
Раненым красноармейцам подавать медицинскую помощь”.
Самое невероятное, что этот приказ исполнялся неукоснительно. За все десять месяцев, в течение которых Пепеляев находился в Якутии, здесь не был расстрелян ни один человек.
Дитерихс тоже отменил смертную казнь, но в Приморье это стало скорее благим пожеланием, чем действующей нормой. Чтобы в условиях Гражданской войны с ее привычной жестокостью такой приказ не остался только демонстрацией добрых намерений, автору нужно было обладать авторитетом, какого Дитерихс не имел.
Призыв к милосердию для Пепеляева не был тактическим ходом, как это пытались представить его противники. Он всегда вел себя так же и на суде говорил, что за три года Гражданской войны в Сибири не подписал ни одного смертного приговора.
Белое и зеленое. Джугджур
В 1835 году кокандский хан послал в дар Николаю I слона. Его привели в Омск, а сопровождать элефантуса в Петербург поручили хорунжему Николаю Потанину с несколькими казаками. Ему не хотелось надолго покидать молодую жену с новорожденным сыном Гришей, и он взял их с собой. Зиму встретили в пути. Слон, защищенный от сибирских морозов теплыми попонами, шел пешком, но однажды по неизвестной причине вдруг остановился и дальше идти не пожелал. Пока погонщики пытались заставить его продолжить путь, Потанин решил проведать ехавшее в санях семейство. Жена мирно спала под шубами, но сына возле нее не было – выпал по дороге. Казаки бросились назад, и когда увидели в сугробе узелочек с ребенком, оказалось, что мальчик невредим, не замерз и даже не проснулся.
Под старость Григорий Николаевич Потанин с удовольствием рассказывал эту полумифическую историю: вовремя заупрямившийся слон олицетворял собой благосклонный к маленькому Грише дух Азии. Спасенный им младенец стал выдающимся исследователем Монголии, натуралистом, фольклористом, антропологом, а еще – создателем учения, под флагом которого Пепеляев воевал с красными на Урале и в Сибири. Флаг был двуцветный, бело-зеленый. Линия раздела шла по диагонали, зеленый треугольник – вверху. Белый цвет символизировал законность, зеленый – вольный крестьянский труд, но ассоциировались они со снегом и тайгой. В 1918 году Сибирское правительство утвердило этот флаг в качестве регионального и учредило орден “Освобождение Сибири”, выдержанный в той же цветовой гамме: материалами для него послужили серебро и малахит[21]. Потанин и Пепеляев могли бы стать его первыми кавалерами, но наградить им никого не успели, изготовили только опытные образцы, а при Колчаке сама идея такого ордена сделалась еретической.
Потанин и барнаулец Николай Ядринцев рассматривали Сибирь как колонию России, которой следует если не отделиться от нее, как США отделились от Англии, то получить автономию. В 1865 году они были главными обвиняемыми на процессе “сибирских сепаратистов”; Потанин девять лет провел в тюрьмах и в ссылке, был помилован по ходатайству Географического общества и после многолетних скитаний по Центральной Азии, пережив умершую в одной из экспедиций жену, уже стариком поселился в Томске, читал лекции в университете, писал мемуары. Пепеляев не был с ним знаком, но в каком-нибудь собрании или просто на улице мог видеть этого теряющего зрение, окруженного всеобщим поклонением старца в темных очках.
“Времени зарождения идеи сибирского областничества я не знаю, – говорил Пепеляев, – мне известно лишь, что причиной этого течения общественной мысли было бесправное положение Сибири при царском режиме. Центр смотрел на Сибирь как на место ссылки политической и уголовной, в Сибири не было земств, хозяйничали военные наместники и т. д. Основателем считают Потанина, теперь уже умершего – кажется, в 1920 году”.
До войны Пепеляев был слишком юн, чтобы увлечься его идеями, а когда вернулся домой с фронта, 83-летний Потанин почти ослеп и редко показывался на людях. Зато Пепеляев был знаком с входившим в ближайшее потанинское окружение редактором газеты “Сибирская жизнь” Александром Адриановым[22]. Яростный противник большевиков, за что они потом его расстреляли в возрасте шестидесяти шести лет, Адрианов на областнической платформе создал в Томске подпольную организацию из офицеров и студентов. Пепеляев был ее военным руководителем и впоследствии, отвечая на вопрос о связях с Потаниным, сказал: “Я знал, что он будет во главе”.