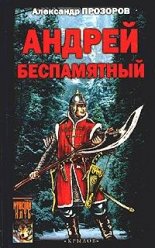Баудолино Эко Умберто

Баудолино спешил выговориться, выплеснуть, что накопилось. – Вот, государь Никита, – сказал он, вытаскивая кожаную ладанку, которую носил на шее, и вынув пергамент. – Это начало моей истории.
Никита, хоть он и умел разбирать латиницу, попытался расшифровать письмо, но у него ничего не вышло.
– Что это? – спросил он тогда. – То есть на каком языке написано?
– На каком языке, не знаю. Ладно, давай начнем сначала, государь Никита. Ты, верно, знаешь, где находится Януа, то есть Генуя, и Медиоланум, или Майланд, как зовут его тевтонцы, они же германцы, они же, по вашему выражению, алеманы. Так вот, на середине пути между этими двумя городами протекают две реки, Танаро и Бормида, а между рек обретается равнина, на которой, когда нет такой жары, что можно печь на каждом камне яйца, тогда стоит густой туман, а нет тумана, значит, лежит снег, а если нет снега, то тогда повсюду лед, а если нету льда, то все равно морозно. Там я и родился, в ланде, носящей имя Маринканской Фраскеты, на широком болоте между двух рек. Не сравнить с побережием Пропонтиды…
– Да уж я думаю.
– …но по мне, хорошее место. Там такой воздух задушевный. Я пространствовал много, государь Никита, может быть, до Великих Индий…
– Как, ты не знаешь?
– Нет, не знаю точно, до какого я добирался места. Несомненно, до рогатых людей и до тех, у которых уста на брюхе. Я неделями блуждал по бескрайним пустыням, странствовал среди лугов, простиравшихся до самого крайнего огляда, и всегда ощущал себя в плену у чего-то, на что не хватало воображения. А вот в моих краях, когда гуляешь по лесам в тумане, ты будто все еще в животе у матери, ничего не боишься и совершенно свободен. Да и когда тумана нет… прогуливаясь, захотел попить – отломал сосульку, замерз, подышал на пальцы, на руках постоянно geloni…
– Это те… которые смешат?
– Нет, не gheloioi! В вашем языке просто нет пригодного слова. Geloni – болячки на пальцах, на костяшках кулаков, образуются они от стужи и зудят, а если расчесывать, нарывают…
– Но ты их вспоминаешь как будто с приязнью…
– Холод приятен.
– Каждому нравится место, где он родился. Рассказывай.
– Вот, там прежде обитали римляне, римляне римские, те, которые говорили на латыни, а не те римляне, которыми называете себя вы, говоря при этом по-гречески, в то время как мы вас зовем ромеи, или же greculi… полагаю, ты не обиделся. Потом империя тех римлян развалилась, и в Риме остается только папа, а по Италии распространились разные народы с разнообразными своими языками. У нас во Фраскете говорят одним манером, а неподалеку, в Тортоне, уже другим. Путешествуя с Фридрихом по Италии, мне привелось слышать нежные языки, с которыми при сравнении наш фраскетский вообще не язык, а лаянье псов. Никто на нем ничего не пишет, у нас для письма употребляется латынь. Знаешь, марая вот этот пергамент, я, поди, вообще впервые попытался записать, как разговаривают наши люди. Потом я выучился и перешел на латынь.
– Но тут-то что все-таки написано?
– Как видишь, я, живя у книжников, даже понимал летосчисление. Я пишу, что идет декабрь года Господня 1155. Правда, сколько мне самому лет, я не знал. Отец говорил двенадцать, у матери выходило не меньше тринадцати. Видимо, от усилий, что она истратила, растив меня во страхе Божием, годы, на ее подсчет, умножились. А когда я писал это, мне и подавно близилось к четырнадцати. С апреля по декабрь я учился писать. Учился как бешеный. С той поры как император Фридрих забрал меня и мы уехали, я учился где только мог: на поле, в палатке, в любых военных развалинах. В основном я учился на табличках, редко когда на пергаментах. Я уже начинал привыкать, живя при Фридрихе, к скитальчеству. Мы сидели на месте только несколько месяцев, да и то лишь зимой, а остальную часть года путешествовали и каждый день ночевали на новом привале.
– Да, но что же тут все-таки рассказано?
– В начале того года я еще жил при отце и матери, двух-трех скотах и наделе земли. Один отшельник в наших краях обучил меня чтению. Я бродил по болотам и лесам, воображал себя чем попало, видел в тумане единорогов и, как я утверждал, святого Баудолина…
– Ничего не знаю об этом святом. Он взаправду тебе являлся?
– Это святой местного значения, при жизни был епископом Вилла дель Форо. Взаправду являлся или нет, это особый вопрос. Видишь ли, сударь Никита, трудность моего положения состоит в том, что я никогда не проводил различий между увиденным и тем, что хотел увидеть…
– Ты не один такой…
– Да, но со мной каждый раз получалось, что стоило мне только объявить: я видел то-то, или же: я нашел письмо, гласящее то-то (а может, письмо я сам же и написал), люди как будто лишь этих моих слов и ждали. Понимаешь, если всякий раз, когда лепишь наобум что приходит тебе в башку, люди объявляют, что это самая истинная истина, начинаешь как-то и ты верить. Я разгуливал по Фраскете, в каждой роще встречал святых и единорогов, и когда повстречал императора Фридриха, то, не зная, что он и кто он, заговорил на его родном языке и сказал ему, будто от святого Баудолина слышал, что ему суждено захватить Тортону. Я сказал это ему, одному ему в порядке любезности, но для Фридриха было полезно, чтобы я повторил это всем и каждому, прежде всего послам из Тортоны, дабы они увидели, что и святые им противятся, и для того выкупил меня у родителя. Для отца были ценны не монеты, которые дал император, а что стало одним едоком меньше. Так моя жизнь поменяла направление.
– Ты сделался его пажом?
– Скорее сыном. В те времена у Фридриха не было еще собственного потомства, и думаю, он ко мне привязался. Я говорил ему то, что другими почтительно замалчивалось. Он обращался со мной как с родным, хвалил за учебные каракули, за неумелый счет, для которого я пользовался пальцами, за то, что я умел запоминать исторические подробности, касавшиеся его отца и отца его отца… Думая, что я не смогу понять, он даже со мною откровенничал…
– Любил ли ты приемного отца больше чем родного, или тебя привлекало его могущество?
– Сударь Никита, до определенных пор я не задумывался, люблю ли своего кровного родителя Гальяудо. Я только не хотел попадать под тяжелую руку и тяжелую палку, что, полагал я, было естественно для детища. Что я любил его, я узнал только когда его не стало. До самой смерти, думаю, я ни разу не обнял отца. В объятия матери я, конечно, прибегал, чтоб выплакаться, но бедная женщина опекала столько скотины, столько птицы, что на меня ее уже не хватало. Фридрих имел превосходный рост, лицо бело-розовое, а не дубленое, как у моих деревенских родичей, волосы и бороду имел рдяно-пламенные, и длинные пальцы, и тонкие руки, ногти имел ухоженные, сам держался уверенно и внушал уверенность людям, был весел, и был решителен, и внушал решительность и веселие, был смелым и все вокруг становились смелыми… Львенком был тогда я, он был сильным львом. Он бывал и суров, но не с теми, кого любил: с теми нежен. Я любил Фридриха. Это был первый человек, который слушал, что я ему говорил.
– Выслушивал тебя как глас народа… Благ господин, не приклоняющий свой слух к одним придворным, но любопытствующий о думах граждан…
– Да, но я не понимал, кто я и где я. С тех пор как я встретил императора, с апреля и до месяца сентября императорское войско дважды промерило маршем Италию, в первый раз от Ломбардии до Рима, второй раз в обратном направлении, по змееобразно извитому пути от Сполето на Анкону, потом в апулийские области и снова в область Романьи, затем в Верону, в Тридент, в Бозен, перевалило через горный хребет и наконец возвратилось в Германию. Двенадцать лет, проведенных в болоте между левой и правой рекою… а на тринадцатый меня вбросили в середину универса.
– По твоему тогдашнему представлению.
– Естественно! Я понимаю, сударь Никита, что центром универсума являетесь вы! Но мир гораздо шире вашей империи. Есть Ultima Thule и есть страна гибернов. Конечно, по сравнению с Константинополем Рим – лишь гора руин, а Париж – грязная деревня. Но кое-что кое-когда случается и на широких просторах, где не все говорят по-гречески. Где в одной из стран, чтобы выразить согласие, произносят: ок.
– Ок?
– Ок.
– Удивительно. Продолжай же.
– Продолжаю. Я повидал целую Италию, новые места, новые лица, облачения, не виданные мною, дамаски, вышивки, золототканые епанчи, броню, оружие, я слышал речи, которые с большим трудом воспроизводил… каждый день иные. Припоминаю довольно смутно коронование Фридриха железной короной итальянских королей в Павии, потом поход по Италии так называемой citeriore, «посюсторонней». Долгий марш по францигенской, via francigena, то есть пилигримской на гребне Апеннин дороге вплоть до Сутри, где император встретился с папой Адрианом. Коронование в Риме…
– Так где все-таки был коронован твой василевс, или император, как вам его угодно называть, – в Риме или в Павии? И зачем он короновался в Италии, если он василевс аламанов?
– Тогда мы начнем совсем с начала, сударь Никита, потому что у нас, латинян, все не так просто, как у вас тут, у ромеев. У вас кто выколет глаза очередному василевсу, сам занимает его место, все очень рады, и даже цареградский патриарх пляшет под новую монаршую дудку, в обратном случае василевс выколет очи и патриарху…
– Ну, не совсем уж так…
– Как не совсем? Когда я прибыл, мне сразу объяснили, что Алексей Третий взошел на трон, ослепив законного василевса, своего брата Исаака.
– А что, у вас правители не убирают своих предместников ради захвата их трона?
– Да, но у нас их убирают в бою, или тайной отравой, или кинжалом.
– Ну видите. Вам, варварам, неведомы щадящие методы. И вообще Исаак родной брат Алексея, а братьев нельзя убивать.
– Понятно. Можно выкалывать глаза истинно по-братски… У нас иначе. Император латинян, будь он и не латинянин… а ни один из императоров не латинянин со времен Великого Карла… император латинян – это прямой наследник римских кесарей. Римских из Рима, я имею в виду, не римских из Константинополя. Но для вящей надежности его должен короновать римский папа, потому что законы Христа теперь у нас сильнее законов лжи и неверия. Однако чтобы римский папа короновал императора, этого императора должны признать итальянские города, а у каждого города свой норов, значит, первым делом этот император должен стать королем Италии и соответственно короноваться, но, понятно, только при одном условии: что его прежде выберут тевтонские принцепсы. Это тебе ясно?
Никите давно было ясно одно: что латиняне, хоть они и варвары, все закручивают хитрее некуда. Ничего не смысля в тонкостях и дистинкциях богословия, они доходят до невоспроизводимой казуистики, когда дело касается гражданских законоуложений. И во все те столетия, что были потрачены византийскими ромеями на жаркие разборы, в чем состоит природа Господа, безотносительно к проблеме власти (власть продолжала исходить прямо от Константина), люди Запада оставляли теологию попам из Рима, а все имеющееся время употребляли на то, чтоб травить и потрошить друг друга, выясняя, есть ли еще над ними император и кто он. С тем результатом, что настоящего императора так и не имели.
– Значит, Фридрих нуждался в римской коронации. Думаю, она проходила помпезно…
– Да не так чтобы очень. Во-первых, Святой Петр в Риме, по сравнению с вашей Святой Софией, это клетушка, причем достаточно облезлая. Во-вторых, положение в Риме в те дни было неопределенное. Папа окопался около Святого Петра и собственного замка, а по ту сторону реки римляне во всем городе хозяйничали как хотели. В-третьих, невозможно было понять как следует, папа ли хамил императору или император хамил папе.
– В каком смысле?
– В смысле, что если послушать принцепсов и епископов государева престола, получалось, все разъярены тем, как папа обходится с императором. Коронации производят по воскресеньям, а эту назначили на субботу. Помазание на императорство делается у главного алтаря, а Фридриха помазали у бокового, и не на челе, как мазали всегда всех, а между плечами и лопатками, и не миром, а соборованным елеем… ты, может быть, не чувствуешь различия, я, честно говоря, тоже тогда не чувствовал, но при дворе все ходили угрюмые как я не знаю что. Я ожидал, что и Фридрих озлобится, но он, наоборот, умильничал перед этим папой, а бесился, судя по его поведению, сам папа, папа был зол, будто провалился какой-то план. Я спросил открыто у Фридриха, почему бароны такие кислые, а он веселый. Фридрих сказал, что если я бы разбирался в литургических символах, понимал бы, что мелкие детали прямо переворачивают суть дела. Ему, конечно, нужна была коронация, и не какая-нибудь, а папская, но как раз без особой помпезности, чтобы не казалось, будто он становится императором благодаря этому папе, потому что он императором и сам по себе уже является по решению германских принцепсов. Я сказал ему, что это здорово подстроено, папе отвели роль обыкновенного нотариуса, заверь-ка, пожалуйста, папа, тут мой договор со Вседержителем. Фридрих наградил меня щелчком и парировал: браво, ты умеешь верно описывать положения. Потом спросил, чем я был занят все эти дни в Риме, пока он возился с церемониями и потерял меня из виду. Я ему: известно, какие вы тут разводили церемонии. А надо знать, что римлянам (римлянам римским, как ты уже, видимо, понял) не понравилось, что Фридрих коронуется в Святом Петре, потому что их римский сенат, считавший себя главнее папы, предлагал Фридриху короноваться на Капитолии. Фридрих от Капитолия отказался, потому что не хотел, чтоб говорили, что он принял коронование от народа. Тогда не только германские принцепсы, но и французский с английским короли сказали бы, хорошенькое помазание от пресвятой черни! Помазание от папы – другое дело, серьезное дело. Впрочем, и на этом заковырки не кончались, но я это понял лишь потом. Германские принцепсы как раз начинали ссылаться на translatio imperii, то есть что они непосредственно наследуют римским кесарям. Следовательно, если Фридриха коронует папа, значит, наследование принцепсами власти кесарей утверждается викарием Христа на земле, и не имеет значения, где этот викарий живет, в Эдессе или в Регенсбурге. Если же Фридрих бы позволил увенчать себя сенату и народу римскому, это означало бы, что империя все еще имеет в Риме средоточие и ни о какой translatio нет и речи. И откушайте, как говаривал мой родитель Гальяудо. Естественно, на такое император согласиться не мог. И вот поэтому как раз во время большого коронационного пиршества разозленные римляне перебрались через Тибр и поубивали не только сколько-то там священников, что было делом вполне повседневным, но и сколько-то людей императора. Тут Фридрих не взвидел свету от бешенства и скомандовал перетопить и перерезать всех без изъятия, и в этот день в Тибре обреталось больше мертвецов, нежели рыб. Примерно к вечеру римляне поняли, кто здесь начальник, но если говорить о празднике, праздник вышел не ахти какой. От этого и нерасположение Фридриха к городам посюсторонней Италии. От этого, когда на исходе июля он подошел под Сполето, потребовал гостеприимства и платы, а сполетские жители как-то замешкались, Фридрих сорвал на них остатки римского бешенства и устроил такой разнос, что константинопольский в сравнении с ним – детское игрище. Знаешь ли, сударь Никита, императору положено вести себя по-императорски, не распускать нюни… Я немалому научился в эти месяцы. За разгромом Сполето последовала встреча в Анконе с византийскими посланниками, потом мы вернулись в верхнюю Италию и дошли до отрогов Альп, которые Оттон называл Пиренеями, и там я впервые в жизни увидел заснеженные горные вершины. Тем временем каждый день без устали Рагевин обучал меня письму…
– Тяжелое занятие для юноши.
– Нет, не тяжелое. Конечно, ежели до меня ну просто уж совсем никак не доходило, каноник Рагевин умел поддать и кулаком по башке, но я сносил это с легкостью, после родительских затрещин. А вообще все они так и глядели мне в рот. Если я провозглашал, что увидел сирену в море, после того как император отрекомендовал меня в качестве святовидца, люди верили в эту сирену и нахваливали меня за правдивые рассказы!
– Это научило тебя взвешивать слова.
– Наоборот, это отучило меня их взвешивать. Что бы я ни сказал, все всегда воспринималось как истина, так как было сказано мною. По пути в Рим один священнослужитель, Коррадо, описал мне чудеса этого города: рассказал про семь волшебных истуканов Капитолия, обозначавших дни недели, каждый из истуканов умел-де дивным звоном возвестить, ежели становилось неспокойно в одной из семи провинций империи… рассказал о бронзовых самодвижущихся статуях, о дворце, где заколдованные зеркала… Потом мы доехали до Рима. В день, когда на Тибре было смертоубийство, я решил уйти от этих дел подальше и пошел один по городу. Бродил, бродил, так ничего и не выбродил: видел только баранов между античных руин, видел под портиками простолюдин, переговаривавшихся по-иудейски и продававших свежую рыбу, но никаких mirabilia не обнаружил, кроме одной конной статуи на Латеране, да и та оказалась не бог весть какой красоты. Тем не менее, когда я вернулся и был всеми расспрошен, что хорошего в Риме, – как ты считаешь, можно ли было в ответ доложить, что из всех красот только и имеется в натуре, что бараны между руин и руины между баранов? Мне бы даже не поверили. Так что я перепел все байки о чудесах, которых перед этим наслышался, и еще припел от себя, например, что в Латеранских палатах обретается мощехранилище золотое и с бриллиантами и в мощехранилище лежат пуповина и обрезанная крайняя плоть Христа Господа. Ну, народ совсем развесил уши и приговаривал: обидно, что пришлось нам все это время оставаться и резать римлян и не поглядели мы на mirabilia. Потом не проходило дня, чтоб я не слышал о mirabilia Рима, слышал в Германии, слышал в Бургундии и даже здесь… именно то, что я в свое время понапридумал для своих однополчан…
Между тем возвратились генуэзцы, переодетые монахами, и привели под колокольное бряканье табунок каких-то существ, замотанных с головой в белесую грязную рвань. Это были: беременная жена Никиты с меньшим ребенком на руках, прочие мальчики и девочки, очень красивые, а также несколько слуг и родственников. Генуэзцы провели всю компанию через город под видом прокаженников, и пилигримы с ужасом отскакивали от этого шествия.
– Ну как они могли поверить? – надсаживался от хохота Баудолино. – Прокаженные – ладно, но уж вы-то, даже в этих балахонах, какие из вас монахи!
– Со всемерным почтением скажу, крестоносцы малость олуховаты, – отвечал Тарабурло. – Вдобавок просидевши тут изрядное время, кое-как бормотать по-гречески и мы приловчились. Шли, распевали kyrieleison pigh pigh, повторяли эти слова вроде литании, а пилигримы отскакивали, крестились, пальцами показывали рога и хватались за причинные части.
Один служитель поднес Никите шкатулку и тот удалился в другой конец комнаты, отмыкая. Вернувшись, он дал несколько золотых монет хозяевам дома, на что те рассыпались в благодарностях и провозгласили, что, сколько потребуется, истинный распорядитель под этой крышей – их гость. Большую семью расселили в квартирах по соседству, в довольно грязных переулках, куда ни одному латинянину не пришло бы в голову идти грабить.
Теперь спокойный, Никита вновь обратился к Певере, по виду – главному генуэзцу, и сказал, что и в тайнике не желает отказываться от приятных повседневных привычек. Город горит, поэтому гавань полна купеческих кораблей, подходят и лодки рыбаков, полные улова, но все стоят в проливе Золотой Рог, не могут причалить к сходням и выгрузить товар на склады. Располагая деньгами, можно закупать по порядочным ценам все, что необходимо для удовлетворительной жизни. В отношении готовки, один из вызволенных домочадцев, свояк Никиты Феофил, – прекрасный кулинар. Он составит перечень припасов, которые нужны… Так все уладилось, и после полудня Никита смог угостить Баудолино едой, приличествовавшей логофету. Жирный козленок, шпигованный чесноком, а также репчатым луком и луком-пореем, под соусом из маринованной рыбы.
– Более двух столетий назад, – сказал Никита, – в Константинополь прибыл послом от вашего короля Оттона один епископ, Лиутпранд, и принимал его наш василевс Никифор. Визит был очень неудачным. Лиутпранд составил отчет о поездке, где о нас, римлянах, говорилось, что мы грязны и грубы, невежественны и в обносках. Он возненавидел смоляное вино, а также наши кушанья, залитые, как он писал, негодуя, постным маслом. Но об одном-единственном блюде он отозвался с энтузиазмом, а именно о том, которое ты сейчас ешь.
Баудолино козлятина пришлась донельзя по вкусу, и он стал отвечать на следующие вопросы логофета Никиты.
– Живя в отряде Фридриха, ты освоил науку письма. Читать был способен и до этого.
– Да, но писать труднее. Писал я по-латыни. Дело в том, что когда император орал на своих солдат, он это делал по-немецки, а когда писал папе или двоюродному брату Язомирготту, то переходил на латынь, и на латыни были все документы. Мне трудно было составлять первые слова, я переписывал слова и фразы, смысла которых не понимал, но все же к концу первого года научился уже писать. Однако Рагевин не успел к той поре поучить меня грамматике. Я умел переписывать, но был не в состоянии самостоятельно изъясняться. Поэтому я начал писать на языке Фраскеты. Хотя… вправду ли это был язык Фраскеты? Скорее мешанина моих воспоминаний о разных наречиях, которые вокруг меня звучали. О языках жителей Асти, Милана, Генуи, тех, кто нередко друг друга не понимали. Потом в той местности мы выстроили город, и обитатели сошлись туда отовсюду, и вместе возвели башню и сообщались между собою на некоем смешанном наречии. Я думаю, что в значительной мере то было наречие, изобретенное мною.
– Ты выступил как омофет, – подвел тогда итог Никита.
– Не знаю слова «номофет», однако, вероятно, выступил. Как бы то ни было, следующие листы уже составлены на вполне сносной латыни. Я писал их в Регенсбурге, в тихом монастыре, при епископе Оттоне, и в тиши прихрамового сада жил среди множества листов, которые мною читались… Но я учился. Я не только читал. Присмотревшись, можно увидеть, что пергамент плохо счищен и через мой текст проступают чужие строки. Я был действительно канальей в юные годы. Крал материал у мастера. Двое суток отцарапывал текст, который считал античным, готовя себе писчую поверхность. Вскоре вслед за тем Оттон забеспокоился, не находя первого списка своей «Хроники», или же «Истории о двух царствах», над которой он трудился больше десятилетия. Епископ стал винить бедного Рагевина, что тот-де потерял сочинение в странствиях. Через два года он нашел силы воспроизвести заново этот труд по памяти. А я работал при нем писцом. Я не сознался, что первый список этой Оттоновой «Хроники» соскреб с пергамента я. Как видишь, есть на свете воздаяние. Ведь я тоже утерял свой труд, свою «Хронику», но не способен воспроизвести ее. Однако знаю, что пиша вдругорядь, Оттон очень много переменил…
– Что он менял?
– Когда читаешь «Хронику» Оттона, то есть историю всего мира, замечаешь, что о мире и о живущем в мире человечестве он отзывается нелестно. Мир, по его теории, зачался, может быть, и удачно, но вслед за тем начал портиться: мир стареет, mundus senescit, и до конца остается считанное время… Но именно в тот год, в который Оттон решил снова взяться за «Хронику», император потребовал восславления его геройских свершений, и тогда Оттон начал отдельное сочинение «Деяния Фридриха», которое не закончил, поскольку умер меньше чем через год после этого, и завершал «Деяния» Рагевин. Невозможно, описывая подвиги своего монарха, не провозглашать, что с его восходом на трон началась новая эпоха, не тяготеть к historia iucunda…
– Можно писать биографии своих императоров и не отказываться от критики и объяснять, как и почему они близили собственную гибель…
– Ты, может, и можешь, государь Никита, но Оттон не мог. Я тебе хочу объяснить, как обстояло дело и почему этот достойный муж одной рукой восстанавливал «Хронику», в которой будущее мира рисовалось грустным, а другой писал «Деяния», в которых будущее мира рисовалось светлее некуда. Думаешь, проблема только в разночтениях первого и второго текстов? Если бы только в этом… Я, увы, склонен думать, что в первом варианте «Хроники» будущее мира изображалось как совсем напрочь трагическое. Но чтобы смягчить противоречия на новом этапе писательства, Оттон во втором списке сделался гораздо снисходительнее к нашему миру. И все это на моей совести! Ведь это я сцарапал первую версию. А останься, может, первый вариант в силе, совесть не позволила бы даже и браться за «Деяния». В то же время, зная, что именно по «Деяниям» завтра будут судить, что свершил Фридрих и чего не свершил… Если б я не соскреб эту злосчастную хронику, то Фридрих, глядишь, и не свершил бы того, что мы считаем его свершениями.
– Ты, – сказал на это Никита, – вроде критянина-лжеца. Ты говоришь, что ты отъявленный лжец, и требуешь, чтоб я тебе верил. Ты убеждаешь, что налгал всем на свете, кроме одного меня. За много лет при дворе наших императоров я научился вывертываться из ловушек, расставленных обманщиками похитрее тебя. По твоим собственным отзывам, ты уже не понимаешь, кто ты. Может быть, именно потому, что нарассказал чересчур много баек, в том числе самому себе. Теперь ты хочешь, чтобы я составил для тебя ту историю, что тебе самому не дается. Но я – не мистификатор твоего пошиба. Всю жизнь я поверял и проверял чужие рассказы, выискивая истину. Может, тебе угодно получить от меня историю, где тебе отпустится грех убиения того, кому ты мстил за гибель своего императора Фридриха? Выстраивая по кусочкам линию любви между тобой и императором, ты хочешь оправдать свое преступление-мщение? Надо еще доказать, что Фридриха убили и что убил его тот, кого затем убил ты.
Никита выглянул в окно. – Пожар уже почти на Акрополе, – сказал он.
– Я приношу несчастье всем городам, – отозвался Баудолино.
– Ты мнишь себя всемогущим. Гордыня – грех.
– Уничижение паче гордости. Всю жизнь так: стоит мне приблизиться к какому-то городу, как его разрушают. В той земле, где я рожден, всюду были мелкие сельбища и крепости. От заезжих коробейников доходили к нам рассказы о богатствах urbis Mediolani,[10] но каков на самом деле должен быть город, я не ведал. Я ведь не добирался даже до Тортоны, только смотрел издалека на ее башни. А что касается Асти и Павии, то, по мне, они находились у пределов Земного Рая. Прошло время, и я стал видеть многочисленные города. И все эти города, что я видел, или доживали последние дни, или уже горели: Тортона, Сполето, Крема, Милан, Лоди, Иконий, а позднее Пндапетцим. То же происходит с Царьградом. Так не получается ли, что я по-вашему, по-гречески полиокласт, навожу сглаз помимо воли?
– Не будь каратель самого себя.
– Правильно. Был один город… мой собственный. Этот город я спас, сумев солгать. Как ты думаешь, одного случая достаточно, чтобы исключить теорию сглаза?
– Достаточно, чтоб исключить теорию рока.
Баудолино смолк. Он обернулся и кинул взгляд на то, что прежде было Константинополем. – Я все равно мучаюсь виной. Ведь все это творят венецианцы, фламандцы, а верховодят ими рыцари Шампани и Блуа, Труа, Орлеана, Суассона, не говоря уж о моих земляках монферратцах. Я предпочел бы, чтобы погромщиками Константинополя были тюрки.
– Тюрки никогда не станут разрушать Константинополь, – ответил на то Никита. – Мы с ними в дивных отношениях. Не тюрок, а христиан нам надлежит беречься. Хотя, наверно, вы – это десница Господня, и насланы на нас ради прегрешений наших.
– Gesta Dei per Francos,[11] – кончил Баудолино.
4
Баудолино разговаривает с императором и влюбляется в императрицу
Утро кончилось, Баудолино стал рассказывать ровнее и глаже, Никита решил не перебивать его. Он полагал, Баудолино достигнет взрослости и перейдет наконец к существу. Он не знал, что Баудолино до существа не довзрослел еще даже к тому времени, когда ведет рассказ, и что он ведет рассказ, чтоб прийти все-таки к существу.
Фридрих определил молодого Баудолино к епископу Оттону и его помощнику канонику Рагевину. Оттон, родом из знаменитой семьи Бабенбергов, был по матери дядей императора, хотя лишь на десять лет его старее. Мудрейший муж, он обучался в Париже у великого Абеляра, потом вступил в цистерцианский монашеский орден и был возвышен в ранней молодости до сана епископа Фрейзинга. Не то чтобы благородному городу Фрейзингу было им отдано так уж много усердия, но, пояснял Баудолино Никите, в западном христианском мире отпрыски родовитых фамилий могли получать пост епископов без того, чтоб выезжать в «свои» города и монастыри. Достаточно было распоряжаться доходами.
Оттону было меньше пятидесяти, но с виду чуть ли не сто лет: вечная перхотина, прострелы то в плечах, то в боках, мочекаменный недуг и очи, нагноенные от беспрестанного чтения при хорошем и дурном свете. Он поминутно раздражался, что типично для подагриков. Впервые увидев Баудолино, рявкнул на того: – Чтоб втереться к нашему императору, ты наврал ему с три короба, признавайся!
– О, клянусь, это не так, – отвечал Баудолино. На что ему Оттон: – Ну разумеется. Отрицанием лжец утверждает. Иди за мной. Научу тебя всему, что мне известно.
Чем доказывается, что на самом деле Оттон был добрым человеком и с первого знакомства привязался к Баудолино, поскольку нашел в нем схватчивость и способность удерживать в памяти услышанное. Но замечал, что тот широко провозглашает не только то, чему его учат, но и что сам досочинил.
– Баудолино, – то и дело укорял Оттон. – Ты прирожденный обманщик.
– Ну с чего вы это взяли, маэстро?
– Да взял глядя на тебя. Но я тебя не попрекаю. Если ты собираешься быть автором и слагать, быть может, собственные истории, тебе нужна способность лгать, иначе истории выйдут нудные. Но лгать надлежит с умеренностью. Люди не любят тех, кто лжет по мелочам, и боготворят поэтов, которые лгут только в самом главном.
Баудолино наторел в Оттоновых учениях. Что лжецом был и сам Оттон, он понял только с течением времени, находя противоречия между «Chronica sive Historia de duabus civitatibus» и «Gesta Friderici». Тогда Баудолино решил, что если он хочет стать лжецом замечательным, нужно прислушиваться к чужим речам и следить, как людям удается друг друга убеждать в истинности тех или иных высказываний. Вот, скажем, как разговаривали друг с другом о ломбардских городах Оттон с императором Фридрихом.
– Ну откуда подобное варварство? Неслучайно у них монархи коронуются железяками! – выходил из себя Фридрих. – Никто никогда не учил их оказывать императору уважение! Баудолино, ты это слышал? Они присвоили мои regalia!
– Как? Твоих регалиолов забрали? Каких, отец? – Все засмеялись, и прежде всех Оттон, поскольку знал древнюю латынь и помнил, что по-латыни regaliolus – птенчик.
– Regalia, regalia, iura regalia, дубовая голова, Баудолино! – рассердился Фридрих. – Права, мои неотъемлемые права назначать судей, брать пошлины с дорог, базаров и судоходных рек и право бить монету, и еще… еще… какие еще у меня права отобрали, Рейнальд?
– …изымать штрафные суммы, взимать пени, перенимать имения, не имеющие законных наследников, перенимать имения, конфискованные за преступную деятельность, или за кровосмешение, или за иные злодеяния, взыскивать долю доходов с добычи, промыслов, солеварен, рыбных садков, десятину с отысканных кладов, пребывавших до отыскания на казенной земле или в казенной земле… – сыпал словами Рейнальд Дассельский, которому скоро предстояло сделаться эрцканцлером, то есть вторым лицом в Римской империи.
– Вот, вот. И эти города захватили все мои неотъемлемые права. Вконец утратили понятия о добре и справедливости. Что за черт затуманил им головы до такого безобразия?
– О, племянник и император мой, – возразил Оттон, – для тебя Милан, Павия и Генуя все равно что Ульм и Аугсбург. Но города Германии все основаны по велению князя, и князь для них высший авторитет с первого дня основания города. Иное дело в Италии. Города там рождаются в то время как германские императоры заняты другими заботами, и растут, пользуясь отсутствием своего властителя. Когда ты этим горожанам пытаешься навязать свои порядки, они их принимают за potestatis insolentiam, за превышение власти, и считают поборы неприемлемыми. А подчиняются они власти консулов, ими самими избираемых.
– Они не желают монаршей защиты? Имперского достоинства и имперской славы?
– Еще как желают и ни за какие блага на свете не согласились бы лишиться монаршей защиты, поскольку без защиты их захватит какой-нибудь другой монарх, византийский император или даже султан Египта. Им принцепс нужен, но только пусть этот принцепс находится от них как можно дальше. Ты окружен свитой придворных и, верно, не знаешь, что в этих городах отношения иные. Они не согласны, чтобы крупные вассалы владели лесами и полями, потому что и поля с лесами по их понятиям – собственность городов… за вычетом разве что владений Монферратской марки и двух-трех других областей. Имей в виду, что в городах молодые люди, ремесленники, те, кого бы в твоем дворе к порогу не допустили, – распоряжаются, руководят и неоднократно возвышались до рыцарского звания…
– Значит, мир перевернулся! – крикнул император.
– Отец, – поднял палец Баудолино. – Но ведь со мной ты обходишься как с родным, хотя вчера я спал на соломе.
– С тобой я обошелся как захотел, и если захочу, сделаю тебя герцогом, сиятельством, светлостью, потому что я император и могу облагораживать кого мне заблагорассудится. Это не значит, что любой имеет право облагораживаться по собственному благоусмотрению. Как им не понятно, что если мир перевернется, они себе шеи посворачивают?
– Это, может быть, не так, Фридрих, – гнул свое епископ Оттон, – итальянские города с их особым управлением сделались источником всевозможных богатств, и купцы спешат туда изо всех концов мира, и их стены и красивее и крепче стен иных крепостей.
– Ты на их стороне, дядя? – вопил император.
– На твоей, о венценосный мой племянник, но именно поэтому обязан помочь тебе уяснить, до чего сильны враги. Если ты будешь требовать от городов того, что дать они не желают, придется тебе всю жизнь осаждать их, побеждать, а они будут восстанавливаться и прирастать гордыней, каждые полгода ты будешь переходить Альпы, чтобы подчинить их опять, а твоя императорская планида совсем не в этом.
– В чем же моя императорская планида?
– Фридрих, я рассказывал в моей «Хронике»… той, что необъяснимым образом запропала и которую я вынужден переписывать заново… да покарает Господь каноника Рагевина, на чьей совести это злополучие… я писал, что много лет назад, в понтификат Евгения Третьего, один епископ из Сирии, из Габалы, пришедший к папе с армянскими посланниками, доложил, что на Далеком Востоке, в краях, приближенных к Земному Раю, есть царство Rex Sacerdos, пресвитера Иоанна, который точно христианин, хоть и апостол несторианской ереси, и ведет род от Волхвоцарей, от тех самых хранителей незапамятной мудрости и посетителей Иисуса Христа при рождении… Как и они, Иоанн – священник и царь…
– Ну и каким же боком я, Фридрих, император Священной и Римской империи, могу иметь отношение к этому пресвитеру, да сбережет Господь его при царстве и при священстве на долгие времена там, где у черта на куличках он себе царствует над своими арапами?
– Видишь ли, просвещенный племянничек, в этих речах об арапах ты повторяешь то, что думают другие христианские правители… кто с тяготами охраняет Иерусалим… Почтенное занятие, не спорю. Но лучше его оставить французским королям. Тем более что в Иерусалиме всегда почему-то хозяйничают французы. Судьба мирового христианства и цель любой на свете империи, считающей себя священной и римской, располагается по ту сторону мавров. Судьба и цель располагаются в христианнейшем царстве по-за Иерусалимом и по-за краями неверных. Тот император, кто сможет объединить свое царство и это, тот превратит империю неверных и даже Византийскую империю в острова, незаметные среди великого моря его собственной глории.
– Фантазии, дядюшка! Давай мыслить практически. Возвратимся к итальянским коммунам. Объясни мне, очень прошу, пожалуйста, почему, коль их участь такая прекрасная, они любят заключать со мной союзы против остальных городов той же Италии, а не связываются вместе, чтобы победить меня.
– Пока что… еще не связались, – осторожно добавил Рейнальд.
– Я же тебе объясняю, – сказал Оттон, – они не стремятся оборвать отношения подданничества к империи. И поэтому бегут к тебе, когда видят обиду от других городов, например, когда город Лоди видит обиду от Милана.
– Так. Но если быть отдельным городом так завидно, почему все эти города обижают своих соседей? Обижают, чтобы их захватить и чтоб стать уже не городом, а царством?
Тут вступил в разговор Баудолино опытным голосом знатока местной жизни. – Дело в том, мой отец, что не только каждый город, но и каждое село по ту сторону Альп спит и видит, как бы поставить соседа ра… ай! – (Оттон умел пребольно щипаться), – как бы поставить соседа разом в униженное положение. Так у нас заведено. Ненавидим чужих до крайней степени, но уж сверх всякой крайности ненавидим своих. Если чужой нам поможет нагадить своему, то дай Бог ему всякого здоровья.
– Отчего вы такие?
– Оттого, что человек человеку злодей по естеству, как выражался мой крестьянский родитель, причем человек из Асти для соседа из Фраскати гораздо злейший злодей, нежели Краснобородец.
– И ты про краснобородца? – бесился император Фридрих.
– Краснобородым тебя зовут, о мой отец, за горами, по-итальянски Барбаросса. Не вижу в этом беды, поскольку борода твоя действительно красновата, и в этом ее краса. Если бы называли тебя Рудобородый, много бы изменилось? Я бы любил и почитал тебя не менее, скажем, и с черной бородой, но поскольку борода твоя рыжа, не вижу, почему бы тебе кручиниться из-за этого прозвища. Что я тебе собирался сказать… что не стоит нервничать из-за бороды и не стоит вообще нервничать, потому что они никогда, никогда не сплотятся против тебя. Им страшно, что если они против тебя сплотятся и если они победят, один из них вслед за тем сможет перепобедить всех прочих. Ну, а тогда уж лучше ты. Пока не требуешь платить чересчур много.
– Не верь Баудолиновым речам, – смеялся Оттон. – Парень лжив с колыбели.
– Ничего подобного, – возражал Фридрих Оттону. – Об Италии он судит точка в точку. Например, сейчас он предлагает, чтобы мы с итальянскими городами обходились единственным возможным способом: разделяя и властвуя. Жалко только, что трудно понять, кто из них против нас, а кто за.
– Если наш Баудолино не врет, – хихикал на это Рейнальд из Дасселя, – то они сами определяют, «за» они или «против», в зависимости от города, которому хотят насолить в соответствующий момент.
Баудолино несколько удручался из-за того, что Фридрих, взрослый, рослый и величавый, никак не может уяснить мышление некоторых своих подчиненных. А ведь он проводит больше времени на итальянском полуострове, чем на своей родине… Фридрих, думал Баудолино, любит наших людей и не может понять, почему они предают его. Может, потому-то он готов их убивать, как ревнивый муж.
Вообще же Баудолино мало видел Фридриха. Тот готовил и сзывал рейхстаги в Регенсбурге и в Вормсе. Он пытался ублагостить двух крайне опасных родственничков: Генриха Льва, которому в конечном счете отдал Баварское герцогство, и Генриха Язомирготта, для которого пришлось изобрести не существовавшее прежде герцогство Австрию. В марте следующего года Оттон возвестил Баудолино, что в июне им всем лежит дорога в Гербиполь (Вюрцбург), где Фридрих сочетается браком. Император уже имел одну жену и был несколько лет разведен с нею, а ныне сватал за себя Беатрису Бургундскую и за ней брал все бургундское графство до самого Прованса. При таком приданом, предполагали и Рагевин и Оттон, намечалось бракосочетание по расчету, и в подобном убеждении Баудолино, наряженный в новенькое платье в честь торжества, прибыл лицезреть приемного отца под руку с перезрелой бургундской девой, чье солидное имущество призвано было подслащивать недостаток пригожества.
– Я ревновал, скрывать тут нечего, – сознался Баудолино Никите. – В сущности, я только-только обрел себе второго отца, и его у меня вдруг оспаривала, хоть частично, какая-то мачеха.
Тут Баудолино замялся, выразил на лице замешательство, повозил пальцем по шраму и открыл ужасную истину. Едва вступив на брачный пир императора, он обнаружил, что Беатриса Бургундская имела от роду двадцать лет и красоту неслыханную, по меньшей мере так показалось ему. Увидев императорскую невесту, он был не в силах двинуть ни одним мускулом и глядел на нее во все очи. Волосы золотого отлива, лик миловидный. Рот, небольшой и алый, напоминал спелый плод. Ее зубы были ровны и белы, поступь пряма, взгляд прост, а глаза были светлого цвета. Целомудренная и мудрая в речи, тонкая станом, она озаряла сиянием своей привлекательности всех, кто ее окружал. Она казалась (высшая добродетель для правительницы) подчиненной своему мужу, которого робела, как повелителя, но и владычествовала над ним своим супружеским влиянием, и все это настолько обходительно, что всякая ее просьба немедля выполнялась, как приказание. Те, кто хотел прославить прочие достоинства императрицы, приписывали ей дар сочинительства, музыкальный талант и нежный голос. И посему, подытожил Баудолино, Беатриса вполне оправдывала свое имя: благословенная.
Никита без труда догадался, что юноша влюбился в свою мачеху с первого взгляда, хотя, поскольку влюблялся он в первый раз, он сам не разобрал, что же с ним случилось. И без того палящей, невыносимой бывает первая влюбленность, пусть даже крестьянина в прыщеватую мужичку. Что же творилось, когда крестьянин полюбил в первый раз в жизни двадцатилетнюю императрицу, чья кожа была белой как молоко!
Баудолино мгновенно сообразил, что его чувства были прямым покушением на отца, и постарался убедить себя, что мачеха, по причине юных лет, представляется ему скорее сестрой. Но и на это Баудолино, хоть он и не был обучен богословской морали, возразил сам себе: не годится любить так и сестру. С толиким трепетом, с толикой страстью, которую зрелище Беатрисы пробудило в нем. Так что он покраснел и набычился… именно к той минуте, когда Фридрих представил Беатрисе своего мальца Баудолино, забавного и смышленого лесовичка с Падуанской низменности, а Беатриса мягко протянула руку и провела сперва по Баудолиновой ланите, а затем по волосам.
Баудолино был на грани обморока, вкруг него все огни померкли и в ушах били пасхальные колокола. Вернули его к жизни подзатыльники Оттона, тот шипел сквозь зубы: «На колени, на колени, свинья!» – Баудолино осознал, что он пред лицом священной и римской императрицы, а также королевы Италии, согнул наконец колени и далее себя повел как скромнейший из воспитанных подданных, с тем отличием, что ночью не сомкнул глаз, и вместо радости о неизъяснимом озарении по пути в Дамаск рыдал из-за нестерпимо болезненной и новой для него страсти.
Никита слушал львиноликого собеседника, оценивал изящество выражений и сдержанную риторичность его почти литературных греческих оборотов, гадая, что за существо перед ним, способное выражаться как скотопас, передавая речь односельчан, но и с королевским достоинством, пересказывая беседы с придворными и с монархом. Есть ли душа, недоумевал он, у этого субъекта, имеющего разные голоса для показа различных душ? И если в нем живут различные души, которую из них я-то сам принимаю за истинную?
5
Баудолино дает Фридриху умные советы
Наутро город был все еще объят дымной тучей. Никита сжевал несколько фруктов, неспокойно походил по комнате и спросил Баудолино, можно ли отправить генуэзцев за неким Архитой и вызвать его сюда для чистки лица.
Ну гляди ж ты, потрясался Баудолино, от города ничего не остается, людей кончают на улицах, два дня назад чуть не погибли и его родственники, а он не может жить без чистки лица. Видать, дворцовые люди в сей развращенной столице так устроены… Фридрих его давно бы вышвырнул из окна.
Пришел Архита с коробом серебряных инструментов и с притираньями в баночках. Пахли они непривычно. Умелец прежде прогрел лицо горячими компрессами, потом обмазал умягчающими кремами, потом разгладил, отчистил лицо от любого загрязнения, заштуковал морщины белилами, легонько подвел глаза, подрозоватил губы, вырвал из ушей лишние волосы… а уж над прической и бритьем он трудился без конца и без устали. Никита, прикрыв глаза, принимал ласку этих опытных рук, убаюканный речами Баудолино, продолжавшего свои рассказы. Что же до рассказчика, он поминутно прерывался, любопытствуя, что там творит маг красоты. Зачем, к примеру, вытащив из банки живую ящерицу, он отрезает ей голову и хвост, мельчит ножом и отправляет вариться это крошево в кастрюльке масла на огонь. Как же, отвечал цирюльник, это будет мазь для укрепления тех немногих волос, что у Никиты все еще сохраняются на голове, от нее волосы обретут блеск и аромат. А в тех сосудах что? В сосудах вытяжки мускатного ореха и кардамона, в склянке – розовая вода. Каждая жидкость назначена для обработки определенного участка кожи. Медовый крем укрепляет губы, а другой, секрет которого открыть невозможно, спасает десны от размягчения.
И вот Никита предстал во всей прибранности, приличествующей судии Покрова и тайному логофету, как заново родившись, засиял собственным светом в то пожухлое утро на насупленном фоне издыхающей Византии. Баудолино было даже неловко рассказывать ему свое житье подростком в монастыре латинян, холодном, мрачном, где он с болезненным Оттоном был вынужден делить питание, состоявшее из овощей и пустых похлебок.
Баудолино в тот год почти не бывал при дворе, а когда бывал, то преисполнялся и робости и в то же время желания встретиться с Беатрисой, и сильно страдал из-за этого. Фридрих был занят, улаживал отношения с поляками («Polanos de Polunia, – писал о них Оттон, – полуварвары, любители рукоприкладства, gens quasi barbara ad pugnandum promptissima»). В марте Фридрих провел новый сейм в Вормсе, чтобы опять идти в Италию, так как вечно задиристый Милан со своими вечными близлежащими союзниками снова смущал покой. Был проведен и сейм в Гербиполе, это было в сентябре, а в октябре – сейм в Безансоне; в общем, у Фридриха бурлила жизнь. Баудолино же сидел спокойно с Оттоном в монастыре Моримондо, брал уроки у Рагевина и продолжал записывать историю под диктовку все более немощного и хворого епископа.
Когда они подошли к части «Хроники», где говорилось о пресвитере Иоанне, Баудолино спросил, что означало: «христианин, хотя несторианин». То есть эти несториане были и христиане, и не совсем?
– Говоря по совести, сынок, этот Несторий был еретик, но мы ему благодарны. Знай же, что в Индии после проповеди апостола Фомы именно несториане насаждали христианскую религию, вплоть до самых далеких держав, от которых мы возим шелк. Несторий допустил только одну, хотя и очень грубую, ошибку по поводу Иисуса Христа нашего Владыки и пресвятейшей Его родительницы. Мы с тобой твердо верим, что имеется единое божественное естество и что тем не менее Троица в единстве этого естества составлена из трех отдельных лиц: Отца, Сына и Святого Духа. Но в то же время мы верим, что в Иисусе одно лицо (божественное) и два естества (божественное и человеческое). Несторий же учил, что в Христе и вправду сочетаются два естества, человеческое и божественное, но сочетаются и два лица. Поэтому-де Мария произвела на свет лишь человеческое лицо и не имеет оснований зваться Богоматерью, поскольку она мать Христа-человека, и она-де не Богородица, не Theotkos, а уж в крайнем случае Христородица, Christotkos.
– А это думать нельзя?
– И нельзя, и можно… – раздраженно отвечал Оттон. – Можно все равно любить Пресвятую Деву, даже если думаешь о ней то, что думал Несторий. Но, конечно, почету ей при этом меньше. Кроме того, лицо есть индивидуальная субстанция рационального существа, значит, если в Христе сочетаются два лица, выходит, в Нем две индивидуальные субстанции двух рациональных существ? Куда может завести подобная логика? Получается, Христос выступает то от имени одного лица, то от имени другого? Я не хочу сказать, что тот пресвитер – вероломный еретик, но все-таки думаю, что ему не вредно было бы познакомиться с христианским императором, чтоб от него восприять истинную веру, а так как Иоанн, конечно, честный человек, он непременно ее воспримет. Замечу, однако, что если ты рано или поздно не обучишься богословию, тебе всего этого не уразуметь. Ты бойкий мальчик. Рагевин может преподать тебе чтение и письмо и, по мере его сил, подсчеты, кое-что он понимает и в грамматике, но троепутье и четверопутье дело совсем инакое. До богословия надо дозреть. Надо прежде выучить диалектику. Диалектику ты в Моримонде не выучишь. Следует отправляться в Studium, в школу, они есть только в самых больших городах.
– Но я не желаю идти в какой-то Studium, да и не знаю, что это такое.
– Не беспокойся, когда узнаешь, тебе понравится. Видишь, сын ты мой… полагают, что людское сообщество держится на трех силах: воинах, монахах и крестьянах. Может, до недавних пор так это и было. Но теперь не такие времена, и сейчас не менее важны ученые люди, даже если они не монахи. Важны те, кто разбирается в праве, философии, беге светил и во многих других материях. Те, кто не отвечает за свои действия ни пред епископами, ни даже пред королями. Эти студии постепенно учредились в Болонье и в городе Париже. Выпестовывая, передавая знания, в них ученые передают и власть. Я был выучеником Абеляра, да помилует Господь этого человека, многогрешного, но и многострадального, все искупившего. Избыв несчастие, когда по злобному мщенью его лишили мужеской силы, он постригся в монахи, стал аббатом, ушел от мира. Но быв еще в апогее славы, он преподавал в Париже, ученики его любили, а сильные мира почитали его именно за многие знания, коими он отличался.
Баудолино твердил себе, что ни за что не оставит Оттона, своего учителя. Но прежде нежели на деревьях в четвертый раз вылупилась листва со дня его и Оттона первой встречи, тот совсем почти исчах: малярийная лихорадка, боль во всех суставах, и грудные истеканья, и, конечно, каменная болезнь. За него брались разные медики, среди них и арабы и евреи, то есть лучшее, чем христианский император мог попотчевать своего епископа. Изводили хрупкое тело непрерывными кровопусканьями, но – вслед причин, кои теми сохранниками науки не могли уразуметься, – выпустив почти всю кровь, они нашли больного хуже, чем если бы вовсе не притрагивались.
Оттон просил к своему одру Рагевина, ввел его в положение с «Деяниями Фридриха», добавив, что дело нетрудное: нужно рассказывать факты и добавлять императорские речи, взятые по кускам из старинных знаменитых произведений. Потом вызвал Баудолино. – Puer dilectissimus, о возлюбленный отрок мой, – проговорил Оттон, – я ухожу. Можно было бы сказать «возвращаюсь», но я не знаю, какими наиболее правильными словами полагается это выражать. Точно так же, как я не уверен, что правильнее: моя ли хроника двух царств, или мои же «Деяния Фридриха»… (И отметь, сударь Никита, – говорил Баудолино, – что целую молодую жизнь может перевернуть исповедь старика, не умеющего определить, в чем состоит настоящая истина). – Не то чтобы я был доволен этим уходом, то есть возвратом, но такова Господняя воля. Я не обсуждаю Его приказов, а то вдруг возьмет и разразит на ровном месте сию минуту. Так что лучше уж использовать с толком то невеликое время, которое Господь мне еще предоставил. Послушай. Ты знаешь, что я пытался объяснить императору резоны, коим подчинена жизнь городов с той стороны Пиренейских Альп. Император ничего с ними поделать не может. Может только подчинять, и все. Но ведь и подчинять можно по-разному. Думаю, в данном случае показан какой-то другой путь, кроме захвата и избиения. Так что ты… император к тебе прислушивается… ты, дитя этих мест, приложи все возможные усилия, дабы примирить потребности нашего властелина с тем, чего требуют города. Чтоб погибало меньше людей. Ради этого учись рассуждать поубедительнее. Я просил короля отрядить тебя в Париж. Не в Болонью, где обучают только праву… а такого прохвоста, как ты, нельзя близко подпускать к пандектам, ведь закон перевирать нельзя! В Париже изучается риторика, сочинения поэтов. Риторика – искусство хорошего выражения, а истина ли выражена или ложь, это уже не так существенно. Поэты – те и подавно обязаны изобретать красивые лжи. Полезно будет, чтобы ты поучился и богословию, но богословом не становись. Божественность несовместима с твоими фантазиями. Обучись до той степени, чтобы хорошо выглядеть при дворе, где тебя обязательно сделают министериалом. Это самое большее, на что может рассчитывать крестьянский сын. Возведешься в ранг рыцаря, будешь равен многим благородным и получишь возможность послужить своему приемному отцу. Сие твори в мое воспоминание, и да извинит меня Иисус, если я нечаянно воспользовался Его выражением.
Вслед за тем он испустил хрип и стал совсем неподвижен. Баудолино потянулся прикрыть его веки, думая, что этот вздох был Оттоновым последним, однако тот внезапно зашевелил устами и прошептал на самом крайнем умирающем дыхании: – Баудолино, помни об Иоанне, помни о пресвитере. Лишь в разыскании его царства червонопламенные крестные знамена пройдут за Византию и даже за Иерусалим. Я слышал, император доверяет твоим выдумкам. Поэтому, если у тебя о царстве не будет сведений, сочини их. Пойми, я не призываю тебя к лжесвидетельству. Утверждать обман – грех! Но обманно свидетельствовать о том, во что ты сам веришь, это достойное занятие! Ты просто возместишь недостаток доказательств того, что существует или что произошло. Прошу тебя! Иоанн действительно существует по-за краями армян и персов! За Бактой, Экбатаной, Персеполем, Сузой и Арбелом! Он родом от Волхвов. Отправь императора на Восток, поскольку оттуда исходит свет, которым он озарится, великолепнейший из королей. Выведи его из гущи дрязг, удали от Милана, отРима… Иначе он завязнет в грязи до скончания века. Уведи подальше от той земли, в которой командуют и он и папа. При папе Фридрих лишь вполовину император. Помни, Баудолино… Пресвитер Иоанн… стезя лежит к Востоку…
– Но почему, учитель, все это говорится мне? Не Рагевину?
– У Рагевина нет фантазии. Он может только рассказывать то, что видел. А иногда не может и этого, потому что не понимает, что же он видел. Ты можешь вообразить и то, чего не видал. О, ну почему все внезапно так потемнело?
Баудолино, прирожденный лжец, сказал, чтоб тот не беспокоился: ниспадает вечер. Ровно в полдень у Оттона вышел свист из пересохшего горла и глаза неподвижно уперлись в дальний предмет, залюбовались – кем? Пресловутым пресвитером Иоанном на троне? Баудолино закрыл Оттоновы глаза и выплакал искренние слезы.
Опечаленный кончиной епископа, Баудолино на несколько месяцев возвратился ко двору Фридриха. Спервоначалу он утешался мыслью, что, снова увидев императора, увидит императрицу. Увидел, и утешенья уж не было. Нельзя забыть, что Баудолино вскоре исполнялось шестнадцать. Коль прежде его влюбленность носила юношеский смутный характер, и сам он в ней понимал немного, ныне он сознательнее относился и к своему желанию и к своей муке.
Чтоб не грустить при дворе, он ездил за Фридрихом на поля сражений и видел вещи, которые его достаточно мало развеселили. Миланцы вторично разрушили город Лоди, точнее говоря, сначала они его разорили, свели к себе скот, снесли корм и скарб в свои склады, потом вытолкали за городской вал всех жителей Лоди и объявили, что если те немедленно не уберутся к чертям, то их туда отправят мечом и петлей, и это касалось и женщин, и стариков, и новорожденных чад. В стенах города Лоди остались только псы, а прочих погнали прочь пешком под дождем, и среди них шли господа, так как кони были отобраны, и женщины с детьми на руках, и многие падали от усталости в придорожные рвы. Пристанище им отвели где-то меж реками Аддой и Серио, чтоб там они спали друг на друге в каких-то полуразваленных бараках.
Но этим миланцы не ограничились, они воротились в город Лоди и похватали немногих местных жителей, кто не послушался и не вышел до этого, порубили все лозы и деревья и подожгли жилые дома, а попутно истребили собак.
Ну, это уж было слишком для императорского терпения, и Фридрих снова перешел через горы в Италию во главе крупной армии, собранной из бунгундцев, лотарингцев и богемцев, венгров, свевов и франков и кого еще сумели навербовать за краткое время. Первым делом он заложил новый город Лоди в Монтеджеццоне, а потом осадил Милан, в чем ему живо помогали воины Павии и Кремоны, Пизы, Лукки, Флоренции и Сиены, Виченцы и Тревизо, Падуи, Феррары, Равенны, Модены и других городов, союзников империи для унижения Милана.
И Милан был основательно унижен. В конце лета город капитулировал, сдался, и, чтоб спасти его, горожане согласились на обряд, унизивший даже Баудолино, который, впрочем, к миланцам не имел никакого отношения. Побежденные прошли чередой перед победителем, умоляя о пощаде, босиком и одетые в мешки, все в таком виде, не исключая епископа, а у воинов мечи болтались, подвешенные на шею. Фридрих, видя их позор, снова сделавшись великодушным, наделил униженных противников извиняющим поцелуем.
– Стоило, – говорил Баудолино, – так нахальничать, налетая на Лоди, чтобы потом спускать штаны? Стоит ли жить на этих наших землях, где все, похоже, торжественно поклялись погубить себя? Дальше, дальше отсюда. – На самом деле он стремился уйти подальше от Беатрисы, потому что прочитал, что порой отдаление лечит любовную болезнь (и еще не прочитал других книг, гласящих, что нередко именно из-за дальности разгорается, как огонь, страсть). И поэтому он пошел к Фридриху просить послать его по совету Оттона для обучения в город Париж.
Он нашел императора в гневе и грусти, тот метался по комнате, а в углу Рейнальд Дассель ожидал, пока гром утихнет. Фридрих немного замедлил шаг, посмотрел в глаза Баудолино и сказал: – Ты свидетель, мальчик мой, что я стараюсь поместить под сень единого закона итальянские города, но всякий раз обязан начинать сначала. Неужели мой закон плох? Чем доказать, что закон мой хорош? – На это Баудолино почти не задумываясь: – Господин, начав так рассуждать, ты уже никогда не кончишь, между тем императоры потому и нужны… не потому, что у них хорошие идеи… а их идеи хороши постольку, поскольку они приходят императорам.
Фридрих смерил его взглядом, а затем обратился к Рейнальду: – Парень выражает мысли лучше, чем все вы! Если бы эта фраза была по-латыни, ей бы цены не было!
– «Quod principi plaquit legis habet vigorem»… то, что князю угодно, имеет силу закона, – произнес Рейнальд фон Дассель. – Да, звучит и решительно и мудро. Жалко только, эта фраза не из Евангелия. Как мы убедим народ принять это прекрасное воззрение?
– Мы ведь помним, в какое положение попали в Риме, – продолжал император Фридрих. – Принимать помазание от папы означало ipso facto признавать его выше себя. А схватить его за шиворот и забросить прямо в Тибр значило оказаться таким бичом Божиим, что куда покойному Аттиле… Черт возьми, где мне отыскать кого-нибудь, кто наделит меня правами, не претендуя возвышаться надо мной? Нет того, что я ищу, на белом свете…
– Может, власти такой и нет, – сказал на это Баудолино, – но имеется такая мудрость.
– Что ты хочешь этим сказать?
– Что епископ Оттон рассказывал мне про некие студии. Это общества студентов и учителей, живущие по собственным законам. Там учащиеся, прибывающие со всего мира, безразлично от каких монархов, платят за науку учителям. И учителя зависят только от студентов. Так устроено преподавание права в Болонье, так устроено обучение наукам в Париже, где сначала учителя объединились при кафедральной парижской школе, то есть были под епископом, а потом откочевали всей школой на гору Святой Женевьевы, и теперь они там ищут истину, не прислушиваясь ни к епископу, ни к королю.
– У меня бы попробовали не прислушаться… Ну и что из всего того?
– Из всего того вытекает, что издай ты указ, провозглашающий болонских преподавателей полностью независимыми от всякой мыслимой власти, в том числе от тебя и от папы и от всякого другого суверена, а зависимыми только от закона… Надели ты их подобным достоинством, не имеющим равных в мире, и увидишь: на основании здравого разума, естественного порядка и традиции они торжественно провозгласят, что единственное твердое право есть право римское и единственным его носителем является священный римский император, и что это главное правило, как тут удачно подсказывает господин Рейнальд, звучит как «Quod principi plaquit legis habet vigorem».
– С какой же стати они будут называть это главным правилом?
– Да в отплату за то, что ты даешь им право называть главные правила. Для них это очень ценно, в то же время неплохо и для тебя, в общем, по выражению моего папаши Гальяудо, ни один купец не в накладе.
– Они на это не согласятся, – бормотнул Рейнальд.
– Еще как согласятся, – отмахнулся Фридрих. – Я тебе гарантирую! Еще как согласятся! Но пусть они сначала провозглашают это правило, а потом получают независимость. Иначе кто-то может подумать, что они провозглашают правило из благодарности.
– По-моему, как ни крути, кто захочет подумать, что вы сговорились, тот подумает, – трезво подытожил Баудолино. – Однако хотел бы я видеть, кто решится после этого сказать, что болонские доктора ничего не стоят. Те доктора, к которым даже император смиренно приходит за главным правилом. Значит, и правило-то болонское поувесистее Евангелия!
Все разыгралось точно по нотам, через несколько месяцев, в Ронкалье, где был повторно созван имперский сейм. Баудолино получил возможность поглазеть на невиданное роскошное зрелище. Рагевин заранее предупредил, что весь этот спектакль: реющие знамена, штандарты, разноцветные шатры – не бродячий цирк с купцами и гаерами, а дань символике. Это по требованию Фридриха на берегу По воспроизводился древнеримский военный лагерь. Тем демонстрировалось, что от Рима ведется его кесарийское достоинство. В центре лагеря стояла императорская палатка, подобие храма, а вокруг нее пышным кругом – палатки придворных феодалов, вассалов короля и вассалов вассалов короля. Вокруг ставки Фридриха расселились архиепископ Кельнский, епископ Бамбергский, Даниил Пражский, Конрад Аугсбургский, прочие и прочие. На другом берегу реки стали итальянцы: кардинал-легат папского престола; патриарх Аквилеи; архиепископ Милана; епископы Турина, Альбы, Ивреи, Асти, Новары, Верчелли, Тортоны, Павии, Комо, Лоди, Кремоны, Пьяченцы, Реджо, Модены, Болоньи, кто знает каких еще мест. Председательствуя на этом величественном, воистину вселенском сходе, Фридрих дал знак к началу прения.
Короче (свертывал рассказ Баудолино, чтоб не утомлять Никиту великолепием императорского, правоведческого и священнослужительного красноречия), четверо болонских докторов, самые отборные, выучившиеся от самого Ирнерия, были приглашены императором провозгласить свой безоговорочный ученый отзыв о его императорских правомочиях, и трое из них, Булгарий, Якобий и Гугон из Равеньянской Порты, выразились в желательном Фридриху духе, а именно что императорское право основывается на римском законе. Противоположного суждения держался четвертый доктор, Мартин.
– И ему Фридрих, верно, приказал выколоть очи, – вставил Никита.
– Да ни в коем разе, сударь мой Никита, – ответил Баудолино. – Это у вас, у ромеев, выкалывают очи за любую малость. Нет у вас понятия о том, что законно, а что не очень. Забыли вы своего знаменитого Юстиниана… Выслушав всех докторов, Фридрих принял Constitutio Habita, в которой болонскому студиуму даровалось самоуправление, а при самоуправлении этот Мартин имел право говорить что угодно и никакой император не мог сметь его тронуть и пальцем. Посмей император тронуть его пальцем, это бы означало, что доктора не суверенны, а если они не суверенны, их мнение ничего не значит. Фридрих тотчас превратился бы в узурпатора.
Вот так штука, думал про себя на это Никита: господин Баудолино хочет мне внушить, будто империю основал не кто иной, как он. И что какую бы ни проболтал он фразу, фраза наделена такой силой, что немедленно обращается в истину. Послушаем, что еще он скажет.
Тем временем появились генуэзцы и принесли корзину фруктов, поскольку день достигал середины и пришло время Никите подкрепить силы. Грабеж, по их сообщению, продолжался, и из дому казать нос было невозможно. Баудолино продолжил свой рассказ.
Фридрих решил, что если безусым юношей, обучившимся лишь у скромного Рагевина, Баудолино умеет формулировать такие превосходные мысли, бог весть чего он сможет достичь, будучи послан и вправду в Париж для обучения. Обнимая его с сердечностью, он просил его действительно доучиться до мудрости, учитывая, что он-то сам за заботами царства и военными тяготами никогда не имел времени обрести столько познаний, сколько следовало бы. Императрица распрощалась с Баудолино, поцеловав его в чело (Баудолино, ясно, почти сомлел), и сказала в напутствие (а она, даром что важная дама и королева, но читать и писать умела): – Пиши мне письма, рассказывай, что с тобою и как. Придворная жизнь докучлива. Твои послания мне ее скрасят.
– Клянусь, что буду, – отвечал Баудолино с такой горячностью, которая могла насторожить свидетелей. Никто не насторожился (кому есть дело до волнения мальчишки, собравшегося в Париж?), кроме разве что самой Беатрисы. И впрямь, она посмотрела на него, как будто видела впервые. На белом лике явственно проступил внезапный румянец. В то время Баудолино, отвешивая поклон, в котором лицо было пригнуто почти к самому полу, уже покидал дворцовую залу.
6
Баудолино едет в Париж
Приезд Баудолино в Париж можно назвать и запоздалым. В те школы поступали еще до четырнадцати лет, а ему было уже на два больше. Но многому он успел научиться у Оттона, поэтому позволял себе ходить не на все уроки, как будет описываться ниже.
Он выехал не один, а с рыцарским сыном из Кельна, предпочитавшим бранному поприщу свободные искусства, в огорчение отцу, но при поддержке матери, сызмальства отмечавшей в нем задатки будущего поэта; Баудолино даже не знал, или знал, да сразу забыл, его истинное имя, поскольку звался он Поэтом и так его именовали все на свете. Довольно быстро Баудолино понял, что у Поэта нет никаких стихов, он их не пишет, а только обещает написать. Поскольку Поэт бесперемежно цитировал стихи чужие, в конце концов даже отец его понял, что парню верная дорога – служение Муз, и он позволил детищу отъехать, дав на дорогу самое скудное довольствие, так как ошибочно считал, что того немногого, что позволяло прожить в Кельне, достанет для существования в Париже.
Тотчас же по приезде Баудолино поспешил послушаться императрицыного приказа и написал ей несколько писем. Он полагал утешить жгучую боль, следуя договоренности. Но тут же понял, до чего неутешно при письме умалчивать то, что истинно ощущаешь, и составлять совершенные и любезные эпистолы с описаниями Парижа: в этом городе, полном превосходных церквей, воздух и свеж и ясен, небо пространно и светло, если не льют дожди, но дожди случаются не чаще раза-двух в день. Прибывшему из края вечного тумана то, что он видит в Париже, кажется постоянной весной. Перегибистая река с двумя островами в середине, чистая вкусная вода, а сразу под городской стеной начинается благоуханный луг, рядом с монастырем Сен-Жермен, где в послеобеденную пору так славно протекает время за игрой в мяч.
Он рассказал ей о своих первоначальных хлопотах, поисках комнаты. Комнату следовало снять напополам с товарищем и желательно не по самой разбойной цене. Та, которую они нашли, была все-таки дорогая, но зато не тесная. Там стоял стол, две скамьи, были полки для книг и большой ларь. Еще высокая кровать с периной из страусовых перьев и другая кровать, пониже, на колесах, с периной из гуся, днем ее полагалось закатывать под большую. В письме не сообщалось, что после некоего легкого разногласия по поводу дележки кроватей было решено, что сожители ежевечерне станут решать за шахматной доской, кому достается удобное ложе (шахматы при дворе считались занятием неприличным).
Следующее письмо рассказывало: утром подъем бывает рано, так как занятия идут уже с семи и до позднего предвечернего времени. Дабы выдержать подобный день, следует запасаться доброй порцией хлеба и фляжкой красного. Учебное помещение – вроде овина, ученики сидят на соломе, и в помещении зябче чем на улице. Беатриса растрогалась и рекомендовала вино не экономить, ибо в противном случае молодой человек целый день будет ощущать себя вялым; а также нанять слугу, не единственно для ношения книг, ибо книги тяжелы и не по званию носить их самолично, но и ради закупки дров, чтобы загодя растапливалась печка в комнате и для вечера обиталище согревалось. И ввиду этих предвидимых расходов Беатриса посылала четыре десятка сузанских сольдов, что хватило бы купить быка.
Никакой слуга не был нанят и дрова никакие не покупали, потому что двух перин им хватало вполне, сумму же использовали более толково, учитывая, что в тавернах по вечерам было натоплено и имелась возможность прийти в себя после тяжелого дня, потискав служанок за ляжки. Вдобавок в тех жизнерадостных пристанищах – «Серебряном щите», «Железном кресте» или «Трех подсвечниках» – им подавали немало чарок, а к ним солидных со свининой пирогов, куриных паштетов, жареных гусей и голубей; когда приходилось экономить, они ели баранину и рубец. Баудолино делился с вечно безденежным Поэтом, а не то – есть бы тому рубец семь дней в неделю. Но делиться с Поэтом было и накладно. К снеди ему требовались настолько обильные винные сбрызгивания, что сузанский бугай тощал на глазах.
Обойдя молчанием вышеописанное, Баудолино сосредоточивался на обрисовывании преподавателей и разномастных преподававшихся умностей. Беатриса к этим пассажам была особенно чувствительна, ими удовлетворялась ее охота к познанию и она по многу раз читала в Баудолиновом изложении пересказы наук: грамматики, диалектики, риторики, арифметики, геометрии, музыки и астрономии. Баудолино же стыдился все пуще, потому что утаивал, во-первых, и то наиважнейшее, чем переполнялась душа, а во-вторых, и еще кое-что, чем он порой занимался, но о чем нельзя рассказывать ни матери, ни сестре, ни императрице, ни тем более – любимой женщине.
Прежде всего, за игрой в мяч в окрестностях Сен-Жермена было в обычае задираться с местными жителями или со студентами-иностранцами. Скажем, пикардийцы атаковали нормандцев, ругая друг друга по-латыни, чтобы было понятнее и обиднее. Все это мало нравилось главному профосу, он посылал своих лучников усмирять оголтелых. Ясно, что в подобном положении студиозусы забывали о междоусобьях и объединялись между собой, чтобы мутузить лучников.
На свете не было худших взяточников, нежели лучники профоса. Поэтому, когда они ловили кого-то, всем остальным студентам приходилось развязывать кошельки и выручать однокашника. От этого парижское житье становилось еще разорительнее.
Во-вторых, студент без любовной интрижки – посмешище всех знакомых. К сожалению, женщины составляли наименее доступную часть парижских радостей. В университете женского пола было почти не видно, и все еще рассказывались легенды о соблазнительной Элоизе, по любви к которой воздыхателю оттяпали хвост, даром что он был не бедный студент, существо дурнославное и пренебрежимое, а почтенный профессор: великий, несчастный Абеляр. Покупной любовью можно было пробавляться только время от времени, она чересчур дорого стоила, а следовательно, оставались трактирные подавальщицы или поломойки из соседнего квартала. Но и в соседнем квартале студентов было гораздо больше, чем поломоек.
Только разве фланировать с равнодушным и победительным видом по Ситэ и соблазнять дам благородного сословия. Весьма популярны были жены гревских мясников, тех, кто после славной карьеры в своем промысле уже не забивали скот, а правили всем мясным рынком и держались как господа. Будучи супругами людей, которые начинали со свежевания бычьих четвертей и чье благосостояние пришлось на поздний возраст, женушки были неравнодушны к миловидным студентам. Беда лишь, что они расфуфыривались в такие пушистые меха, в серебряные пояса и в побрякушки, что с виду были почти неотличимы от высокопоставленных блудниц, которые, пренебрегая запретами городской управы, носили именно эти наряды, тем самым вводя студиозусов во вполне оправданное заблуждение, после чего они нещадно осмеивались сотоварищами.
Кому же все-таки везло захомутать уважаемую горожанку или невинную девицу, тот рано или поздно попадался ее отцу или мужу. Переходили на личности, на кулаки, на дубье, вплоть до смертоубийства (чаще всего отца или мужа), и все начиналось снова: в дело вступали лучники профоса. Баудолино никого не убивал. Он вообще держался подальше от стычек. Но одного такого мужа (мясника) ему не повезло миновать. Пылкий в любви, однако на поле брани осторожный, в час, когда супруг явился в спальню, вооруженный железной клюкой для подвешивания бычьих туш, Баудолино сиганул в окно. Едва помешкав на подоконнике, чтобы промерить высоту этажа, он успел получить такую царапину на щеку, что навсегда поперек лица у него остался шрам, достойное украшение воина.
С другой стороны, завоевание горожанок требовало слишком много времени, в ущерб учебе: целыми днями в засаде у окна, подстерегая проходящих прелестниц… можно было одуреть, честное слово. Забывая любовную мечту, школьники лили помои на прохожих и стреляли по ним горошинами из рогатки, мяукали, видя проходящих преподавателей, а приведись иному из тех рассердиться – провожали с кошачьим концертом до самой квартиры, а там бомбардировали ему камнями окна, ибо в окончательном счете студенты платили преподавателям деньги и поэтому им дозволялись, черт побери, определенные вольности.
Баудолино рассказывал Никите то, что утаил от Беатрисы, то есть что он постепенно превращался в отпетого школяра, которых множество изучало свободные искусства в Париже, юриспруденцию в Болонье, в Салерно – медицину и магию в Толедо, однако ни в одном месте пристойному поведению не обучалось. Никита терялся, возмущаться ли, удивляться или смеяться. В Византии были известны только частные учителя для зажиточных детей, чтоб они с самого неполнолетия знали грамматику и читали божественные книги, а также главные произведения классической словесности. По достижении одиннадцати лет брались за поэзию и за риторику, воспроизводя в своих опытах образцы античности. Терминология приветствовалась самая редкая, синтаксические конструкции – замысловатые. Чем отличнее преуспевал в этой науке юноша, тем он считался годнее для светлого будущего в имперском правительстве. Наконец, знания полагалось отшлифовать либо при некоем монастыре, либо с домашними учителями – правоведами, астрономами. К ученью относились уважительно, не то что в Париже, где студенты интересовались любыми вещами помимо науки.
Баудолино не согласился: – В Париже учились, и очень серьезно. Год на третий уже начинали участвовать в диспутах. Диспуты учат подбирать возражения и переходить к определению, а затем к окончательному решению задач. Кроме того, не следует думать, будто уроки – наиважнейшее для студента и что таверна – такое место, где студенты только теряют время. В университетах хорошо то, что многое воспринимается от преподавателей, но не меньшее от друзей, особенно от тех, кто тебя взрослее, они делятся с тобой прочитанным и ты обнаруживаешь, что на свете полно интересного. Чтобы познать все это, поскольку, по определению, объездить весь свет жизни не хватит, имеется один выход, прочитать все на свете книги.
Баудолино немало книг перечитал у Оттона, однако и помыслить не мог, что бывает их на свете столько, сколько он увидел в Париже. Они были не для всех равно доступны, но тут благое обстоятельство, вернее, благоусердное хождение в школу свело его с Абдулом.
– Чтобы пояснить, какая связь между Абдулом и библиотеками, нужно отступить на шаг назад, государь Никита. Однажды, сидючи на лекции и согревая дыханием пальцы… к прискорбию, зад дыханием не согреешь, так что он потихоньку себе отмерзал, ибо тонкая соломка была такой же ледяной, как и пол, и как весь Париж теми зимними днями, я заприметил сбоку от себя парня, на лицо вылитого сарацина, но с рыжими волосами, которых у мавров не бывает. Не знаю, слушал ли он урок или следовал своим мыслям, но, казалось, витал за сто верст. То и дело с дрожью запахивая одежонку, он то вперивался в пространство, то корябал что-то там на табличке. Я посильно вытянул шею и увидел, что половина записей выглядела как мушиный помет, а таковы письмена арабов, вторая же половина напоминала латынь, хотя и не являлась ею. Я даже уловил сходство с наречием своих родных мест. В общем, по окончании урока я с ним заговорил. Ответил он охотно, будто не ждал иного. Мы подружились, и он, прогуливаясь около реки, поведал мне историю своей жизни.
Итак, молодой этот человек, Абдул, был и взаправду мавром, но только мать его происходила из Гибернии, и этим объясняются его пылающие патлы. Все, кто прибывает с того далекого острова, лежащего севернее Британии, обычно рыжи и пользуются славой оригиналов и фантазеров. Отец Абдула был провансалец, его семья переселилась за далекое море после захвата Иерусалима не менее как за полвека или еще прежде того. Как объяснял Абдул, благородные франки, обитающие за далеким морем, перенимают обычаи тех народов, которые завоевали: одеваются в тюркском вкусе, носят тюрбаны, изъясняются на языке басурманов и чуть ли не следуют заповедям Алькорана. По этой причине гиберниец (наполовину) с рыжими волосами был наречен Абдулом и кожу лица имел опаленную сирийским родимым солнцем. Он думал обыкновенно по-арабски, но старинные саги студеного северного моря, услышанные от матери в детстве, перелагал почему-то на провансальский язык.
Баудолино спросил его сразу, прибыл ли тот в Париж дабы сделаться правым христианином: кормиться как принято в этих местах, выражаться как принято в этих местах – а именно по-латыни. От ответа о цели приезда Абдул уклонился. Намекнул на некую тревожную, беспокойную историю, на испытание, пережитое в раннем отрочестве. Потому-де благородные родители отослали его в Париж, оберегая от не разберешь какой мести. При рассказе Абдул мрачнел, и краснел, насколько способен покраснеть мавританец, и настолько сильно весь трясся, что Баудолино предпочел переменить тему беседы.
Юноша был очень способным: прожив три-четыре месяца в Париже, он заговорил и по-латыни, и на местном вульгарном диалекте. Жил он у своего дяди, настоятеля Сен-Викторского монастыря, где хранилось бесценное книжное собрание, крупнейшее по размерам как для того города, так и вообще для крещеного мира, по богатствам превосходившее александрийское! Вот тем-то образом благодаря Абдулу в последующие месяцы и Баудолино с Поэтом получили доступ к сокровищнице знания.
Что он там строчит во время лекций, спросил Абдула Баудолино, и услышал, что пометки по-арабски содержат смысл объяснений преподавателя, толковавшего диалектику, потому что арабский язык несомненно удобен для философии. Все же остальное Абдул записывал по-провансальски. Он не хотел объяснять, долго уклонялся, но притом казалось: ждет, чтобы попросили. Наконец поведал, и даже перевел записи. Оказалось, что это стихи, и звучат они примерно так: «Печаль и радость тех бесед / Храню в разлуке с дамой дальней…»
– Пишешь стихи? – спросил Баудолино.
– Слагаю песни. Пою о своих чувствах. Я люблю далекую принцессу.
– Принцессу? А кто она?
– Не знаю. Я видел ее… Вернее нет, но все равно, как будто видел… Когда я был в плену в Святой Земле… Неважно, во время той истории, о которой я тебе не рассказывал. Сердце мое воспылало, и я поклялся в вечной преданности этой Даме. Я решил посвятить ей всю жизнь. Может быть, я найду ее когда-нибудь. Однако я того же и страшусь. Нет, сладостнее изнемогать от любви неутолимой…