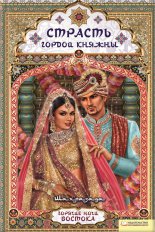Антропология повседневности Губогло Михаил
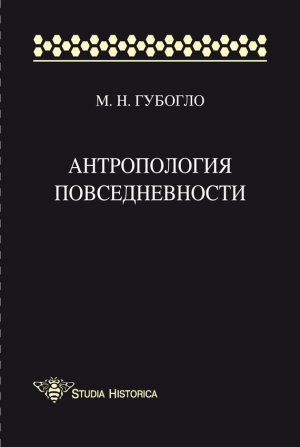
Возрастающий интерес к мемуаристике и воспоминаниям подтвердил в только что опубликованной монографии «Российский народ: история и смысл национального самосознания» (М., 2013). Аназилируя вопросы, имеющие фундаментальное значение для понимания истории и смыслов формирования национальной идентичности, как основы существования россиян в формате народа-нации, В. А. Тишков неоднократно «приправляет» анализ фактами, событиями, фотографиями из собственной биографии [Тишков 2013: 6, 10, 22, 33, 62, 64 и др.].
С точки зрения концепции культурного плюрализма чрезвычайно продуктивную мысль высказал Даниил Гранин.
Когда пишешь автобиографию, – писал он, акцентируя внимание на ощущении множественности своего «я» в своем жизнеописании, – пишешь на самом, деле не о себе, а о нескольких разных людях, из них есть даже чужие тебе. Меня было три, а может и больше. Довольно трудно прийти к выводу насчет себя и оценить, что это за человек жил-был на свете, такой он разный, несовместимый… я пробовал осмыслить свое новое или, вернее, иное отношение к прежним моим увлечениям… Автобиографии знакомых людей читать интересно – видишь, как автор представляет себя и свою жизнь, а ты знаешь его другим[2].
Кому, как не самому себе, больше всего может доверять человек не только в поисках смысла жизни, как это, например, блестяще продемонстрировал известный советский философ Б. Коваль [Коваль 2001: 474], показавший, что «жизнь богаче ее собственного смысла», но и опирающиеся на мнение своих предшественников. Поисками смысла жизни и связанной с ним идентичности были озабочены многие поколения талантливых людей до и после Омара Хайама, рубайи которого начинают и завершают данный очерк.
- И я доныне не слыхал,
- Увы, ни от кого,
- Зачем я жил, зачем страдал
- И сгину для чего.
Мемуары и воспоминания, в том числе собственные, как особый взгляд литературного творчества, требуют особого критического отношения. Для исследователя повседневности в ретроспективном плане этот вид источников представляет большой соблазн. Аккуратность их создания и тем более истолкования зависит от качества и доверия памяти, от кругозора, ответственности и ментальности мемуариста, от дистанцированности по времени, от способности адекватно видеть и оценивать свое прошлое, не всегда замечая и выделяя в нем романтическое прошлое в ущерб объективности.
Давно замечено, что в воспоминаниях представителей творческой интеллигенции и лиц из других социальных слоев содержится полезная и интересная, порой романтически окрашенная информация о деталях и красках повседневной жизни, хотя и не всегда акцентируется в них важный для этнолога этнический или религиозный аспекты обыденной жизни [Симонов 1989; Воробьев 1989; От оттепели до застоя 1990; Орлов 1992; Злобин 1993; Вишневская 1994; Пузиков 1994; Чуковский 1994; Самойлов 1995;Эренбург 1996–2000: т. 6, 7, 8; Трояновский 1997; Евтушенко 1998].
Еще беднее сведения о бытовой и повседневной жизни на страницах мемуаров, составляющих значительный удельный вес в общем потоке мемуаристики и воспоминаний, написанных политиками и общественными деятелями, бывшими активными участниками политической жизни страны и ее регионов накануне и после Хрущевской оттепели [Хрущев 1999; Микоян 1999; Каганович 1996; Мухитдинов 1995; Шепилов 1998; Байбаков 1998; Громыко 1990; Гришин 1996; Шелест 1995].
В воспоминаниях политических, партийных, государственных и хозяйственных деятелей первостепенное внимание уделяется, во-первых, их конкретной деятельности, нередко попыткам оправдать свои решения, действия, составленные документы, во-вторых, их мемуары, как правило, основаны на документах, собранных их бывшими помощниками, в-третьих, на текстах воспоминаний лежит печать предвзятости и субъективности.
Для большинства ученых, вовлеченных волной общественного интереса в осмысление идентичности постсоветского периода, специфическая проблематика гражданской идентичности, ставшая одной из востребованных тем современного гуманитарного знания, продолжает оставаться недостаточно исследованной. Особую актуальность ей придает ее «привязанность» к крупным трансформационным процессам, происходящим на протяжении двух десятилетий на рубеже XX и XXI вв. в контексте курса, избранного Россией в демократию, рыночную экономику, конституционному закреплению прав, свобод и обязанностей граждан России.
Социальные травмы, пережитые бывшими советскими гражданами после распада СССР, актуализируют вопросы о том, какие пружины обыденной жизни оказывали влияние в недалеком прошлом и продолжают действовать сегодня, вызывая рост гражданского самосознания и социальной активности, или, как социально зреющая гражданская идентичность служит обеспечению исчислимых параметров повседневной жизни. Для анализа повседневности поствоенного времени, выберем две хронологические точки отсчета времени, после победоносной войны императорской России в 1812 г. и после победы, одержанной Советским Союзом в войне с гитлеровской Германией в 1941–1945 гг.
3. От александровской «весны» к хрущевской «оттепели»
12 марта 1802 г. на Российский престол вступил внук Екатерины Великой, будущий реформатор – Александр I, которого В. О. Ключевский называл «романтически-мечтательным и байронически-разочарованным Гамлетом». В 1814 г. русские солдаты вместе с союзными войсками вступили в Париж, разгромив перед этим французскую армию и изгнав ее из России. 14 декабря 1825 г. младший брат Александра Николай I подавил на Сенатской площади восстание декабристов.
30 апреля 1945 г. Советские войска штурмом овладели Рейхстагом и водрузили на нем Знамя Победы. 8 мая в пригороде Берлина представители германского верховного командования подписали акт о безоговорочной капитуляции Германии. Указом Президиума Верховного Совета СССР день 9 мая был объявлен днем всенародного торжества – Праздником Победы.
5 марта 1953 г. ушел из жизни И. В. Сталин. 20-й съезд осудил культ личности, а 30 июня 1956 г. ЦК КПСС принял постановление «О преодолении культа личности и его последствий». 25 февраля 1956 г. на закрытом заседании XX съезда КПСС Н. С. Хрущев выступил с докладом «О культе личности и его последствиях», который потом был оглашен перед 7 миллионами коммунистов и 18 миллионами комсомольцев. Сталинская «зима» сменилась короткой хрущевской «оттепелью» [Оттепель 1989; Лакшин 1991; Аксютин 2004]. Вместе с отставкой Н. С. Хрущева в 1964 г. закончился период «оттепели» и наступила пора брежневского застоя.
Типологическое сходство двух последующих судьбоносных периодов российской истории, связанных с царствованием Николая I (1825–1855 гг.) с правлением Л. И. Брежнева (1964–1982 гг.) состоит в том, что они выявили неспособность государства и общества к осуществлению конструктивных перемен. Ориентация на застывшую силу николаевского режима, по мысли А. С. Ахиезера «стала отправной точкой движения России в пропасть» [Ахиезер 1997: 624]. Отсутствие концептуальных идей в период брежневского застоя и последующей горбачевской перестройки привели к катастрофе государственности и распаду Советского Союза.
В предлагаемой книге затрагивается одна из самых сложных и одновременно интересных тем – как народы Советского Союза вставали с колен, преодолевая разруху в первые послевоенные годы, накануне смерти И. В. Сталина и в первые годы хрущевской оттепели. Анализируя процессы формирования патриотических, нравственных и эстетических черт и чувств на примерах сельских школьников Каргапольского района Курганской области конца 1940-х – начала 1950-х гг., я пытаюсь определить признаки и призраки восстановления некоторых исторических традиций из богатейшего арсенала классической русской культуры первой четверти XIX в., путем сравнения двух эпох, подкрепляя свои выводы личными воспоминаниями, мемуарами своих школьных учителей и сверстников, сведениями из публикаций современных специалистов по мемуаристике и знатоков истории тех времен [Подольская 1989; Аксютин 2004: 12–13].
От обозрения имеющейся литературы, посвященной «оттепели», остается досадное впечатление о якобы резкой грани между предшествовавшим сталинским мраком и наступившим немедленно, после смерти «вождя народов», весенним просветлением. Никоим образом не выступая адвокатом тоталитарного режима и не пытаясь обелить тяжелейшие послевоенные годы, я все же хочу думать, что победа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. вдохнула жизнь в духовную культуру советских народов, что нашло наиболее заметное выражение в ментальности и в настроениях первого, вступившего в жизнь послевоенного поколения.
При обращении к своей памяти, меня, как и других мемуаристов, вдохновляет надежда, что факты, почерпнутые из «реки по имени факт», могут быть важнее, чем художественные дарования автора. Предаваясь воспоминаниям и предлагая их в виде очерков-«затесей», я сознательно не зацикливаюсь на самоанализе и «биографии своей души», а пытаюсь воспроизводить имена, события, факты повседневной жизни, принципы и институты соционормативной культуры, психологические и нравственные умонастроения изменяющегося времени и самого себя. Одна из моих задач, – показать, что в мои школьные годы, на рубеже 1940–1950-х гг., хотя страна была закрытой, люди – были открытыми. «Очень наивно пытаться понять людей, – писал, отвечая на вопрос ребенка «зачем нужна история», выдающийся французский историк Марк Блок, – не зная, как они себя чувствовали» [Блок М. 1973: 128].
Можно согласиться с категоричным суждением крупнейшего специалиста по истории средних веков в том, что, действительно, трудно понять душу чужого человека. Ситуация существенно облегчается, когда исследователь, обращаясь к своей памяти, и к своим, испытанным в полувековом прошлом чувствам, сравнивает их с представлениями своих сверстников и современников.
Немаловажную роль в приближении «оттепели» сыграло обращение школьной системы в своей воспитательной работе к культурному достоянию и к славной истории страны, победившей фашизм. Вместе с пробуждающейся жаждой знаний у поствоенной молодежи идеологическая пропаганда и воспитательная работа стали питательной средой для манифестации своего достоинства и формирования гражданской гордости за свою могущественную страну и ее всемирно признанную победу и культуру. Мне кажется, что одним из первых заметил предтечу «оттепели» как процесс наполнения духовных сил, известный писатель и журналист И. Г. Эренбург в повести «Оттепель», опубликованной в журнале «Знамя». Его крылатые слова, прозвучавшие в этой повести, вызвали большой общественный переполох. Вот эти символические слова: «А высокое солнце весны пригревает и Володю и Танечку, и влюбленных на мокрой скамеечке, и черную лужайку, и весь иззябший за зиму мир» ([Эренбург 1954]; цит по: [Аксютин 2004: 85]).
Победоносное завершение Отечественной войны 1812 г. и Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. вызвало небывалый подъем патриотических чувств и нравственных исканий в двух послевоенных эпохах, разделенных полуторавековым временем – первой четверти XIX в. и в 1940–1950-е гг. XX века. В первом случае созрели объективные условия для постановки вопроса об отмене позорного крепостного права, во втором – для преодоления тоталитарного наследия, сталинизма и движения за права и свободы человека.
Напомню известные со школьной скамьи ленинские слова о том, как в поствоенный период в начале XIX в. возникло движение против нравственного угнетения интеллектуалов и за духовный подъем и за освобождение народа от крепостнической зависимости.
Мы видим ясно три поколения, – писал В. И. Ленин в связи со столетием рождения А. И. Герцена, – три класса, действовавшие в русской революции. Сначала дворяне и помещики, декабристы и Герцен… Их дело не пропало. Декабристы разбудили Герцена. Герцен развернул революционную агитацию. Ее подхватили, расширили, укрепили, закалили революционеры-разночинцы, начиная с Чернышевского и кончая героями «Народной воли» [Ленин. ПСС. 1976, 21: 261].
В отечественной мемуаристике содержится огромное количество воспоминаний о том, как в первом десятилетии после Отечественной войны 1812 г. в определенных кругах российского общества возникли симпатии к вестернизации и установилась свежесть чувств и мыслей и атмосфера социального обновления.
Я слышал, – вспоминал Н. И. Тургенев, хотя и не участвовавший в восстании на Сенатской площади, но очень много сделавший для отмены крепостного права в России, в том числе своей знаменитой книгой «Россия и русские», – как люди, возвращавшиеся в С.-Петербург после нескольких лет отсутствия, выражали свое изумление при виде перемены, произошедшей во всем укладе жизни, в речах и даже поступках молодежи этой столицы: она как будто пробудилась к новой жизни, вдохновляясь всем, что было самого благородного и чистого в нравственной и политической атмосфере. Особенно гвардейские офицеры обращали на себя внимание свободой своих суждений и смелостью, с которой они высказывали их, весьма мало заботясь о том, говорили ли они в публичном месте, или в частной гостиной, слушали ли их сторонники, или противники их воззрений [Тургенев 1989: 273].
Духовным подъемом постнаполеоновского периода были вызваны гениальные произведения родоначальников русской профессиональной художественной литературы А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, А. С. Грибоедова, и других, менее именитых, но не менее патриотично настроенных писателей и поэтов, явно или тайно симпатизирующих декабристам и их доктринальным принципам и идеям во имя свободы, гражданского достоинства и любви к Отечеству. А. С. Пушкин не читал ни дневников Н. И. Тургенева, ни его книги «Россия и русские», написанной в духе философских писем Чаадаева и увидевшей свет через десять лет после гибели поэта, но в бессмертном романе в стихах «Евгений Онегин», прозорливо предугадал социальную миссию Н. И. Тургенева в деле отмены крепостного права:
- Одну Россию в мире видя,
- Преследуя свой идеал,
- Хромой Тургенев им внимал
- И, плети рабства ненавидя,
- Предвидел в сей толпе дворян
- Освободителей крестьян.
В 10-й главе, изданной сначала отдельно от канонического текста великого романа в стихах, выражалось немало патриотических чувств и критики в адрес существующего режима.
Заметные сдвиги в культуре повседневности и в общественном сознании советских людей происходили в годы Великой Отечественной войны. Отображение тяжестей военного и тылового быта в литературе того времени происходило как за счет героизации и поэтизации повседневности, так и за счет реалистичного изображения ужасов и трагедий военного времени (А. Твардовский, К. Симонов, А. Сурков, В. Гроссман, М. Шолохов, И. Эренбург, Э. Казакевич, В. Некрасов и другие).
Победа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. пробуждала патриотизм, сильные гражданские чувства, требующие выхода в той или иной форме, в зависимости от таланта, возраста, окружающей среды и личного темперамента. Но полем для выхода для молодой энергии и полем приложения сил не могла быть сфера экономической, политической и общественной жизни, выход нашелся в обращении к духовной сфере и в стремлении погружаться в богатства и ценности культуры. Подобно иссохшемуся полю, страдающему от отсутствия влаги, так и молодые души, пострадавшие в военное лихолетье от голода и холода, от сиротства и беззакония, устремились к налаживанию жизни в духовной сфере, компенсируя бедность и материальные лишения обращением к литературе, живописи, кино и устному народному поэтическому творчеству.
Сходные по масштабам катаклизма события двух эпох, разделенных полуторавековым периодом российской истории, позволяют мне, свидетелю второй из них, с известными ограничениями говорить от имени всей молодежи 1940–1950-х гг., экстраполируя частную биографию сына депортированных родителей на общую судьбу своего поколения.
Наглядным показателем потепления политического и психологического климата стали книгомания, киномания и интерес к искусству, выплеснувшийся в широком распространении возрожденной традиции «уездных барышень альбомов» среди детей и подростков.
Типологическое сходство устремлений избавить российское общество от Павловского периода в начале XIX в. сопровождалось среди молодежи пронзительным желанием приобщаться к культурным ценностям.
Подобно тому, как мрак непредсказуемости сына Екатерины II императора Павла сменился правлением ее внука Александра I и в России наступили времена общественно-политического потепления, сходным образом после смерти И. В. Сталина, народ, хотя и продолжал пребывать в тревожном состоянии, но все же почувствовал облегчение и первые признаки перехода от тирании к свободе. Анализируя инициативную роль воспитательной работы учителей Каргапольской средней школы, роль литературы и кино вместе с нахлынувшими «альбомными» страстями, я не акцентирую внимание на роли средств массовой информации, в том числе радиопередач, в воспитании чувств патриотизма, гражданственности и достоинства у молодежи тех лет. В центре села, где я жил в мои школьные годы, между двумя магазинами – продовольственным и промтоварным, – на высоком телеграфном столбе висел репродуктор – «черная шляпа», постоянно вещающая днем и даже ночью, когда случалось, что сторож пребывал в нетрезвом состоянии.
Радиопередачи была настолько неотъемлемой составной частью сельского быта, что сельские жители, особенно дети и подростки, перестали обращать на них внимание. В первые послевоенные годы, когда прекратились передачи «сводки с фронта», убавился интерес к политической и идеологической трескотне, лишь изумительные песни довоенного и военного времени слушались по радио с большим воодушевлением. Мало кто из людей нынешнего пенсионного возраста на рубеже веков не знает ставшие всенародными песни М. Исаковского: «Катюша», о войне: «Прощание» («Дан приказ ему на Запад, Ей – в другую сторону…»), «До свиданья, города и хаты», «Катюша», «Ой туманы мои, растуманы», «Огонек» («На позицию девушка провожала бойца…»), «В лесу прифронтовом», о родине, дружбе и любви: «Каким ты был», «Лучше нету того цвету», «Услышь меня хорошая», «Одинокая гармонь», «И кто его знает», «Ой, цветет калина».
Вдохновляющая и мобилизующая энергия песни М. Исаковского «Летят перелетные птицы», неоднократно, по словам Н. В. Корниенко, упоминались в отечественной литературе [Корниенко 2008: 166–167].
Память о ВОВ у моих коллег – сотрудников ИЭ АН СССР хранилась не только на стенде с фотографиями ветеранов рядом с директорским кабинетом, но и в отзвуках военного времени. В предпраздничные дни по длинному коридору четвертого этажа нашего здания на Дм. Ульянова (дом 19) туда и сюда шествовали сотрудники с любимой песней фронтовика – директора Института этнографии – АН СССР Ю. В. Бромлея «Летят перелетные птицы». Сочный, полнозвучный аккомпанемент на баяне в исполнении В. Н. Шамшурова, будущего заместителя министра по делам национальностей, придавал шествию торжественность, воодушевление и трепетное волнение. И хотя некоторым сотрудникам в 1970–1980-е гг. – по молодости – не пришлось воевать, в памяти всплывали трагические поствоенные годы с первыми проблесками грядущего улучшения жизни и повышения градуса патриотизма, который тогда еще не признавали гражданской идентичностью.
Раздел II Элементы повседневности в сфере труда
1. «Айда по горох» – приглашение к адаптации
«Айда по горох!» – это были первые слова, что я услышал от своих сверстников, волею судьбы оказавшись летом 1949 г. в селе Тамакулье Каргапольского района Курганской области. С таким предложением обратился ко мне соседский мальчик Алеша Лукинов, который, вместе с Толей Юркиным и Володей Патраковым, стал моим лучшим другом на все годы депортационного периода, в сказочные школьные времена. Это было приглашение на колхозное поле, раскинувшееся на склоне горы между двумя селами – Тамакульем и Зырянкой. Поле заканчивалось березовой колкой, а на вершине горы гнездились анклавы душистой клубянки. Так называли клубнику местные жители.
Итак, внешне романтично началась моя восьмилетняя «командировка» по включенному наблюдению над собственной адаптацией и приспособлением моих южных соплеменников – спецпереселенцев к суровой сибирской экологии, а вместе с тем и в интереснейшую инокулыурную среду и в непривычную сферу колхозной жизни.
Трагическая судьба и горькие страницы жизни депортированных родителей обернулись парадоксальной возможностью стать участником уникального эксперимента по изучению методом включенного наблюдения практик и технологий кросскулыурного адаптационного процесса.
Яркие впечатления детства совокупно с навыками полевых наблюдений, обретенных во время экспедиций студенческой поры, организованных кафедрой этнографии исторического факультета МГУ, а также опыта, приобретенного позднее во время организации серии этносоциологических опросов, в том числе по международным проектам, послужили исходной базой для осмысления итогов не только адаптации спецпереселенцев в новую для них социально-экономическую инфраструктуру Курганской области, но и последующей реадаптации в Буджакскую степь, как исходную среду обитания.
Смысл моих воспоминаний, как известный в антропологической литературе этнологический «взгляд изнутри» в отличие от океана мемуарной литературы, состоит не в воспевании ностальгии, а в попытке уловить контуры формирования новой идентичности спецпереселенческого контингента, вызывать из небытия изгибы и изломы его ментальности и жизнедеятельности в непривычных и нелегких условиях чужбины. Вместе с тем обращение к детству и школьному времени позволяет рассказать о тех «внутренних течениях», под влиянием которых душа отгораживалась от жестокостей власть предержащих, от давления неуютной среды и от свалившихся в первое время депортации норм неблагополучия.
Подобно крутому всплеску в памяти, в свое время предопределенному русской этнографической потребностью осмыслить свои и чужие беды и ужасы исторического перелома, связанного с Октябрьской революцией и Гражданской войной, так и сегодня и в ближайшем будущем мы вправе ожидать наплыва воспоминаний не только о развале Советского Союза, но и о нескольких не вполне похожих друг на друга этапах переменчивой жизни советского общества во второй половине XX в.
Задача этого очерка, как и написанной на одном дыхании первой книги воспоминаний [Губогло 2008], – привлечь внимание в двум, к сожалению, маловостребованным нишам в ряду перспективных этнологических и этносоциологических исследований, посвященных антропологии адаптационных процессов к иноэтнической среде и антропологии, развивающейся во времени и пространстве идентичностей от этнической до гражданской и от тендерной до региональной. Мне видится, что оба направления не страдают от избытка публикаций и от наплыва внимания со стороны теоретиков и практиков.
К редким новейшим работам, в той или иной мере касающимся каждой из названных «личностных» антропологии, можно отнести публикации С. С. Булгара, Е. П. Бусыгина, Л. М. Дробижевой, Г. А. Комаровой, В. А. Тишкова и некоторых других исследователей [Булгар 2003; Дробижева 1996; Комарова 2008; Тишков 2008; 2013]. Однако в них, как правило, антропология человека, основанная на автобиографических исповедях и других источниках, раскрывающих адаптацию в социальную или политическую среду или в лоно науки, излагаются не от первого лица, что неизбежно приводит к излишне осторожной самоцензуре или редакционным шероховатостям.
Итак, шел август 1949 года… Уже 17 лет в Советском Союзе действовали драконовские законы о неприкосновенности колхозной собственности. Два закона, в том числе один из них, названный в народе «О пяти колосках» и другой – «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной социалистической собственности», были приняты еще в августе 1932 г.
Одна из статей второго закона, в частности, предусматривала применение «высшей меры социальной защиты» – т. е. расстрел, в том числе по отношению к детям, начиная с 12 лет.
На меня и на моих новых сибирских приятелей, не достигших 12-летнего возраста, действие этого закона, понятно, не распространялось. Совершая набеги на колхозные поля, засеянные овсом вперемешку с горохом, мы, ясное дело, не подозревали о существовании человеконенавистнических законов, «подаренных» советскому народу по злой воле усатого вождя. По всей видимости, представители местных органов власти трактовали эти законы таким образом, что если бы в них речь шла о зрелых колосках, и прежде всего о пшеничных и ржаных злаках. Овес же с горохом на курганских полях высевали поздно, в основном для силоса. Корм колхозным коровам заготавливали из недозрелой кукурузной массы, лугового сена и недозрелой овсяно-гороховой массы.
Прошло почти четыре десятилетия после тех наших разгульных гороховых пиршеств, как в газете «Правда» появилось сообщение из архивов о том, что «к началу 1933 г. за неполные пять месяцев по закону («О пяти колосках» – М. Г) были осуждены 54 645 человек, из них 2 110 – были приговорены „к высшей мере“» (Правда. 1988. 16 сентября).
Однако вернемся к приглашению «пойти за горохом». Читатели, вероятно, обратили внимание, что в названии данного очерка: «айда по горох», я не закавычил это словосочетание. Дело в том, что заимствованное из тюркского языка это слово (айда) вошло в вокабуляр и стало достоянием русского языка. В Толковом «Словаре русского языка» оно «употребляется как приглашение или побуждение идти куда-либо: пойдем, пойдемте» [СРЯ, 1: 27].
Характерны примеры, приведенные в этом «Словаре» из произведений классиков русской литературы – М. Горького («Фома Гордеев») и Г. Маркова («Строговы»). В первом случае: «Братцы! Айда за яблоками? – предлагает Ежов, вдохновитель всех игр и похождений», во втором – «А ну, айда, мужики, домой, угрюмо сказал бородач».
Слово айда в редакции хайди в гагаузском языке означает близкое к слову русского и татарского языков пойдем – «айда, ну, ну-ка, ну же, давай пойдем» ([ГРМС 1973: 507], см. также [ГРРС GRRS 2002: 306]).
Итак, оказавшись насильственно переселенными из знойных Буджакских степей в холодные просторы западносибирской низменности с ее свирепыми ветрами и трескучими морозами, жарким коротким летом, болгары, гагаузы и молдаване вынуждены были приспосабливаться к новым климатическим, социальным, этнокультурным условиям. Соответственно, перед ними встала триединая задача физиологической, социально-экономической и психологической адаптации.
Источником для выявления контурных параметров адаптационных процессов, имеющих принудительный характер, в известной мере могут служить воспоминания в порядке постановки проблемы о сути и содержании адаптации в экстремальных условиях.
Первые, к слову, самые трудовые, адаптационные усилия спецпереселенцев 1949 г. пришлись на осенние месяцы, когда вместо любования пушкинской многокрасочной порой, которая для «очей очарованье», надо было ежедневно думать о том, что бы еще на себя надеть, чтобы укрыться от стремительно наступающих холодов. Вместо предвкушения рождественских колядок и новогодних поздравлений, в круговерти декабрьских коротких дней и длинных ночей время уходило на оплакивание своей судьбы, на заготовку дров и на поиски продовольственных запасов.
Иными словами, первый год на чужбине превратился в череду малозаметных подвигов родителей по добыванию куска хлеба и по спасению от неумолимого наступающего повседневного холода.
В богатейшей отечественной и зарубежной литературе, посвященной массовым репрессиям, в том числе и по этническому признаку, особенно в получивших широкую известность публикациях Е. Гинзбург, А. И. Солженицына, А. Приставкина и многих других, наряду с документально подтвержденными описаниями ужасов и трагедий сталинского террора порой с мазохистским смакованием изображаются судьбы безвинно наказанных людей, в том числе отнесенных в категорию спецпереселенцев. Большая часть этих трагедий, выявленных в публикациях о наказанных народах и отдельных гражданах, адекватна реальности.
Однако в этих описаниях менее всего освещаются проблемы успешной адаптации спецпереселенцев к новым условиям жизни, к которым они были приговорены навечно в момент выселения. Между тем эти огромные массы людей, в одночасье лишенные всего своего достояния, должны были начинать материальную и духовную жизнь как бы заново, с нуля.
В отличие от стратегии добровольной адаптации, предполагающей совокупность действий адаптанта с целью приспособления к изменяющимся условиям и образу жизни, стратегия принудительной адаптации состояла в ограниченной свободе выбора времени, средств и действий для приспособления к навязанным формам и образу жизнедеятельности.
В одной из первых типологических классификаций, предложенной в 1928 г. представителем биологической науки Л. Плате, в качестве мотивов и основных причин адаптивных стратегий были названы: 1) целесообразность, 2) приспособление к окружающей среде, 3) сохранение здоровья, 4) сохранение вида [Философские проблемы… 1975: 45–46; Митиоглу 1998: 113].
Каждый из перечисленных показателей адаптационного процесса в той или иной мере вполне мог бы быть прилагаемым и к принудительной адаптации, к которой были обречены спецепереселенцы. Однако, их стратегия была иной: прежде всего она состояла в том, чтобы выжить, сохранить себя и свое здоровье и жизнь. И жестокая трагедия этой стратегии заключалась в том, что единственным механизмом выживания служило здоровье. Добывать хлеб насущный ради сохранения жизни надо было за счет губительной растраты жизненных сил в ущерб своему здоровью.
Исчезновение одного из спецпереселенцев из села, в котором мы жили, и печальным свидетелем чего мне пришлось быть, далеко не единственный случай «добычи» чудовищной машины репрессий. По Интернету гуляют десятки надерганных в том числе из произведений А. Солженицына холодящих душу примеров:
«… Смертную казнь получил ивановский деревенский парень Гераська: на Николу вешнего гулял в соседней деревне, выпил крепко и стукнул колом по заду – не милиционера, нет! – но милицейскую лошадь» [Солженицын 1989: 427].
Портной, откладывая иголку, вколол ее, чтобы не потерялась, в газету на стене и попал в глаз Кагановичу. Клиент донес куда следует. Портной получил 10 лет по 581 статье «за террор».
Продавщица, принимая товар от экспедитора, записывала его на газетном листе, другой бумаги не было. Число кусков мыла пришлось на лоб товарища Сталина. По 581 статье ее посадили на 10 лет.
Тракторист Знаменской МТС утеплил свой худой ботинок листовкой о кандидате на выборы в Верховный Совет, а уборщица хватилась (она за те листовки отвечала) – и нашла. По статье за контрреволюционную агитацию трактористу присудили 10 лет.
Заведующий сельским клубом пошел со своим сторожем покупать бюст товарища Сталина. Купили. Бюст тяжелый, большой. Надо было на носилки поставить, да нести вдвоем, но заведующему клубом положение не позволяет… Старик-сторож догадался: снял ремень, сделал петлю Сталину на шею и так через плечо понес по деревне. Ну, уж тут никто оправдывать не будет, случай чистый. По 58-й статье 10 лет за террор.
Пастух в сердцах выругал корову за непослушанье «колхозной б…». Понятно, за подрыв авторитета колхозного строя ему дали 10 лет.
В бухгалтерии совхоза висел лозунг: «Жить стало лучше, жить стало веселее» (И. Сталин). И кто-то красным карандашом приписал «у» – мол, Сталину жить стало веселей. Виновника не искали… посадили всю бухгалтерию.
Не исключено, что нынешнему молодому поколению приведенные примеры могут показаться смешными, анекдотичными и почти невероятными. Но, как мне приходилось уже рассказывать, житель села Тамакулье исчез из села через три-четыре дня после того, как во время всенародного праздника во время выборов депутатов в Верховный Совет СССР в марте 1951 г., приняв «на грудь» излишнюю дозу спиртного, выразил вслух желание вступить в интимную связь с матушкой вождя народов, по злой воле которого был переселен из Гагаузии в Сибирь.
Кто бы мог подумать или подсказать мне, малолетнему смышленышу – сохранить письма из лесозаготовок Коми республики, чтобы потом с помощью факсимильного издания показать зачеркнутые черной тушью целые абзацы. Где они, черновики моих ответных писем от безграмотной супруги осужденного, чтобы получить представление о количестве трудодней, заработанных его взрослой дочерью – о том, сколько яиц удалось собрать в конце дня в сарае и под сельским домом, воздвигнутым на высоком фундаменте, о том, как скоро выполнен сталинский план заготовок молока и шерсти.
В процессах адаптации к местным условиям подростки и молодежь спецпереселенцев приспосабливалась быстрее, чем пожилые. Так, например, мой дед быстро смастерил мне жостку, чтоб в соревнованиях с местными ровестниками я мог добиваться хороших результатов. Суть состязаний состояла в том, кто больше всего сможет подбить ее ногой без перерыва. Жостка представляла собой кусок длинношерстной кожи, к которой прикреплялась круглая свинцовая пластина. Подбитая внутренней стороной ноги, жостка взлетала, подобно бадминтону, и спускалась парашютируя. Нужна была хорошая тренировка, чтобы жостка взлетала и опускалась, не прерываясь несколько десятков раз.
Еще одной детской забавой было влезать на вершину тонкой березы и, раскачав дерево, «спускаться как на парашюте». Увы, однажды спуск оказался не вполне удачным. Самый решительный из нас Толя Юркин, будущий мастер спорта по борьбе, директор Каргапольской средней школы, героически взобрался на десятиметровую березу, верхушка которой вместо плавного («парашютного») спуска, обломилась. И хотя парашютист отбил себе печенку, все обошлось в конечном счете благополучно. С тех пор мы стали подбирать для спусков березы с тоненькими, более упругими стволами.
2. Хозяйственно-экономические векторы повседневной жизни
В отличие от многочисленной белой эмиграции, состоявшейся после Октябрьской революции и Гражданской войны, вынужденное переселение крупных контингентов населения из различных регионов Молдавской ССР выдвинуло перед ними серьезнейшие задачи по хозяйственно-экономической и социокультурной адаптации. Трудно в каких-либо единицах измерить адаптивный потенциал конкретного спецпереселенца. Ясно одно: для того, чтобы витальная энергия могла обеспечивать жизнь, надо, чтобы она накапливалась и расходовалась. В отличие от принципа маятника, энергия жизнеобеспечения накапливается по принципу самозаряжения.
Витальная энергия белой эмиграции в 1920-е гг. в значительной мере расходовалась на подпитку ностальгических чувств и на подавление чувства побежденных и изгнанных из собственной страны. Куда как красноречиво поведала об этих специфических до слез ощущениях ностальгии Юлия Сазонова, считавшая русского эмигранта в Европе идеальным и самым жизнестойким представителем человеческой породы и поэтому обратившаяся к изучению различных форм его ментальности и исповедения, в том числе в деле восприятия Запада, как инокулыурной среды с точки зрения совместимости ключевых положений соционормативной культуры самих эмигрантов.
Спецпереселенцы, привезенные летом 1949 г. под конвоем из Молдавии в Сибирь, менее всего были озабочены на первый взгляд естественными чувствами ностальгии и тоски по родным очагам. В отличие от материально обеспеченных белоэмигрантов, перед ними со всей серьезностью встал вопрос обеспечения продовольственной стороны выживания.
Векторы хозяйственно-экономической, бытовой и социокультурной адаптации спецпереселенцев предопределялись, во-первых, насильственным переводом депортированных людей из частнособственнического сектора в колхозно-кооперативный; во-вторых, из климатической зоны Буджакского степного края в лесостепной ареал Западной Сибири. Бонитет почвы Буджака и новых мест поселения не имел принципиальных различий. Однако вместо безводной Буджакской степи и ее изнурительной летней жары, в Сибири короткое жаркое лето нередко прерывалось прохладными днями, а суровые зимы с октября едва ли не до мая месяца были совершенно непривычны для южан.
Здесь, увы, не рос виноград, не вызревала кукуруза, вместо привычных роскошных южных фруктов – персиков, айвы, чернослива, здесь росли ранетки – дающие карликовые яблочки. В палисадниках крестьянских домов повсюду в изобилии росла черемуха, боярышник, реже встречалась вишня и вишенья (кустарниковая вишня).
На колхозных посевных пашнях значительный удельный вес занимали площади картофеля и свеклы, кормовых культур – турнепса, клевера, овсяно-гороховой смеси. Вместо привычного в Буджаке пастбищного овцеводства, здесь в Сибири преобладало стойловое животноводство. Зимнее содержание скота практически с ноября до мая требовало значительного запаса кормовых единиц. Особенно непривычной была летняя страда – выездная кампания по заготовке сена на заливных лугах, находящихся на расстоянии не менее 20–30 километров от некоторых деревень, в том числе от с. Тамакулье, и заготовка дров на зиму.
При анализе хозяйственных адаптивных стратегий некоторых народов Крайнего Севера к инновациям некоторые исследователи выделяют (крупным планом) две траектории, называя одну часть населения «промысловиками», другую – «оленеводами», ставшими синонимами понятий «покорившихся» и «непокорившихся» вызовам урабанизационного наступления на хозяйственную деятельность малочисленных народов в XVII–XX вв. со стороны российской государственности и христианизации. Ссылаясь на известные публикации А. В. Головнева [Головнев 1997: 86, 87], авторитетная исследовательница социологии адаптации Л. В. Корель пишет:
Оказывая то явное, то скрытое сопротивление советско-российской экспансии, оленеводы сумели сформировать соционормативную культуру, способную противостоять индустриальному воздействию. Это уберегло (защитило) их от необходимости глубокой адаптации к российской цивилизации, они ограничились поверхностной. В то же время другие народы Севера вынуждены были более радикально менять весь свой жизненный уклад [Корель 2005: 130].
В отличие от адаптационных практик малочисленных народов Севера, у контингентов спецпереселенцев не было выбора. Поэтому они вынуждены были радикально менять свой образ жизни и исторически устоявшиеся элементы своей соционормативной культуры.
Движущей силой хозяйственной деятельности спецпереселенцев было не стремление к обогащению, а инстинкт самосохранения. И еще срабатывала инерция соционормативной культуры, в основе которой была наработанная веками установка к труду. Она приглушала социальную несправедливость и вымещала комплекс неполноценности у гордых и независимых людей, попавших в жернова сталинских репрессий.
Одним из важнейших в стратегии адаптации к местным условиям жизнеобеспечения было обретение хорошей коровы. Особенно везло тем семьям, которым доставалась корова с высокой жирностью молока. В летний сезон хозяин такой коровы относительно быстро успевал выполнить «сталинский план» госпоставок, а оставшееся молоко сдавал на маслозавод в обмен на масло и обрат. Вареная крапива, смешанная с отрубями и обратом, служила хорошим кормом для поросят. К зиме вес «борьки», как и «синьки» достигал до 1 центнера.
Задача хозяев состояла не только в заготовке или дозакупке сена в зимний период, но и в создании условий для стойлового содержания. Ежедневно надо было стелить свежую солому, убирать за коровой и следить, чтобы она не замерзла на голом сыром полу. В летний период надо было наблюдать, чтобы корова не оставалась яловой и была покрыта в такой срок, чтобы время отела пришлось не на лютые морозы, а на относительно теплое время в конце зимы или в начале лета.
Исключительно ответственным было время ожидания отела и первые дни существования новорожденного. Категорически нельзя было подпускать хозяйских детей бодаться с поднявшимся на ноги, но не окрепшим теленком, чтобы теленок не вырастал бодливым.
По гагаузским обычаям, видимо, доставшимся от прошлой кочевой жизни, уход за скотом считался мужской работой. В обязанности взрослых мужчин входила заготовка кормов для коров, лошадей и овец, уборка хлевов и уход за лошадьми. В. А. Мошков, например, обращал внимание на то, что на рубеже XIX–XX веков дойкой овец у гагаузов «занимаются… исключительно только мужчины» [Мошков 1901: 21].
На второй год пребывания в депортации женщины спецпереселенцев, еще не вполне освоившие местные природно-климатические условия, работали на полевых работах наравне со своими мужчинами и местными женщинами. Кроме того, на их долю достались уход за домашней птицей, обязанности по огороду, заготовка кормов для коровы и овец. Они сажали (квадратно-гнездовым способом) картошку, на утепленных органическими удобрениями грядках выращивали огурцы, помидоры, морковь, свеклу, а также неведомые в Буджаке бобы и брюкву. Вдоль забора на картофельном поле или у себя дома на огороде росли подсолнухи скорее для красоты, так как в промышленных масштабах семечки не вызревали.
За первые два года спецпереселенцы хорошо усвоили огородную культуру «местного» разлива. На небольшом сравнительно участке до 20 соток каждая семья обеспечивала себя овощами на всю зиму. Они быстро научились завозить на участок перегной и помет, устраивать высокие грядки под огурцы, дыни, помидоры, засадили вдоль по периметру кустами смородины, крыжовника. От посадки фруктовых деревьев воздерживались по причине неподходящего климата. Кроме мелких ранеток и кустов лесной вишни, фрукты, особенно косточковые, такие как сливы, абрикосы, персики, здесь не вызревали. Вместе с родителями, а порой и с близкими родственниками, дети подростки умели вносить органические удобрения, высаживать рассаду, высевать морковные, свекольные и другие семена. Обязательным обрамлением каждой грядки были бобы, несмотря на то что в районах выселения эта культура не была популярна. В то же время привычная в Буджаке фасоль здесь не вызревала.
Чувашская семья в с. Тамакулье, раскулаченная в 1929 г. и адаптированная в местную среду, обеспечивала хмелем едва ли не многие близлежащие села, сохранив по инерции высокую культуру выращивания хмеля, вывезенную из Чувашской АССР.
Заливные луга, отведенные жителям с. Тамакулье для сенокоса, находились в нескольких десятках километров вниз по течению в устье реки Миасс, где она впадала в Исеть. Сенокосная страда представляла собой целую операцию. Туда, где косили сено на лугах, в перелесках, в колках выезжали сельским табором и на берегу Миасса ставили шалаши.
Вокруг табора шалашей расставляли хомуты и другую конскую упряжь, как предохранение от заползания змей. Считалось, что змеи, которых на заливных лугах и в болотах было великое множество, не переносили лошадиного запаха.
Косили не только обычную луговую траву, но и осоку, обильно растущую на болотных участках, но дающую сено второго сорта. Дети от 12 до 17 лет верхом на лошадях подвозили к стогам копны сена на волокушах, сделанных из молодых берез или осин, стволы которых служили оглоблями, а на кроны с листьями складывали скошенную и высушенную в валках траву. В ужас приводили клубки змей на застарелых пнях, где они грелись на солнце.
К самой тяжелой и ответственной работе – скирдованию, подростков не приглашали. Иногда разрешалось подбирать подсохшее сено в рядках на конных граблях. Сидя на удобном сидении с дырочками, надо было регулировать рычаг, с помощью которого подымались и опускались серповидные зубья механических граблей. Взрослые мужчины, у которых уже были свои коровы и овцы, относительно быстро усвоили премудрости скирдования. Особенно тяжело было подавать на стог сено на навильниках. Зимой сено подвозили домой на колхозных лошадях.
Запрягать лошадей в телеги для весеннего вывоза навоза на колхозные поля или в волокуши для перевозки копен при скирдовании высушенного сена подростки учились методом проб и ошибок с 12–13 лет. Труднее всего в этом нежном возрасте было подсаживать дугу и затягивать супонь. Стертая в кровь коленка правой ноги, мозоли на руках выдавали подростка в том, что ему не раз уже приходилось запрягать лошадь.
Литературный герой романа А. П. Чудакова «Ложится мгла на старые ступени» – ссыльный профессор Розенкампф – из ленинградских немцев – с трудом осваивал искусство запрягания лошади. Он доставал кожаную записную книжку с золотым обрезом, укреплял ее на воротах и начинал запрягать, согласуя свои действия с записью в шпаргалке, подготовленной со слов ветерана сельской жизни.
И делал все вполне успешно: – как замечает автор автобиографического романа А. П. Чудаков, – под чересседельник не забывал подкладывать потник… даже перед затягиванием подпруги заправски пихал коня кулаком в брюхо, чтобы тот выпустил воздух, – пока не доходило до хомута. Хомут в своем рабочем положении, то есть клещевиной вниз, не налезает на конскую голову. Его надо перевернуть обратно, после чего клещевину можно стягивать супонью [Чудаков 2013: 97].
Отец А. П. Чудакова, обычно присутствовавший при процессе как консультант, молча переворачивал хомут, надевал и снова переворачивал. «„Думконф!“ – бил себя по лбу профессор и делал пометку в книжке; в следующий раз все повторялось» [Там же].
Из приведенного текста видно, что автору романа А. П. Чудакову приходилось не раз запрягать лошадь. В этом можно быть уверенным даже несмотря на то, что он упустил одну важную деталь: если супонь не была натянута до отказа, плечо лошади натиралось до кровавого месива. За это в сибирской деревне строго наказывали.
Сегодня, на заре нового тысячелетия, я вспоминаю, как более полвека тому назад мы семьей всю весну заготавливали торфяные горшочки для ранней посадки картофеля квадратно-гнездовым способом, заготавливали на зиму дрова, как вывозили перед посевом навоз на колхозные поля, как собирали колоски и убирали картошку, собирали урожай или грибы и ягоды в близлежащих лесах, как подсчитывали количество заработанных трудодней и с нетерпением ждали общеколхозные годовые собрания, чтобы узнать «вес» каждого трудодня, выраженный в количестве зерна, в свекле, в картошке и т. п. При этом обнаруживается парадоксальная вещь. Мои однокашники в Москве, родом из Тамакулья, Каргаполья и других деревень Каргапольского района, все перечисленные сельскохозяйственные операции вспоминают не без труда. И дело здесь не в качестве или объеме памяти, а в последствиях той адаптации, в которую была втянута моя семья наряду с семьями других спецпереселенцев и местных жителей. Все непривычные для жителей Молдавии сельскохозяйственные операции довольно бурно обсуждались на семейном совете. Переход из одной системы жизнеобеспечения в другую, восприятие непривычных традиций соционормативной культуры оставлял в душе и памяти более глубокую борозду, чем в памяти тех, кто родом из тех краев.
Особое недоумение у спецпереселенцев, оторванных от индивидуальных посевных площадей, огородов и виноградников, вызывало индифферентное отношение колхозников к земле, к колхозным лошадям и коровам. Колхозная инфантильность к земле и скоту выражалась в равнодушии к ним. Представление о крестьянской земельной собственности, имеющее для гагаузов и молдаван едва ли не сакральное значение, здесь, в колхозах, должно было «замениться» принципом работы на ничейной земле, за качеством которой не надо было ухаживать и заботиться, нести ответственность, так как ее не надо было передавать детям по наследству.
В итоге, как отмечала И. В. Власова, обозревая состояние сельского хозяйства в регионах России, «рушилось крестьянское мировоззрение и представление о земле, труд на которой обеспечивал крестьянскую жизнь и культуру хозяйствования» [Русские 2005: 205].
Негативные стороны колхозного хозяйствования, с которыми столкнулись спецпереселенцы, стали для местных жителей на рубеже 1940–1950-х гг. привычным явлением. В то время как спецпереселенцы не могли в одночасье отказаться от традиционного опыта и привыкнуть к равнодушному отношению к своему труду и к земле-кормилице.
Ни газа, ни электричества, ни водопровода в деревне не было. Воду, как и у себя на родине, в Молдавии, спецпереселенцы черпали в Сибири из колодцев. Но в отличие от районов Юга Молдавии, здесь, в Сибири, на подступах к деревенскому колодцу вокруг сруба в зимние месяцы нарастал толстый слой льда.
Кадушка с заготовленной водой хранилась в сенях, а в лютые морозы – заносилась в жилую комнату. Чтобы растопить утром печь, надо было с вечера занести в сени или в комнату охапку дров. Надо было умело расходовать дрова, рационально выбирая из поленницы, сложенной во дворе загодя, в летний период.
На этом месте стоял колхозный дом, в котором семья спецпереселенцев из 6 человек ютилась в комнате 12 кв. м., в том числе в зимний период с ноября до мая вместе с теленком, двумя поросятами и с полдюжиной куриц. Фото М. Н. Губогло, 2012
Колхозных лошадей и коров поили речной водой. Водовозом в зимние месяцы мог быть только сильный мужчина из числа спецпереселенцев. Он ездил за водой с бочкой, установленной на санях, прихватив с собой ломик или топор. Надо было сначала разрубить лед в проруби, залить водой обрастающую льдом бочку. Пока дышавшая на ладан лошаденка тянула сани к колхозной ферме, вода в отверстии бочки успевала покрыться коркой льда. Снова надо было работать топором или ледорубом. За заработанный в короткий зимний день водовоз получал причитающиеся на трудодень около 1,5 кг колхозной пшеницы и до 3-х кг овощей при хорошем урожае картофеля, свеклы и турнепса.
В гагаузском жизнеобустройстве до депортации так было заведено, что все члены семьи имели три формы одежды – будничную, праздничную и особую, свадебную, только для участия в свадебном церемониале. Соответственно, и питание состояло из обыденных, праздничных и свадебных блюд. Понятно, что, оказавшись в глухой и полуголодной сибирской деревне, поневоле пришлось забыть об этом триединстве. Тем не менее, глядя на то, как я был одет, никто и никогда не пытался подавать мне милостыню.
Можно допустить, что экстремальные ситуации, связанные с переходом из одной системы соционормативной культуры в другую, воспринимались в семье и оставались в памяти более остро, чем пребывание на протяжении всей жизни в одной и той же системе культурных координат.
Раздел III
Соционормативная культура как «Грамматика жизни»
1. Излом повседневности
Что счастие? Короткий миг и тесный,
Забвенье, сон и отдых от забот…
Очнешься – вновь безумный, неизвестный
И за сердце хватающий полет…
(А. Блок. Собрание сочинений. Т. 3. М.;Л., 1960. С. 41)
1. Переворошенный муравейник
Терпение и труд…
И люди… выживут
(Перифраз известного изречения времен депортации)
В дождливое июльское утро 1949 г. над Чадыр-Лунгой и окрестными гагаузскими и болгарскими селами, как над переворошенными муравейниками, струился горький и зловещий гул разорения. Казалось, на Чадыр-Лунгу обрушилось вселенское зло, как океанское цунами, сметавшее лучших людей и все живое.
У людей без суда и следствия отнимали не только дома и землю, не только самими выращенный и испеченный хлеб, не только лошадей и кур. Нет. Отнимали право на привычную повседневную жизнь, право на будущее. А в приговоре, отпечатанном на казенной бумаге, значилось: «Переселяетесь на вечное поселение!». Душа вскипала! Как ожог возникал вопрос: Куда? Почему? За что? По какому праву? Отнималось право на раздумье, на самоопределение, на традиционную, естественную человеческую жизнь. Идти на самоубийство было бы грешно по православным канонам. Побег грозил военным трибуналом. Оставалось одно: «Аллах сабур версии!» («Дай, Бог, терпенья»).
Пока подводы с хозяевами и конвоирами тянулись из перекрестных улиц Чадыр-Лунги вниз к железной дороге, параллельно с которой пробегала грунтовая дорога, лишь урывками мощеная случайным булыжником, седоки бездумно смотрели прощальным взглядом на дома, палисадники, виноградники, которые в соответствии со сказанным в «документах», им больше никогда не придется увидеть.
Страшно было смотреть, как в некоторых домах поспешно выводили из конюшен лошадей, коров, отары овец, как выкатывали хозяйственные телеги и праздничные фаэтоны. Оглядываясь на свои разоренные гнезда, выселенцы запоминали распахнутые ворота, рвущихся с цепей собак.
Через какое-то время вся насильственно изъятая движимость и недвижимость должна была стать «колхозно-кооперативной» собственностью. Но не тут-то было. Сегодня, по истечении полувека, тайное становится явным. Те местные активисты, кто вместе с вооруженными солдатами принимали участие в выселении «богачей» и были уполномочены регистрировать конфискованное имущество для передачи в колхоз, на самом деле «часть мелкого скота и птицы (овец, кроликов, кур) прихватили себе». При этом, как отмечали в мемуарной литературе очевидцы трагедии, часть награбленного шла «на шашлык и гулянки. Оставшееся принимали в колхозе. И там тоже его разбазаривали. Ведь мало скотину сосредоточить в одном месте. Ее еще надо кормить. За ней требуется уход. А кормов не было. Скот подыхал. Часть его разворовывали». Что же касается другой части имущества, – продолжает свои воспоминания живой свидетель выселенческой вакханалии Петр Васильевич Люленов, – «оставленного в своих домах выселенными людьми, такое как одежда, различная посуда с соленьями и другими продуктами питания в подвалах, а также мелкий домашний инвентарь, такой как мебель, ковры и другие домашние атрибуты, то все это было растаскано, присвоено и распродано моментально» [Люленов 2003: 31].
Но не только соседи, родственники, озверелая голытьба принимала участие в растаскивании имущества выселенных людей.
Не все желающие, – пишет П. В. Люленов, – могли взять то, что они желали заполучить из богатства, оставленного в домах выселенных. Потому что возле каждого такого дома была поставлена охрана. Это было престижно, и я бы сказал, хлебное поручение тогдашних властей… По описи, комиссионно, колхозу передавалась только земля и крупный инвентарь (подводы, сеялки, машины для теребления кукурузы, прес для выжимки винограда и т. д.). Остальное богатство выселенного оставалось в распоряжении назначенных охранников этого дома. И потихонечку ими растаскивалось… Эти охранники неплохо тогда запаслись коврами, картинами, шкафами, кроватями и одеждой. А также продуктами оставленных в посудах и законсервированных для питания семьи выселенного хозяина (сало, брынза, мясо, туршу) [Там же: 31–32].
Во второй половине 1990-х гг., в пору активного законотворческого процесса в Российской Федерации по поводу восстановления прав репрессированных народов, активно обсуждались юридические аспекты полной реабилитации безвинно наказанных народов. Разработчики законов, в том числе правоведы, настаивали на том, чтобы наряду с политической и правовой реабилитацией закон утверждал и полную имущественную реабилитацию. Как эксперт Комитета Государственной Думы по делам национальностей и как сам вместе с семьей депортированный и лишенный семейного имущества, я не во всем поддерживал идею «полной» имущественной реабилитации. Я исходил из того, что значительная часть имущества выселенных людей не была отражена ни в каких списках, ни в каких описях и реестрах, так как была попросту разворована и растаскана организаторами выселения, соседями и другими лицами, охочими до чужой собственности. Я знал, что большая часть вещей навсегда исчезла, благодаря шустрой сметливости соседей, в том числе благодаря стараниям близких и дальних родственников, не терявших надежды в той или иной форме вернуть «спасенную» ими родственную недвижимость.
Долгие годы после выселения я настораживался и напрягался, опасаясь услышать в свой адрес: «кулаческий сын». Уже в первые годы советской власти в районах Южной Молдавии как-то быстро в лексиконе полуграмотных представителей советской власти угнездилось обидное, оскорбительное прозвище «кулаческий дух», «кулаческое отродье». Так, в частности, обличали лиц из числа зажиточной прослойки сельского населения, представители которой в явной или скрытой форме саботировали сдачу госпоставок, вступление в колхоз, или отказывались платить налоги во второй или в третий раз.
И хотя сельское общественное мнение не осуждало середняков и кулаков, официальная идеология проповедовала и утверждала логику И. Сталина по удушению этой прослойки. Личное хозяйство обеспечивало сельскому жителю в отличие от горожанина экономическую свободу. Власть не могла ему, в отличие от горожанина, ограничивать доступ к кормушке, открывая и закрывая заглушку к средствам существования.
Российская история в ее советской форме подтверждала в середине XX в. слова великого поэта, сказанные о ней на рубеже первого и второго десятилетия этого века:
- Не всякий может стать героем
- И люди лучшие – не скроем –
- Бессильны часто перед ней,
- Так неожиданно сурова
- И вечных перемен полна;
- Как вешняя река, она
- Внезапно тронуться готова,
- На льдины льдины громоздить
- И на пути своем крушить
- Виновных, как и невиновных,
- И нечиновных, как чиновных…
- Так было и с моей семьей.
В мольбах о терпении и о снисхождении Божьем повозки со скарбом и скорбью двигались к товарнякам, что стояли на станции, готовые к погрузке. Народ безмолвствовал. И безмолвием своим, сопровождаемым рыданьями, отсутствием сопротивления, способствовал произволу и злодейству. Еще не успев уехать до места назначения, чтобы попасть в списки спецкомендатуры, в которой надо будет отмечаться ежемесячно, люди уже «сами себя боялись» и только на «сабур», т. е. на терпенье, уповали. И нынешним поколениям вряд ли можно будет понять всю горечь и глубину несчастья, обрушившегося на мирное население, поднятое под дулами автоматов к отправке в Сибирь на «вечное поселение». Ужас перенесенной трагедии оставил неизгладимый след в душах спецпереселенцев, в том числе в облике моих родителей.
Фото. Родители после депортации с сетричкой Дорой и братиком Володей, 1957
Со всех улиц двух сел – Чадыр-Лунги и Тирасполя (Трашполи), еще не слитых в тот год в единый город, к железнодорожному вокзалу стекались под конвоем нагруженные нехитрым домашним скарбом подводы. Плакали дети, рыдали женщины, беспомощно выглядели унылые мужчины с побелевшими глазами. В опустевших дворах мычали раньше времени проголодавшиеся коровы, растерянно блеяли овечки, яростно перекликались ошалевшие петухи. Вслед за некоторыми подводами, тянувшимися по дороге к станции вдоль железнодорожного полотна, двигались испуганные соседи и протягивали сидевшим на подводах кому – каравай хлеба, кому – калачи, кому – торбы с мукой или кукурузой. В осиротевших домах страшно, как люди, выли собаки, особенно те, которым не удалось сорваться с цепи, чтобы бежать вслед за хозяевами.
По мере того как на востоке светлело небо и пробуждалось село, к плачу выселяемых и вою собак присоединились причитания тех, в чьи ворота еще не постучались вооруженные солдаты и уполномоченный НКВД или МГБ по выселению. Когда из-за туч выглянуло покрасневшее от слез солнце, казалось, завыла вся Чадыр-Лунга от края и до края, от одной церкви до другой.
Опомнившиеся от первого шока ближние соседи и дальние люмпены кинулись в осиротевшие, наспех опечатанные дома и дворы, чтобы подобрать все, что плохо лежало. Хватали все, что пригодится в своем хозяйстве: добротный сельхозинвентарь, корма, запасенные на зиму или предназначенные для утренней кормежки. Иные соседи кинулись вылавливать домашнюю птицу, кур, гусей, уток и индюков.
У нас домашним курам, как и другой птице, в доме никогда счет не велся. Однако, когда мой младший брат несколько лет тому назад обратился к архивным документам, оказалось, что в нашем хозяйстве, согласно описи, было зарегистрировано не несколько десятков, а всего две курицы. Остальные исчезли.
Свидетель выселения 75 семей из болгарского села Кортен, известный общественный деятель, талантливый организатор сельскохозяйственного производства Петр Васильевич Люленов в книге своих воспоминаний не прошел мимо того злопамятного утра, когда сельскую тишину разорвал душераздирающий крик и плач выселяемой соседки.
Это было, – вспоминает наделенный хорошей памятью автор книги «Времена», – примерно в три часа ночи. Мы думали, что в их доме (в доме соседей. – М. Г.) случилось несчастье или кто-то внезапно умер. Ведь просто так, и так сильно, никто не плачет. Притом с причитаниями. Отец и мать сразу, на ходу одевая верхнюю одежду, побежали к ним. И, конечно, я за ними тоже. Когда отец подошел к их калитке для входа во двор со стороны улицы, там уже стояли двое вооруженных солдат. Никого во двор не пускали…
Отец с матерью… убедившись, что помочь ничем не смогут, ушли домой. Я, конечно, не пошел домой. Приспособился возле нашего, глиняного забора, и оттуда все наблюдал, удовлетворяя этим свою, еще детскую любопытность. Картина была жуткая. Сосед, хозяин дома, метался во все стороны, не зная, что делать. Или плачущих жену и детей успокаивать, или в неизведанную дорогу собираться. На сборы давалось всего три часа. Уполномоченный от местной власти, житель нашего села торопил их быстрее собираться… Я слышал, как он властным голосом предупреждал, чтобы одежду брали только ту, что можно одеть на себя каждому из членов семьи. И питание брать не более чем на трое суток [Люленов 2003: 36–37].
Замечу попутно, что «путешествие» от дома до Каргапольского полустанка заняло 14 суток.
До сих пор помню гудящую у двери машину и чьи-то слова: «двадцать минут». Оказывается, столько времени давалось нам на сборы. Только начинало рассветать. Мать вынесла нас, троих несмышленышей на крыльцо, на кого-то накинула шаль, на кого-то полушубок, а сама металась в дом и обратно. Так мы уехали обживать новые земли. Да еще с клеймом на всю жизнь: «кулаки».
Выросли мы, – вспоминает В. Голикова, – в поселке, в далекой Сибири. Родители валили лес, иногда им удавалось приехать к нам. А мы в их отсутствие где голодали, где ягодами кормились [Сенченко 1989: 2].
Рано утром, – вспоминает П. Бузаджи, – всех подняли, погрузили на подводы, в последнюю минуту сюда посадили и престарелую бабушку, но дяди уговорили оставить ее. Взять что-нибудь из вещей? «Вам хватит и одной газеты, чтобы укрыться», – съязвили усердные исполнители воли вождя народов.
Отца в тот день не было с нами, его забрали перед этим. Мы были нагружены в товарные вагоны, стояли в Бессарабке, когда он нас нагнал, его выпустили. Он пришел в село, узнал, что нас уже отправили, и пошел на поиски. Так как нам всем твердили: переселяем рабочую силу, он захватил с собой топор. Им и прорубили дыру в полу товарняка, отгородили «туалет» ширмой (Ленинское слово, 1989. 11 июля. С. 3).
2. Аллах сабур версин (Дай, Бог, терпенья)
Мой дед, как владелец более 12 га земли и значительного для зажиточного крестьянина имущества, был обречен для включения в депортационные списки даже несмотря на то, что в течение 1947–1948 гг. «добровольно», под дулами автоматов, сдавал последние зернышки хлеба представителям советской власти, МГБ и НКВД. Но в иных гагаузских селениях были люди, случайно попавшие в списки для выселения.
В 1949 году, – вспоминает П. Бузаджи, семья которого вторично подпадала под репрессии, – на нашу семью вновь обрушилась беда. Из всех Чок-Майданцев не нашли большего «кулака», чем мой отец, который первым подал заявление в колхоз, сдал всю тяговую силу, провел первую коллективную борозду. В сущности, бывший председатель колхоза тоже был поставлен в безвыходное положение. К нему пришли на «уточнение» списка: «а не найдешь, кого выселить, сам иди вместо него» – сказали ему. Вот и назвал он нашу семью, в которой было 11 человек (Ленинское слово. 1989. 11 июля. С. 3).
Вряд ли депортированные в Сибирь гагаузы подробно знали всю цепочку аббревиатур ВЧК – ОГПУ – НКВД – МГБ – КГБ, но мне в годы депортации, однако, приходилось часто слышать проклятия в адрес МГБ, представители которого с особой жестокостью отбирали хлеб в первые послевоенные годы и вели «воспитательные беседы» с теми из местных жителей, кто категорически не хотел вступать в колхоз, чтобы не сдавать в «братскую могилу» колхозной собственности свое имущество.
Блестяще организованное злодейское выселение многих тысяч гагаузов, болгар, молдаван и представителей других национальностей не встретило сопротивления со стороны выселяемых. И дело было не только в тщательно спланированной операции, с учетом уже имеющегося опыта по депортации балкарцев, турок-месхетинцев, немцев Поволжья, крымских татар и ряда других народов, не только в привлечении к этой акции вооруженных сил. В основе оцепенения, охватившего обреченную социальную прослойку, лежал вековой страх, подобно страху безмолвствующего народа и народов России.
Корни этого страха, во-первых, залегали не только в роковой беде императорской России в истории ее безмолвствующего народа, о чем, в частности, была написана опубликованная на Западе книга известного барда Александра Галича «Поколение обреченных» [Галич 1974; Свирский 1979: 472], но и, во-вторых, недавняя история, когда народы Бессарабии в межвоенном периоде оказались под оккупационным режимом, убивавшем любые проявления этничности и этнокультурной идентичности. Популярным ругательством в идеологии правящего режима Королевской Румынии было «minorite» («меньшинство»), обреченное на ассимиляцию. В школах и официальных ведомствах, в больницах и магазинах запрещалось говорить на языке своей национальности. Была составлена программа выселения гагаузов за пределы Бессарабии.