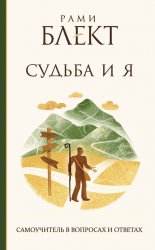Марина Цветаева. Статьи и материалы Айзенштейн Елена

«Добраться до сути»1
Цветаева в книге Ю. Карабчиевского «Воскресение Маяковского
В числе книг, сравнительно недавно пришедших к читателю, книга Ю. Карабчиевского «Воскресение Маяковского»2. Автор книги воспринимает Маяковского глашатаем тоталитарного режима и пытается расплатиться с поэтом за воспетое им «коммунистическое далеко». А заодно кидает камень в тех, кто, по его мнению, близок Маяковскому. Среди них – Марина Цветаева. По словам Ю. Карабчиевского, Цветаева – поэт, испытавший «внедрение, неотвязное присутствие Маяковского в своей душе». Критик утверждает, что после стихотворения, обращенного к Маяковскому («Превыше крестов и труб…»), в творчестве Цветаевой наступает перебой: в него начинает подспудно «внедряться» поэтика Маяковского. А «способ выражения – через конструкцию, через лозунг и декларацию – становится для Цветаевой „способом восприятия времени, способом понимания мира (нового)». Конструктивизм в отношении к слову, по Карабчиевскому, повлиял и на мировосприятие Цветаевой. Она шаг за шагом приближается к признанию СССР и его режима, прославляет его, едет из Парижа в Москву и, попав в этот ад, кончает жизнь самоубийством.
После чтения главы о Цветаевой возникает чувство, что Ю. Карабчиевский не слишком вдумывался в строки Цветаевой, а лишь выписывал удобные для его версии. Так случилось и со стихотворением, которое критик назвал «водоразделом» между «ранней» и «поздней» Цветаевой. Стихотворение «Маяковскому» не имеет того веса в цветаевском творчестве, какой дает ему критик. Оно написано Цветаевой 13 сентября 1921г. В Москве ходили слухи о смерти Ахматовой, и именно Маяковский сообщил Цветаевой, что Ахматова жива. Просматривая в 1923 году черновую тетрадь 1921 года, под стихотворением «Маяковскому» Цветаева сделала помету: «В благодарность за Ахматову». Об этом же – запись Цветаевой в тетради 1939 года: «Владимиру Маяковскому, единственному из московских поэтов, обеспокоившемуся проверить мнимую смерть Ахматовой». Для Цветаевой это стихотворение представляло ценность именно в связи с Ахматовой, оно не было серьезным обращением к Маяковскому, «спасибо» в стихах, не более. Это нетрудно понять, если сопоставить его с циклом «Маяковскому», который Цветаева пишет в 1930 году, потрясенная смертью поэта.
Не обошелся Ю. Карабчиевский и без явных подтасовок. Так, для подтверждения родства поэтики «поздней» Цветаевой и Маяковского критик приводит строки поэмы «На красном коне», относящиеся к 13—17 января 1921 г., то есть написанные, по его же классификации, «ранней» Цветаевой, до стихов «Маяковскому». А цитируя фрагмент статьи «Эпос и лирика современной России», об отношении к России Маяковского и Пастернака, критик намеренно (?) дает мысль Цветаевой в усеченном виде, что полностью искажает авторскую мысль: «Мы подошли к единственной мере вещей и людей в данный час века (1932 год – Ю. К.); отношению к России. Здесь Пастернак и Маяковский – единомышленники. Оба за новый мир…» Далее следует комментарий критика: «От такого текста уже недалеко до челюскинцев, и да здравствует, и все это – путь из Парижа в Москву и дальше – в Чистополь и Елабугу…". Говоря, что Маяковский и Пастернак «за новый мир», Цветаева далее делает оговорку: «Оба за новый мир – и оба, – но вижу, что первое оба останется последним, ибо если Пастернак явно за новый мир, то вовсе не с такой силой явности против старого, который для него, как бы он ни осуждал политический и экономический строй прошлого, прежде всего и после всего – его огромная духовная родина. «Кто не с нами, тот против нас». Мы для Пастернака не ограничивается «атакующим классом». Его мы – все те уединенные всех времен, порознь и ничего друг о друге не зная делающие одно. Творчество – общее дело, творимое уединенными». И далее она добавляет: «Единомыслие – не мера сравнения двух поэтов. У Маяковского единомышленники – если не вся Россия, то вся русская молодежь. Каждый комсомолец больший и, во всяком случав, более явный единомышленник Маяковскому, чем Пастернак». Цветаева отчетливо понимала разницу между восторженным приятием СССР Маяковским и менее восторженным «единением» со страной Пастернака, его попытками «жить думами времени, и ему в тон». В 1932 году Цветаева заметила то, что Пастернак сформулирует о себе много позднее. По словам Бориса Леонидовича, его «единение с временем перешло в сопротивление ему лишь в 1936 году, у Цветаевой – было ли оно когда-нибудь?
Удивляет трактовка и выбор остальных цитат из цветаевских текстов, например, «Челюскинцев». Критик считает, что сначала Цветаева в этих стихах славит СССР, а потом в дорогу начинает собираться, из Парижа в Москву… Победа людей над стихией – тема, волнующая Цветаеву в этом стихотворении. Она человек огромной щедрости. Отдавая дань восхищения русским людям, сумевшим совладать со стихией, она славит и страну, гражданами которой они являются. Заметим, что главные строчки у нее – всегда последние:
- Сегодня – смеюсь!
- Сегодня – да здравствует
- Советский Союз!
- За вас каждым мускулом
- Держусь – и горжусь:
- Челюскинцы – русские!
Стоит добавить, что «Челюскинцев» Цветаева написала после письма поэта Эйснера, упрекнувшего её, что она не откликнулась на подвиг челюскинцев. Письмо Эйснера Цветаева восприняла «запросом» (времени? века?), и родились стихи. Такого рода предыстория не характерна для Цветаевой, интересно и показательно, что из всего ее творчества Карабчиевский обратился именно к этому стихотворению.
Совершенно иначе тема «челюскинцев» звучит в письме 1935 года к поэту Тихонову, в котором Цветаева с горечью вспоминает свой диалог с Пастернаком во время пребывания Бориса Леонидовича на антифашистском конгрессе в Париже:
«… От Б. – у меня смутное чувство. Он для меня труден тем, что все, что для меня – право, для него – его, Борисин, порок, болезнь.
Как мне – тогда <…> на слезы: – Почему ты плачешь? – Я не плачу, это глаза плачут. – Если я сейчас не плачу, то п <отому> ч <то> решил всячески удерживаться от истерии и неврастении. (Я так удивилась – что тут же перестала плакать.) – Ты – полюбишь Колхозы!
- …В ответ на слезы мне – «колхозы»,
- В ответ на чувства мне – «Челюскин!»
Словом, Борис в мужественной роли Базарова, а я – тех старичков – кладбищенских. Здесь слова «колхозы», «Челюскин» являются антиподами человеческих чувств, символами той новой России, которую Цветаева принять не может.
«Челюскинцев», стоящих несколько особняком в творчестве Цветаевой, окружает лирика иной направленности, воплощающая цветаевское отталкивание от того мира, от того века, в котором она живет. «Век мой – яд мой, век мой – вред мой, век моя – враг мой, век мой – ад», – лейтмотив отношения Цветаевой к своему времени. Это было неприятие и эмиграции, и СССР. «Двух станов не боец, а – если гость случайный…", – таким видится ей поэт. Своё эмигрантство Цветаева ощущала не в рамках земных границ и стран, а в космическом масштабе! «Всякий поэт по существу эмигрант, даже в России. <…> Эмигрант из Бессмертья в время, невозвращенец в свое небо». Тоска по тому небу, до той свободе, по тому уединению пронизывает лирику Цветаевой 20-х – 30-х годов:
- – На смарку твоя стих!
- На стройку твой лес
- Столетний!
- – Не верь, сын!
- И вместо земных —
- Насильных небес —
- Небесных земель
- Синь.
Карабчиевский пытается убедить читателя в сходстве творческого метода Цветаевой и Маяковского. Он занимается поисками схожей лексики, размеров, расположения слов в стихе. При этом критик говорит о «формальном сходстве», совершенно на заботясь о том, какой смысл каждый из поэтов вкладывал в свои стихи, то есть сам подходит к стихам, как к конструкциям, лишая их сути. Для него самого слово – оболочка, содержимое его не волнует. Хотя от Цветаевой он требует бережного обращения со словом!
По Карабчиевскому, Цветаеву сближает с Маяковским «роковая заданность, изначальная конструктивность мышления и особенно – отношение к слову». На самом деле процесс цветаевского творчества не «умозрителен», а стихиен, связан не с конструированием (ее страх перед техникой и машинами!), а с музыкой. Стихи Цветаевой рождаются из «напева», «мелодической или ритмической картины», в которую она вслушивается. Мгновенья творчества воспринимаются ею как запись уже существующего где-то в иной реальности стиха. (Она любила соотносить себя о Жанной Д» Арк, сравнивала «звуковой призрак» будущей вещи с теми ангельскими голосами, которые повелевали Орлеанской девой). Лишь затем начинается поиск слов, происходивший тоже на уровне интуитивного, бессознательного.
Для Цветаевой слово – орудие в борьбе за суть, за высвобождение через слово собственной душ. «Я пишу, чтобы добраться до сути, выявить суть», – объясняла она. И не понимала разговоров о «работе над словом», о «самостоятельной жизни слова». Карабчиевский прав, когда говорит о том, что слово было для Цветаевой средством и не вполне выражало ее мысли и чувства. Она и сама это знала. И писала Пастернаку, вероятно, думая не только о нем: «Ваша страсть к словам – только доказательство, насколько они для Вас средство. Страсть эта – отчаяние сказа. Звук Вы любите больше слова, и шум (пустой) больше звука, – потому что в нем все. А Вы обречены на слова, и, как каторжник изнемогая… Вы хотите невозможного, из области слов выходящего. То, что Вы поэт – промах (Божий – и божественный!)» Стихами она, действительно, изъяснялась, а не жила, «и была огромная область души подлинной, дословесной, еще не вошедшей в выражение и не искаженной словом» (Д. А. Мачинский).
Кроме слова, существовала для Цветаевой и еще одна величина в стихе, не менее значимая и обнажающая часть не высвобожденного словом смысла, иной уровень этого смысла: интонация, вырастающая из «напева». Слово произнесенное обладает для Цветаевой большей силой, чем написанное. Устная речь полнее передает чувства говорящего, потому что, кроме слов, огромная роль принадлежит интонации, окраске голоса, динамике речи. Цветаева стремилась к преодолению несовершенства письменного высказывания, к точному закреплению авторской интонации на письме. «Ты требуешь от стихов того, что может дать только музыка!» – объяснял Цветаевой Бальмонт. Фактически она добивалась невозможного, писала партитуру своей вещи, неслучайно А. Белый, очарованный цветаевской «Разлукой», назвал ее «композиторшей и певицей», отметив в ее поэтике свойственную только музыке особенность точно фиксировать интонацию: «И забываешь все прочее: образы, пластику, ритм и лингвистику, чтобы пропеть как бы голосом поэтессы то именно, что почти в нотных знаках дала она нам», – писал он. Поэтому тексты Цветаевой изобилуют знаками препинания. Помимо синтаксической роли, они несут и другую функцию: закрепляют высоту, силу каждого произносимого слова, уточняют смысловые отношения слов в стихе, то есть доносят до нас авторский голос (стихи Цветаевой вообще ориентированы на произнесение, если не вслух, то внутренним слухом). Поиск поэтом слов подобен работе композитора, которому необходимо гармонизовать мелодию. Поэтическая интонация – мелодия. Слово – аккорд. Родство слов в строке Цветаевой не только «грамматическое», но и гармоническое:
- Минута: минущая: минешь!
- Так мимо же, и страсть и друг!
Искусство интонируемого смысла – этой формулой Б. Асафьева о музыке хотелось бы определить цветаевскую поэтику. В огромной мере интонационный принцип отразился и в ее прозе. То, что Ю. Карабчиевский назвал «внедрением» Маяковского, на самом деле явилось влиянием эпохи. Цветаевское понимание эпохи выразилось в сопротивлении ей, в невозможности принять ее законы. Сама же эпоха воплотилась в интонационном и ритмическом строе ее стихов, в той «точной пульсации века», которую бессознательно, медиумично фиксирует Цветаева в своем творчестве. Родство Цветаевой и Маяковского заключается не в их единомыслии, не в копировании каких-то «конструкций», оборотов речи, не в формальном сходстве слов, а в «поэтической (dichterische) отзывчивости на новое звучание воздуха». В этом их новизна и современность.
Ю. Карабчиевский хотел предъявить счет эпохе, но занялся этим в духе времени: исказив факты, критик попытался изобрести школу Маяковского, собрать разных поэтов воедино по формальному признаку, непременно организовать массу. Ему отвечает все та же Цветаева: «Поэтические школы (знак века!) – вульгаризация поэзии, а формальную критику я бы сравнила с «Советами молодым хозяйкам». <…>
- Единственный справочник: собственный слух. <…>
- Единственный учитель: собственный труд.
- А единственный судья: будущее.
Книга Ю. Карабчиевского не может не отталкивать, потому что в ней он сам явился «продолжателем» Маяковского. Строка Владимира Владимировича «Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо» служит удачным эпиграфом к его работе. 1992 г.
После «Вершин великого треугольника» Иосифа Бродского3
О трех Магдалинах: Рильке, Цветаевой и Пастернака
В статье «Поэт о критике» Цветаева, объясняя, к чьей оценке своих стихов она прислушивается, пишет: «Слушаю я, из не-профессионалов (это не значит, что я профессионалов – слушаю), каждого большого поэта и каждого большого человека, еще лучше – обоих в одном. Критика большого поэта, в большей части, критика страсти: родства и чуждости. Посему – отношение, а не оценка, посему не критика, посему, может быть, и слушаю. Если из его слов не встаю я, то, во всяком случае, виден – он». Эти слова вспоминаются в связи с эссе Иосифа Бродского «Вершины великого треугольника»4, посвященного преемственности «Магдалины» Цветаевой и Пастернака, «зависимости» гения Бориса Пастернака от «христианского чувства Цветаевой» и «от ее дикции».
Бродский поразительно почувствовал родство «У людей пред праздником уборка…» Пастернака и «О путях твоих пытать не буду…» Цветаевой, попытался понять, как Пастернак создавал свою Магдалину, почему сбивался на Цветаеву и ее речь, проследить истоки поэтического слова Пастернака. И хотя, по признанию Бродского, за его умозаключениями не стоят какие-либо объективные данные, они не могут нам быть неинтересны, потому что о стихах рассуждает большой поэт. Говоря словами Цветаевой, в своем эссе Бродский выступает как «следователь», «любящий» и «мастер» («Поэт о критике»). Слова Бродского дышат любовью к поэтам, о которых он пишет (хочется употреблять настоящее время, ведь жизнь слова, к счастью, гораздо длиннее человеческой). Особенно заметно это на фоне критики просто «следователей»: Ю. Карабчиевского с его «Воскресением Маяковского» или В. Сосноры с «Апологией самоубийства».
Назвав эссе «Вершины великого треугольника» (Рильке, Цветаева, Пастернак), Бродский фактически сосредоточил свое внимание на Цветаевой и Пастернаке. «Пиета» Рильке с его Магдалиной осталась почти не востребованной и была помещена автором статьи в качестве приложения. Между тем выключенность Рильке из диалога Цветаевой и Пастернака, допущенная Бродским, существенно изменила расстановку акцентов в двух «Магдалинах» – Цветаевой и Пастернака. Моя задача – показать это, посмотрев на тему трех Магдалин из окна цветаевского поэтического мира.
Три стихотворения цикла «Магдалина» были написаны Цветаевой в августе 1923 года. Первое – 26-го, два других – 31-го. «Цикл из трех стихотворений начинается с обращения к конкретному, видимо, лицу, и только в третьей строфе5 перерастает в подобие обращения Магдалины к Христу», – читаем у Бродского. Этот конкретный адресат первого стихотворения цикла – молодой критик Александр Бахрах. 8 апреля в берлинской газете «Дни» появилась рецензия Бахраха на книгу Цветаевой «Ремесло». Цветаевой понравился «редчайший» в критике подход к стихам, «между фотографией (всегда лживой!) и отвлеченностью», умение Бахраха видеть то, то «составляет сущность поэта: некую преображенную правду дней». Завязывается переписка, в которую Цветаева вовлекается оттого, что окружена глухой стеной одиночества, ей так необходим собеседник, настроенная на ее голос душа. А от Пастернака ждать писем долго… Неожиданно Бахрах перестает ей писать, и первоначальное чувство старшей к младшему («Наклон», «Раковина»), наклон материнского уха (слуха) к душе молодого друга, наклон «духа – к страждущему» сменяет «братская страсть» («Клинок»). Цветаева, едва нашедшая себе эпистолярного собеседника, построившая внутри себя образ «дитя», а затем «брата», равного ей по духовному дару, сжившаяся с ним, ощущает душевную катастрофу, боль, болезнь любви. Она начинает вести «Бюллетень болезни» – записи о своей больной Бахрахом душе. Первое стихотворение «Магдалины» датировано 26 августа, тем же днем, каким обозначена последняя запись «Бюллетеня болезни»:
- Меж нами – десять заповедей:
- Жар десяти костров.
- Родная кровь отшатывает,
- Ты мне – чужая кровь.
- Во времена евангельские
- Была б одной из тех…
- (Чужая кровь – желаннейшая
- И чуждейшая из всех!)
Отождествление Бахраха с Христом, намеченное еще в «Науке Фомы» (24 августа 1923 г.), развивается в первом стихотворении цикла. Цветаевская Магдалина любит Христа со всей женской страстью, «пеною уст и накипями очес и потом всех нег». И если Цветаева точно знает о себе, что «но времена евангельские была б одной из тех», что она та самая Магдалина, то в концовке стихотворения сквозит сомнение по поводу Бахраха:
- Некою тканью под ноги
- Стелюсь… Не тот ли (та!)
- Твари с кудрями огненными
- Молвивший: встань, сестра!
Христос ли, высший возлюбленный ли Бахрах, к которому обращены ее стихи, кем страстно больна она?
26 августа, в день первой «Магдалины», Цветаева была «на самом краю… другого человека: просто – губ», ей хотелось близостью с другим убить боль по Бахраху. 29-го, уехав в Прагу, Цветаева разрешила себе эту измену. Но случайное любовное приключение неожиданно обернулось серьезным чувством. «Звезды страсть свела на землю», жизнь стала воплощенной мечтой о любви, брезжившейся Цветаевой лишь «в лазури». Как Фома Неверующий, она сомневается в истинности этой любви, не «минет» ли и она с наступлением утра? («Как бы дым твоих ни горек…», 30 августа). Но любовь не уходит, а Прага кажется ей «крышей мира», так космически огромно ее чувство («С этой горы, как с крыши…», 30 августа).
Возвращение к образу Магдалины 31 августа происходит в момент, когда Христом, высшим возлюбленным, «руслом» ее души ощущается не Бахрах, а Константин Родзевич, будущий герой поэм Горы и Конца:
- Масти, плоченные втрое
- Стоимости, страсти пот,
- Слезы, волосы – сплошное
- Исструение, а тот,
- В красную сухую глину
- Благостный вперяя зрак:
- – Магдалина! Магдалина!
- Не издаривайся так!
Стихотворение живописует «сплошное исструенис» Магдалининой страсти, которую Христос не способен принять («Масти, плоченные втрое стоимости»), Магдалина дает безмерно больше, чем нужно ему, и он просит ее не издариваться так, смущаясь ее любви.
Бродский точно почувствовал контраст первых двух и последнего стихотворения цветаевского цикла. «Это лирика не любовная, а духовная», – уточняет он о третьем стихотворении («О путях твоих пытать не буду…»).»«Милая! – ведь все сбылось…» могло быть сказано только снятым уже с креста, если не просто воскресшим, – пишет Бродский, но, к сожалению, уходит от этой мысли: «Милая! – ведь все сбылось…» и вообще все стихотворение звучит как последние слова, сказанные в этом мире, ибо, в конце концов, Магдалина – последний собеседник Христа в этом мире.
- Я был прям, а ты меня наклону
- Нежности наставила, припав.
Это все уже говорится как бы оттуда, ибо это – воспоминание». На самом же деле «Милая! – ведь все сбылось…» не последнее слово здесь, а первое там. Бродский не заметил, что третье стихотворение Цветаевой – ответ ее Христа на вопрос Магдалины Рильке. Бродского так интересовал диалог Пастернака и Цветаевой, что он не услышал предшествующего диалога Цветаевой и Рильке:
- Пиета
- Твои ль это стопы, Исус, твои ли?
- И все же, о Исус, как я их знаю:
- не я ль их обмывала, вся в слезах.
- Как в терн забившаяся дичь лесная,
- они в моих белели волосах.
- Их до сих пор ни разу не любили.
- Я в ночь любви их вижу в первый раз.
- С тобой мы ложа так и не делили.
- И вот сижу и не смыкаю глаз.
- О, эти раны на руках Исуса!
- Возлюбленный, то не мои укусы.
- И сердце настежь всем отворено,
- но мне в него войти не суждено.
- Ты так устал, и твой усталый рот
- не тянется к моим устам скорбящим.
- Когда мы наш с тобою час обрящем?
- Уже – ты слышишь? – смертный час нам бьет6.
Магдалина оплакивает смерть Христа как смерть любимого мужчины, с которым у нее не было брачного, любовного ложа, она не может пережить, что «усталый рот» любимого не тянется к ее устам. Она не может примириться с тем, что ее любовь к нему не состоялась, и потому стихотворение заканчивается вопросом:
- Когда мы наш с тобою час обрящем?
- Уже – ты слышишь? – смертный час нам бьет.
Цветаева, закончив второе стихотворение цикла на ноте расплесканной во имя возлюбленного страсти, неудовлетворенная, видимо, все же своим земным Христом с его «Не издаривайся так», уходит от реальности любви (Родзевича), от реальности евангельского мифа – в свою мечту об идеальном возлюбленном (Христе), который бы вместил всю ее суть, принял бы все дары ее души, которому бы эти дары оказались «по росту». От лица этого третьего и единственного Христа она пишет свое стихотворение, продолжение «Пиеты» Рильке:
- О путях твоих пытать не буду,
- Милая! – ведь все сбылось.
- Я был бос, а ты меня обула
- Ливнями волос – И – слез.
- Не спрошу тебя, какой ценою
- Эти куплены масла.
- Я был наг, а ты меня волною
- Тела – как стеною
- Обнесла.
- Наготу твою перстами трону
- Тише вод и ниже трав.
- Я был прям, а ты меня наклону
- Нежности наставила, припав.
- В волосах твоих мне яму вырой,
- Спеленай меня без льна.
- – Мироносица! К чему мне миро?
- Ты меня омыла, как волна.
Все дело в том, что Христос Цветаевой обращается не к живой Магдалине, а к умершей. «Уже – ты слышишь? – смертный час нам бьет», – говорит Магдалина (Рильке), имея в виду не только смерть Христа, но и собственную. «Когда мы наш с тобою час обрящем?» – вопрос о том, где сбудется их любовь. Не в том ли мире, о котором говорил Христос? Не на том ли свете?