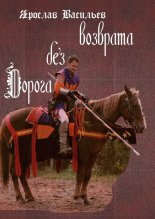Дочери Евы Арутюнова Каринэ

Тоска по внутреннему
раю
Возвращаясь, убедитесь, что все на местах. Стол стоит на том же месте, люстра висит перпендикулярно потолку, а закладки между страницами не выпали и не затерялись. Пока вас не было, улицы десятки раз заносило снегом, – снег таял и чавкал под ногами, а потом проливался дождем, а небо оставалось таким же серым и сумрачным, каким вы успели его запомнить.
Пока вас не было, много раз звонил телефон, снимались трубки и, возможно даже, иногда произносилось ваше имя. Пока вас не было, почта приносила письма, нужные и второстепенные, а ненужные аккуратно заносила в спам.
Возвратившись, убедитесь, что все на местах. Потому что четыре недели или даже три – это не слишком много и не слишком мало. Для кого-то – целая жизнь, а для кого-то – один бесконечный день, напоминающий очередь в поликлинике. В обычной районной поликлинике, в которой стены выкрашены в унылый тусклый цвет, а заклеенные окна не пропускают унции воздуха.
Для кого-то это дорога на работу и обратно, в забитом вагоне метро или пригородной электрички, либо серый рассвет, или катышки на одеяле, а, может быть, несчастная любовь или случайное письмо со штемпелем на конверте. Или звонок, как всегда, неожиданный, особенно, если раннее утро и поздняя ночь, а вы не готовы. Убедитесь, что все на местах. Записные книжки, номера. Голоса, лица.
Это сладкое слово
Знаете, чем пахнет свобода?
Случайной квартирой на втором этаже случайного дома, – квартирой, в которой все незнакомо, – начиная от занавесок на окнах и заканчивая замком.
Случайным диваном, который не помнит всех этих «удобно-неудобно», но, тем не менее, добродушно принимает в свои объятия, – это особенно важно в четыре часа утра (или ночи), такой знакомо влажной, со всеми этими поднимающимися над городом испарениями, – пахнет дождем, пахнет устойчиво, – дождем, старыми домами, плесенью, кошками, сигаретами, морем, которое еще впереди, которое еще не подозревает о твоем присутствии, которое все так же добросовестно вдыхает и выдыхает могучими легкими и лижет песчаную полосу…
Свобода пахнет забытым вчерашним днем, не вчерашним, собственно, а странно далеким, – с распахнутыми в случайный двор окнами, с выложенным сиротской плиткой полом, с мотоциклом, который проворачивает зигзаги и восьмерки и, собственно, голосом мотоциклиста, которого явно не смущает раннее утро, – хотя какое же оно раннее, – это оно у меня, здесь, раннее, – а у них – уже горит, потому что южная ночь, она такая, короткая, случайная, условная, – в здесь почти не бывает ночи, – в этом убеждаешься еще сверху, поглядывая в иллюминатор через живот посапывающего соседа, – доверчиво принимающего из рук стюардессы дары средиземноморья, упакованные в пластик и обернутые тонкой бумагой.
Свобода пахнет утренней выпечкой, шорохом газет, клекотом тропических птиц, ленивой перекличкой домашних хозяек, застывших над развешенным бельем. Свобода пахнет чужим бытом, проистекающим размеренно, ничуть не страдающим от внезапного вторжения соглядатаев.
Как хорошо быть чужим, не окончательно чужим, но и не бесповоротно своим.
Отдельным. Какая редкостная привилегия.
Она, пожалуй, пройдется, воспользовавшись этим почти случайным, почти забытым чувством свободы от самой себя, – от привычек, действий, ощущений, – пройдется, выйдя за порог почти случайного дома, по почти случайной дороге, ведущей к шоссе, остановке, другим случайным домам и кварталам.
Но вначале она все-таки воспользуется случайной газовой плитой, конфоркой и джезвой, которая, о, чудо, все-таки есть, и кофе есть, – настоящий кофе с запахом кофейных плантаций, солнца, и немножко… горького шоколада, потому что настоящий кофе – он горек и сладок, как глоток случайной свободы, обретенной тоже, представьте, случайно, но вполне закономерно, – ненадолго, впрочем, ненадолго, – шумит далекое-близкое море, шумит давно бодрствующий город, который живет себе и живет у прибрежной полосы, грохочет и урчит – мусороуборочными и стиральными машинами, мотоциклами, пылесосами, взлетающими и приземляющимися самолетами, – не задумываясь о постоянстве и случайностях, столь неизбежных в одной случайно взятой жизни.
Все здесь отравлено ее вчерашней тоской, ее смирением, ее бегством, – ну, вот я снова здесь, – скажет она, так и не сделав этот шаг, так и не переступив порога чужой квартиры, – застынет у чужого окна, всматриваясь в подступающие, такие ранние в этих широтах сумерки.
Картинки из предместья
Послушай, – говорю, – я уже три дня не слышу мата, – нет, это не означает, конечно, что все поголовно ходят на цыпочках и вежливо улыбаются, напоровшись на, допустим, кирпич, – нет, вполне все живые и даже более чем, и, если затесаться в среду матерых шоферюг, то сердце сожмется тоскливой пичужкой, – придется все же припомнить матчасть, состоящую из смешно перелицованных, но таких знакомых выражений…
Но мата, того мата, без которого не обходится, господа, ни одна приличная беседа на моей однажды покинутой родине, – мата, с которого начинается утро за окном, и который так разнообразит наши праздники и будни, – его нет.
Все улыбаются. Любому слову предшествует улыбка, – я не говорю о присутственных заведениях, – все же улыбка в них такая, вымученная весьма, – но все-таки, господа, – она есть, – эти приподнятые уголки губ, эти морщинки в уголках глаз, – это узнаваемое и принимающее тебя сходу в некое сообщество, – и если ты ответил тем же, то можешь считать себя вполне достойной частью контекста.
Я третий день не слышу мата, и, надо же, сердце мое не раскалывается, не ноет, не трепещет, – нет, все тот же ветерок прогуливается по закоулкам южного Тель-Авива, все тот же соленый ветер подбрасывает картонки, – вместе с брызгами из-под колес и выныривающим из-под них же клошаром в цветном шарфе, а еще степенно пересекающим проезжую часть африканским семейством в белых одеждах, а еще разудалой эфиопской свадьбой на фоне серых, изъеденных грибком стен, – невеста улыбается во весь рот, – узкобедрая модель, а не невеста, и такой же узкий длинный жених, совсем мальчик, тоже весь в белом, белоснежном на фоне серого – стен, волн, некогда белых зданий. Солнце то прячется, то вдруг выкатывается из-за туч, и тогда движущиеся по набережной люди, все эти люди, жестикулирующие, смеющиеся, задумчивые, дремлющие на лавочках и просто фланирующие в одиночестве, – вот ухмыляется истинное дитя побережья, – дитя южного Тель-Авива, пережившее, возможно, войны, сексуальную революцию семидесятых, искушение томным цветком марихуаны, – истинное дитя предместий, просоленное, вяленое, жилистое, – оно подмигивает горящим из-под кустистых бровей глазом, подмигивает, ухмыляется, приглашая присоединиться к вечному празднику, похоже, вечного города, а вот неторопливая старушка в удобных мокасинах, а вот бегущий впереди нее шпиц, – а вот усердно вышагивающие вдоль кромки моря, – со стиснутыми зубами, с наверченными на головах бурнусами, – они ходят, наворачивают километры в преддверии заслуженной чашки «кафе афух» (перевернутого кофе) и нескольких листиков салата, вспрыснутых переливающимися на солнце каплями оливкового масла, – груды, собственно, оливок, а еще хорошей пинты пива, от которого картинка приобретает завершенность и даже, если хотите, полноту.
Полнота бытия во всем, – в семенящей старушке, в уверенно срывающейся с места инвалидной коляске, перед которой застывает движущаяся лента шоссе, – в этих брызгах, крупицах соли на всем, на лице, на губах, на выпечке, вздымающейся тут же, на раскаленных противнях в арабской пекарне, – в записанной на пленку полуденной молитве (азану), – которая не остановит ни перебирающего короткими лохматыми ножками шпица, ни постигающую мир старушку в хипповом прикиде, ни морского волка с радиоприемником образца семьдесят пятого года, – все так же разбивается волна о парапет, одна, другая, третья, и шагает толпа восторженных, похожих на школьников белотелых скандинавских туристов и не менее беспечных аборигенов, проживающих, прожигающих благословенный шаббат в завещанной, дарованной господом неге и беспечности.
Тоска по внутреннему раю
Существует же эстетика черно-белых снимков и черно-белого кино. Так вот, мне хочется туда. С одной стороны, как хорошо, когда солнце, сочная трава, цвета четкие, без полутонов, – голубое так голубое, – зеленое – так уж зеленое без дураков..
Есть некий деликатный момент, – в тусклом освещении цвет, исчезая из внешней картинки, уходят во внутреннюю и там уже разворачиваются во всей своей бесподобной и неправдоподобной красе.
Обилие внешнего не дает развернуться воображению, – кто-то все уже сделал за тебя – раскрасил небеса, воткнул пальмы и прочие замечательные штуки.
В лавке пряностей остолбеневаешь в прямом смысле этого слова.
Как можно все это покупать и употреблять? (можно, все-таки можно). Это нужно осязать, вдыхать, этим можно любоваться, растирая в пальцах канареечного цвета порошок куркумы и горчичного – карри, втягивая острую и сладкую смесь паприки и ехидную – гвоздики. Надышавшись парами кардамона, я уже сыта, практически сыта, и только бойкий голос продавца, похожего на смесь всех перечисленных ингредиентов плюс еще щепотку кунжутной халвы – с фисташками и миндалем, а еще, конечно же, с брусочками шоколадной взвеси, – губы у него вытянуты в гримасу стойкого сладострастия, – он пробует халву за тебя, за себя, за него, – он пробует щепотку халвы и причмокивает сладким ртом, при этом одной рукой взвешивая горсть засахаренных орехов, а другой – отсчитывая сдачу.
И только его бойкий голос выводит меня из опасного, но такого сладкого забытья.
Оно, это забытье, настигает тебя повсюду, – в огромном количестве искушений душа моя мечется, придавленная телом пробудившихся желаний.
Она просит темноты и тишины, она гневно отворачивается от щедрот этой земли.
Потому что рай – это немножко такой ад, в котором тело твое блаженствует в тепле и неге, а душа наблюдает за всем этим пиршеством с некоторой долей сарказма. Она немного кокетничает и ерничает, эта душа, драпируясь то шелком, то бархатом, то парчой, но кокетство ее искреннее, и так же искренен сарказм, и тоска по черно-белому, – по убогой эклектике того пространства, в котором невидимое обретает смысл.
Ма нишма, нешама1
Литература? – спросите вы, – жизнь, – отвечу я, – что может быть интересней истошного вопля старьевщика за окном, вторящего ему надрывного – «тапузим, клемантина, тапузим»2 а еще вторгающегося в полусонную обитель солнечного луча и легкомысленного утреннего ветерка, колышущего занавеску.
Что может быть прекрасней грациозной кошачьей тени и движущейся следом за ней согбенной тени мужчины в праздничной белой рубашке, и шелеста его вечернего и даже ночного голоса, нараспев, – ма нишма, нешама, ма нишма (как поживаешь, душа моя, как поживаешь), – и вашего минутного недоумения, и его приветствия, и взмаха руки, и столь же неспешного шествия там же, в глубинах и руинах старого двора старого дома, и столь же напевного, удаляющегося «ма нишма, нешама, ма нишма», и шарканья ног по ступеням, и запаха сырости, старости, благообразной, впрочем, уверенной, полной достоинства и уверенности в закономерности собственного существования, – в закономерности этого вечера и этого утра, начинающегося с позвякивания кофейной ложечки, мелькания кошачьих лап и величественного разрастания солнечного диска, и обещания теплой и недолгой зимы.
Это обещание вы унесете с собой, втиснете в дорожную сумку или за пазуху, словно котенка или щенка, – и ежась от его необременительной, сладкой тяжести, уже засыпая, вспомните все, что предшествовало дороге, – утренний визит птички-удода, россыпь цитрусов на кухонном столе, и эту блаженную, насыщенную звуками, запахами, трепетами и шорохами тишину, и доносящийся издалека шелест «ма нишма, нешама, ма нишма».
Дорога
О маршруте пятьдесят пятого, следующего из нарядного и суетного Тель-Авива в маленький буржуазный Гиватаим, где лавки умирают во время сиесты и сонные псы охраняют хозяев, листающих «Маарив» над чашкой капучино, где инвалидные кресла на юрких колесах курсируют, огибая мощные стволы пальм и сугробы вечнозеленого дерна, – о маршруте пятьдесят пятого, подпрыгивающего на упругой резине, и строгом голосе из динамика, оглашающем все эти «Вайцман-Каценельсон», начиная от «Арлозоров» и заканчивая впавшей в кому улицей Гистадрут, – с застрявшими во вчерашнем дне скошенными компактными сооружениями, в которых расстояние от стиральной машины до балкона условно и вообще незначительно, и потому запахи стирального порошка, ароматизаторов и отбеливателей смешиваются с терпкой горечью грейпфрута, с прохладой и тишиной, с тишиной и устойчивым бытом, в котором набор продуктовой корзинки и радушие распахнутой цирюльни на углу с порхающим вокруг застывшего затылка брадобреем, столь неизменны.
О петляющем в предгорьях, к возносящейся к небесам голубой Хайфе, так и не увиденной во всех подробностях, – оставим их для следующего раза, и дадим же себе насладиться неровным швом вырастающего из тьмы силуэта, одного из многих, тесно прижатых друг к другу домов, его разрушенным профилем и оседающим фундаментом.
Моя Хайфа – это Венеция, почти Венеция, – плывущая точно волшебный корабль между домами, тропинками, люками, фонарями, между открытыми провинциальными лавчонками, с возникающими тут и там карнавальными масками Коломбины, Пьеро, Арлекина, торгующими ночным товаром, столь необходимым продрогшему путнику, – колониальным кофе, табаком и пресной водой.
Тени на песке
В Рабате идут дожди. Зима. В Касабланке дожди, – куда пальцем ни ткни, всюду влага. Отовсюду ноздреватый испод сырости, подткающие краны, скользкая плитка на полу, условные окна, вдетые в условные рамы, висящие на условной петле.
Зима назойливо трется шершавым боком, подволакивает мерзлую ногу, сопливит и кутается в кашемир. Солнечные очки неактуальны. Актуальны плед, печка, тяжелые шторы, грог.
Актуальны кирпичные дома с узкими прорезями окон, вязанка дров на санях и укутанная по самые глаза фигурка в салопе и валенках.
В Рабате дожди. Дожди в Тель-Авиве, в Северном и Южном, дожди в Иерусалиме, на Голанских высотах, в Иорданской долине дожди. Уходит солнце, песок становится серым, небо – как и везде, свинцовым.
Неслучайно таким ослепительным был последний закат. До черноты.
Не смотри на солнце, детка, не смотри. Прямые лучи прожигают сетчатку, выжигают и обесцвечивают роговицу. Убивают память.
Помнишь ли ты старый южный город? С причалом, набережной, со стертыми позвонками проступающих из темноты домов. Со шпилем протестантской церквушки, с качелями, поскрипывающими в глубине чужого двора. С вырастающими из подворотен столиками все еще распахнутых в южную ночь кафе. Хрупкое равновесие чужого уюта. Мерцание свечи, привечающей усталого путника.
Хочется быть здесь всегда. Улыбаться взлохмаченному мальчику Мотлу, внезапно повзрослевшему, но не настолько, чтобы разучиться улыбаться в ответ. Продающему не копеечный квас, разбавленный обычной водой из-под крана, а, скажем, итальянское мороженое со вкусом фисташек, дыни, манго и пассифлоры. Плодоносящей тут же, за поворотом, плодами, полными густого сока и зерен.
Подкармливать соседских котов, ступающих с грациозной ленцой, дремлющих под ступенями ближайшей москательной лавки.
Вздыхать над кофейной чашкой, поглядывать на пламенеющую радужку заката.
Вдыхать табачную взвесь, золотую пыльцу, собранную на берегах Нила или Ганга, листать местную газету, в которой курс доллара так же устойчив, как зимний прогноз, – дожди, солнце, опять дожди.
Помнишь ли ты старый город? Филиппинку, подталкивающую инвалидное кресло с ветераном шестидневной войны или, допустим, последним узником варшавского гетто. Как долго пришлось им смотреть на солнце, чтобы забыть? Сжечь вслед за воспоминаниями страх, тревогу? Голоса, лица?
А вот и вырастающий из-за угла, точно гибкий стебель тростника, белозубый суданский нелегал, – его улыбка, которая не сообщает ровным счетом ничего, – темен его лик, невнятна душа, зыбка память.
Сила жизни в забвении? В соразмерности радости и печали? В чередовании страсти, чувства долга, вины, беспечности, опьянения, голода, пресыщения?
Как многое нужно забыть, чтобы остаться здесь, в этом полном обещаний городе, полном жизни, тоски, соблазнов, – в этом городе, в котором тропы памяти, акведуки воспоминаний и артерии любви сплетены, перетянуты соленым жгутом, от которого – рубцы, зарастающие так быстро, как тени на песке.
После полудня, здесь, в старом городе.
Весна на русской улице
Все это они вывезут вместе с баулами, клеенчатыми сумками, книжками, фотокарточками, чугунными сковородками, шубами, железными и золотыми коронками, – из квартиры на квартиру, – вместе с пресловутой смекалкой, посредственным знанием иностранных языков, чувством превосходства, комплексом неполноценности
Меланхолию, прекрасную, чернейшую. Протяжную, продольную, бездонную. Миндалевидную, женственную, истекающую вязкой влагой. С цыганским надрывом, с мадьярским стоном смычка. С семитской скорбью, вечной укоризной
Заунывную, нескончаемую, как русское поле. Меланхолию, за которую им простят все. За душу их невыразимую, загадочную, за умение беспробудно печалиться и безоглядно веселиться
Побег
Это потом мы стали присматриваться друг к другу – кто первый? Кто станет первым, кто прорвется к финишу?
Ведь ничто вроде бы не предвещало. По-прежнему кружилась и подпрыгивала разноцветная карусель, отмечались дни рождения, переходящие в затяжные праздники, праздники по поводам и без оных, а уж эти-то и были самыми упоительными.
И даже юбилеи пока не омрачали нашего путешествия.
Мы родились, чтоб жить вечно, разве не так? Разве не об этом пели фонтаны, ночные фонари, кроны деревьев? Разве не об этом был каждый прожитый день – не о вечной и прекрасной жизни?
Нам повезло.
Нам, действительно, повезло, и даже нелепое исчезновение Рафа, всеобщего, а в особенности женского, любимца, этого вечного ребенка, печального отрока с налитыми сумеречной влагой глазами, немножко коровьими, бесконечно добрыми, – даже исчезновение Рафа в день его тридцатитрехлетия не могло остановить карнавального шествия.
В том году нам всем исполнилось по тридцать три. Волшебный год!
Ничто не предвещало, напротив – даже тяжелые дни, наполненные нешуточным отчаяньем, даже голодные и неуютные дни были всего лишь предтечей того прекрасного, что брезжило впереди.
Еще смешными и неопределенными казались цифры сорок или, допустим, пятьдесят. Пятидесятилетние считались мэтрами, учителями. А мы могли пока наслаждаться, не заботясь о том, какими будем выглядеть в глазах тех, кто идет за нами.
За нами вообще ничего не было. С нас начиналось и нами же заканчивалось.
Вот если бы кто-нибудь, если бы кто-нибудь воскликнул, затормозил, заставил замолчать и остановиться…
Вот если бы кто-нибудь сказал о том, что буквально год остается до знаменитого прыжка Баруха или пять – до головокружительного полета Штерна, милейшего, смешнейшего, интеллигентнейшего Штерна, не видящего на расстоянии вытянутой руки, а вот, поди ж ты, героя. Такого незаметного героя с тонкими вяловатыми запястьями длинных рук, выпирающим кадыком и подпрыгивающими на носу нелепыми очками.
Если бы хоть кто-нибудь предвидел, каким опасно скользким в предзимний, но все еще осенний день окажется скат крыши и неровный острый край, за который совершенно бесполезно цепляться пальцами – цепляться за ускользающие края, обламывая ногти и слыша собственный крик, не крик даже, а вой, уносящийся в глубину ночи. И если бы кто-нибудь предвидел хладнокровие, с которым те, другие, заглянут в пустые, но все еще полные недавнего ужаса глаза и констатируют то, что, так или иначе, должно было случиться.
Случайно, скажут они, а даже если и нет, вы же понимаете, какие неуравновешенные эти эстеты, романтики и циники, для них нет ничего святого, даже собственная жизнь…
Мы назовем это полетом, побегом, прыжком, но уж никак не хладнокровным убийством.
Признаться, мы страшились этого слова и не хотели видеть опасности, которая подстерегала на каждом шагу.
Итак, Раф исчез первым – нет, не умер, не сошел с ума, не замерз в сугробе, а просто ушел по усыпанной опавшими листьями дорожке прохладным, но все еще теплым октябрьским вечером – укутанный туманом, впрочем, как и весь город, утопающий во влаге и испарениях к вечеру и слегка подмерзающий к утру.
Никто не видел, как ушел он, но всегда находятся свидетели, которые ничего точно не утверждают, а только делятся предположениями: да нет, все-таки, он был похож на нашего Рафа – тот же развевающийся на ветру плащ, широкополая шляпа и та же тьма египетская в подглазьях.
Склонные к художественным преувеличениям свидетели вряд ли могли установить день и час – то ли до октябрьских, то ли после, да нет, это после того, как мы обмывали приезд Сола, или до того, не помнишь, старик?
Сол, действительно, приезжал в октябре – обваливался на туманный, влажный, сонно-прекрасный и золотой город, и тогда начинался тот самый угар, после которого долго велась перекличка, потому что вечер сменял утро непонятно какого дня и тут же переходил в ночь, а потом опять в день, ночь и утро, и тут уже мало кто помнил, кто, с кем и куда ушел.
Некоторые помнили, что Раф приходил, вроде бы появлялся с Росой, но с Росой приходил не только он, мало ли кто мог приходить с нею, рожденной исключительно для того, чтобы слыть и быть музой, причем всеобщей музой – музыкантов, художников, просто артистов, обладающих художественным… эээ… чутьем и ведущих вследствие этого беспорядочный, но, видит бог, головокружительный образ жизни.
Отчего же было ему не появиться с Росой, Роситой, застыть в проеме двери, запечатлеться в чьей-то памяти таким вот восторженным сдвоенным автопортретом – с кокетливо изогнутым бедром, женским, разумеется, с неровно подмазанными губами, с заросшей трехдневной щетиной впалой щекой и миндалевидным оком, рассеченным косо падающим лучом из тусклой лампочки в прихожей.
С таким же успехом на месте Росы могла появиться любая другая – странные эти художники, а также всякий околохудожественный люд, никакая печать не скрепляет их уз, и оттого вольны они как птицы, на зависть всем прочим, волокущим тяжкие гири долга.
И все же, все же и в этом мире случается некое подобие постоянства – ну хотя бы постоянства захламленных берлог, подвалов, мансард, в которых то холодно и пусто, то вдруг сыто, пьяно, весело, и утро начинается с пронизывающего холода в местах общего пользования, с уснувшими там и сям скорченными, а то и вольготно раскинувшимися фигурами, спящими поодиночке, по двое, а то и по трое на гостеприимных диванах, тюфяках и подушках.
***
После соития женщина должна лежать, подогнув колени, по возможности, как можно дольше.
Она должна лежать, улыбаясь во тьме, похожая на плывущую баржу или взмывающий дирижабль, с надутыми парусами бедер, округлого живота, спутанных волос.
Женщина после соития должна улыбаться собственному отражению в тысяче иных миров, принадлежать только себе, вслушиваться в тайное, еще невидимое никому, даже самому Господу Богу.
Лежащая на спине, со вздыбленными коленями, каждое из которых обцеловано Рафом, да и не только им, обцеловано и воспето, с изогнутыми ступнями, с пленительным изгибом шеи и разворотом ключиц, – это совсем не та женщина, которая, стуча зубами, в наброшенном кое-как, а потом сброшенном халате, хотя вряд ли халате – скорее, в безразмерной мужской рубашке, расстегнутой, будто созданной для того, чтобы драпировать хрупкие женские плечи и оттенять узость запястий и внезапную мощь обнаженных бедер, – так вот, это совсем не та женщина, которая, раздирая рот в зевке, нашаривает выключатель, зажигалку, спички, отворачивает кран с горячей и холодной водой, чертыхается, роняет, чиркает, вставляет сигарету в отверстие рта – истерзанного, смазанного долгими терпкими поцелуями, и совсем не та, которая стоит у окна, – уже немного отдельная, другая, уже провожающая так быстро промелькнувшую ночь полным сожаления и неги взглядом.
И уж совсем не та, которая вдыхает все то, что предлагает ей утренний город – воскресный, рассветный, с едва слышным колокольным перезвоном из ближайшего монастыря.
Если выйти из подъезда, свернуть налево и спуститься по ступенькам вниз, то окажешься либо в приюте для слепых и немощных, либо в сестринских объятиях послушниц, но мы двинемся дальше, пресыщенные событиями ночи и всех предшествующих ночей, от описания которых воздержимся, ибо
***
Итак, лежащая с устремленными ввысь коленами, по всей видимости, была той самой Росой, сбежавшей от законного супруга в одной ночной сорочке, – той самой музой, уже не впервые сотрясающей обитель художника дикими воплями и звериным воем.
История Рафа и Росы уходила корнями в далекое прошлое, когда ясноглазая отроковица в спущенных с голеней гольфах и коричневом школьном платье улыбнулась идущему через сквер погруженному в сновидения Рафу.
Погруженный в сновидения художник вроде бы и не собирался пробуждаться, а возможно, так и не протрезвел, посчитав случайную встречную улыбку, одновременно безгрешную и ошеломительно порочную, с завернутой верхней губой над ровным рядом крепеньких зубов и двумя хищными резцами, поставленными так обаятельно косо, – посчитав все увиденное продолжением сновидения, ночного полета.
Он так и не проснулся, но улыбка идущей по дорожке сквера девочки закрепилась где-то там, в пульсирующем сознании, и пролилась чистейшей прелестью уже на холстах – холстах, картонках, листах ватмана.
Это после уже, опознав в искушенной девице, прикуривающей на лету, в опасной близости от его, Рафова лица, рта, языка, – в рисунке скул, в тяжелых опущенных веках, ту, запечатленную сотни, десятки сотен раз…
Это потом уже длилось и длилось исступление в мило обставленной, немного крикливо и по-мещански, квартирке, это потом грозило расправой от рук с довольно внушительными бицепсами, принадлежащих некоему чину, состоящему в рядах славных органов, – лицу совершенно случайному в пестрой Росиной биографии, но, тем не менее, имевшему место, свое законное место и время, недолгое, впрочем, как все, что происходило в ее беспорядочной жизни.
История завершилась позорным бегством с комическим и, безусловно, феерическим спуском по водосточной трубе.
С белеющим над ночным городом, развевающимся будто флаг, краешком Росиного белья… С тем самым бесстыжим шелком, шелком и велюром, нанизанным на его, Рафа, тощий остов, – вопреки всем угрозам и всем ветрам.
Это потом уже, после многократных измен и примирений, никто уже и не припомнит, что послужило поводом для внезапной близости, – то ли очередное фиаско Росы на семейном фронте – видит бог, ну, не создана она была для ежедневного прозябания, а исключительно для блеска, огня, сжигающего подчас, но и воспламеняющего.
Т то ли извечная отрешенность художника, сквозь дымку очарованности постигающего мир, а, следовательно, и самого себя, склонного скорее прощать и забывать, нежели помнить и накапливать обиды.
Обиды не задерживались в его сознании, утекали сквозь пальцы, точно вода или песок, – и только способность согревать в ладонях озябшее, всегда прекрасное, дышащее, всегда немного чужое и бесконечно близкое…
В общем, говорят, накануне исчезновения Рафа они были вместе.
***
Нашлись и такие, кто утверждал, что следы Рафа отыщутся в Израиле, в пыльном городке Беэр-Шева, в небольшой съемной квартирке, регулярно обстреливаемой самопальными арабскими ракетами.
В небольшой квартирке под крышей, а следовательно, душной, но и продуваемой южными ветрами вперемежку с песком.
Другие упоминали о северных землях Рейна или Гессена – но это уже начало иной истории, вовсе не Рафа, а другого человека, носящего то же имя.
Если учесть, что организм наш на добрую долю состоит из жидкости, а уровень ее мы постоянно восполняем и потребляем в виде крепкого кофе, чая с лимоном, минеральной воды и воды из-под крана, а вода эта бьет из источников и скважин, пробитых там и сям на истерзанном теле земли, то от места нашего пребывания меняется состав крови и, следовательно, мы сами, и то, что вчера называлось Рафом, сегодня окажется чем-нибудь иным.
И грустные глаза Рафа нальются совсем уж собачьей тоской, сухой, даже волчьей, острой, пустынной, хотя, как знать, возможно, разросшийся загривок прибавит вальяжности и чувственной влаги.
Либо же, напротив, не тоской, а жизнелюбием, которое дается непросто, а в результате многократных поражений и потерь, бесконечных сделок, соглашательств, компромиссов и примирений – с миром, с ближними, дальними, с самим собой, наконец.
Жизнелюбием, которое равносильно смерти. Как итог, жирная черта, перечеркивающая тебя вчерашнего, со всеми твоими взлетами, падениями, иллюзиями и избавлением от них.
Жизнелюбием, сменяющим крушение точно так же, как респектабельный костюм сменяет обтрепанные джинсы хиппи.
Нет, тот, другой, которого видели в благополучном городке Дюссельдорфе или в Висбадене (говорят, там воды, много минеральных вод и прелестных крепкозадых девчонок), тот, с клетчатым саквояжиком, листающий газету над утренним латте, никак не мог быть Рафом, ведь Раф и слова-то такого не знал – латте, а кофе пил трижды горький, перемолотый собственноручно в древней машинке с отбитой рукоятью, жернова которой проворачивались с величайшим трудом, а если не проворачивались, то кофейные зерна разгрызались тут же – белыми, еще не знающими поражений зубами, а тут какой-то латте, одна насмешка, а не кофе, убеленный добропорядочной буржуазной молочной пеной, и рядом – сытая ясноглазая фрау из местных щекочет Рафину шею прозрачным ноготком.
Но и в Висбадене, говорят, полно наших сумасшедших, диссидентствующих по старой привычке, прикуривающих от зажженной конфорки, встречающих новый день припрятанной с вечера заветной, маленькой и, видит бог, кладущих на всю эту хваленую бюргерскую аккуратность и обязательность – все эти мелкие социальные подачки в виде, допустим, двухэтажной студии с премилым балконом, с которого видны все их живописные башенки, готические верхушки и игрушечные кирхи.
***
Нам было по тридцать с хвостиком – Стасу, Штерну, Рафу, Баруху, когда исчез Раф, когда отбыл в новую жизнь огненный Робсон – вместе с тяжелым своим саксом, с чужой женой Элкой и их общим ребенком – Элки, Штерна и его, Робсона, когда подался в ортодоксальное православие пижон и гусар Хаш, джазмен, знаменитый своей октавой, то есть расстоянием от мизинца до большого пальца, – той самой октавой, которая одинаково вольготно охватывает ряд тускло-желтых клавиш – и окружность женского живота – вдоль и поперек. Когда плотная смуглая кисть возносилась над клавиатурой и застывала на добрые полминуты, готовая пролиться ностальгическим «Ов сирун, сирун», вряд ли находился тот, кто сдерживал чистейшую, горчайшую, светлейшую слезу или протяжный вздох, сродни детскому всхлипу, предтече безудержного рыдания.
Город был еще тем самым, со старых черно-белых снимков и любительских записей – стихийным, развеселым и отчаянным местом, по которому не только прогуливался любознательный турист, но в котором жили, ютились, женились, разводились, сходились опять, рожали общих детей, из которого улетали, уезжали навсегда, а как же иначе, и в который непременно возвращались.
Другими, усвоившими уроки жизнелюбия, без которого, говорят, до старости не дожить.
Говорят, где-то обитает и Рафина дочь – Рафы и Росы, конечно же, юная дива в гольфах, да что там, полосатых чулках, натянутых на высокие юные бедра, – все та же синева в подглазьях и этот влажный, безгрешный и порочный блеск…
Будто сошедшая с Рафиных полотен, увиденная в жарком сне девочка – привет из далекого будущего, в котором нам, страшно сказать, сколько лет, нет, лучше остановимся на тридцати трех – говорят, это замечательный возраст, в котором возможно все.
Рэгтайм
всем, кто любит джаз…
…И тогда Штерн сыграет лучшую из своих тем, – конечно же, на лучшей из своих скрипок, невзрачной, покрытой потускневшим лаком, миниатюрной, не слишком плоской и не чрезмерно выпуклой, исторгающей глубокий и плотный звук, похожей на маленькую Элку Горовиц, ту самую, которая несётся скорым поездом в южном направлении, покачивается на верхней полке, некрасиво приоткрыв рот и обхватив плечи своего мужчины, – это Робсон, Поль, Пауль, Пабло, Пашка, рыжая сволочь, наглая рыжая дрянь, любимая талантливая дрянь, – вот этого Штерн ему никогда не простит, – обнявшись, они просидят до утра в кольцах едкого дыма, в просторной кухне на втором этаже добротного сталинского дома, – худой взъерошенный Штерн в облезлых тапках и растянутой трикотажной майке невнятного цвета, – какой же ты гад, Поль, гад, – в сизом дыму и дымке рассветной, лиловой и розовой, они просидят до утра, захлёбываясь плиточным грузинским чаем, слезами, внезапными приступами смеха, похожими на лопающиеся пузыри, – посреди рюмок, стаканов, окурков, вдавленных в блюдца, – короткая, – скажет Робсон, сжимая веснушчатыми пальцами спичку, а сонная, ничегонепонимающая Элка выйдет из комнаты, в зевке раздирая великолепную цыганскую пасть, луженую свою глотку, – хорош галдеть, мальчики, я вас люблю, – протянет она простуженным басом и обнимет первым грустного Штерна, а потом – торжествующего Робсона, – короткая, – ухмыльнётся тот и по-хозяйски возложит длань на смуглое плечо, выступающую ключицу, усыпанную коричневыми родинками и веснушками, а потом легко подхватит своими лапищами, сгребёт и унесётся на пятый этаж, в свою берлогу, – любить до полного изнеможения, – вот такую, сонную, не вполне трезвую, пропахшую Штерном, его рубашками, его узким желтоватым телом, его безыскусной упрямой любовью.
Немного робея, Элка взойдёт на ложе Робсона, в его никогда не заправляемую постель, возляжет на ветхие простыни, но это случится потом, а пока она будет любить Штерна, как любят первого, – просто за саму любовь, – все эти мальчишеские поцелуи, вжимая колючую голову в живот, его глупую голову, непонимающую ничего в настоящей взрослой любви, – которая случается, – слышишь, Штерн? – она просто обваливается на тебя, – ураган, вихрь, и тогда всё, что мешает ей осуществиться, состояться, быть, – отходит, опадает, как прошлогодние листья, как жухлая трава, – все эти наши смешные словечки, и это сумашествие, бегство по крышам на ноябрьские, милицейский свисток, ветер с дождём, а потом, – помнишь, что было потом, Штерн? – как мы согревались плодово-ягодным в высотке на Ленина и заговорщицки подмигивали друг другу, – тоже мне диссиденты, – а потом ты свернул флаг и попросил, – спрячь, Элка, – и я унесла флаг к себе и пристроила в платяном шкафу, и он чудесно ужился там вместе с моими лифчиками и драными джинсами, – а что было потом, Штерн, – Элка смеётся, уронив бедовую голову на скрещенные локти, и Штерн несмело водит ладонью, – туда-сюда, туда-сюда, вдоль выступающих позвонков, сдвигая тонкую ткань, – бледный, взмокший, с искривленной дужкой очков, он водит смычком, поджав нижнюю губу, – выводит соль, а потом – ля, – ещё, мычит Элка и вливает второй стакан, её уже мутит, и кислая волна покатывает к гортани, – ещё, мычит она, – ей всегда мало, всегда, – она рычит и выпивает залпом, и рушится, обваливается, вместе с потолком, кроватью, люстрой, и тогда уже Штерн, смелея, втискивает узкую ладонь изощрённейшим способом, и там уже выжимает, выкручивает, вытряхивает хриплое соло из Элкиной гортани. Давай, Штерн, давай, миленький, – воет она, впиваясь ногтями в его бледный живот с голубеющей ямкой пупка, и мучит, и рвёт, наяривает свой знаменитый бэк-вокал…
И тогда Штерн, переступая через разбросанные там и сям, как это и положено при настоящей взрослой любви, – переступая клетчатую ковбойку, маленький чёрный лифчик, хлопчатобумажную майку, – где мои трусы, Штерн, где трусы, – что-то смешное, трогательное, кружевное, донельзя условное, – он нашаривает лохматые тапки и бредёт спотыкаясь в ванную комнату, и там гремит чем-то, тазами, миской, – шумит газовая колонка, – вначале кипяток, а потом – опять холодная, – он жадно припадает к крану с холодной водой, с привкусом хлора и ржавчины.
Это потом, позже, появится Поль, Пауль, Паоло, Пабло, со своим никогда не дремлющим саксом, с Колтрейном, Вашингтоном, с птицей Паркером, со стариной Дюком, – в сталинских домах высокие потолки, прекрасная акустика, – женский смех, голубиные стоны, просто дружное мужское ржанье вперемежку с повизгиванием и рёвом, с переливами сакса, воплями трубы, и, конечно, хриплое камлание под гитару, и непременный Высоцкий, куда же без него, и «Машина», и жестянка с окурками между четвёртым и пятым, и эти постоянно снующие молодые люди в палёной джинсе, заросшие по самые глаза, – это потом будут имена, – Алик, Гурам, Сурик, бесподобнейший Борух, Спиноза, – бессонные ночи как нельзя более способствуют скоропостижной любви, а ещё столкновения на лестнице, с мусорным ведром и без, в шлёпках и небрежно наброшенной рубахе, незастёгнутой, конечно, на впалой груди, поросшей рыжими кольцами волос, – возносясь над распятым Штерном, Элка достигнет пятого этажа, где после шумной ночи засыпает король соула и свинга, – рыжеволосый, горбоносый Робсон, – будто маленькая чёрная птица, впорхнёт Элка Горовиц в распахнутое окно и, расправив крылья, будет биться о стены, умирая и возрождаясь вновь, как синекрылый Феникс.
И тогда Штерн сыграет лучшую из своих тем, – хотя нет, это было бы слишком красиво, – скрипка будет лежать в одном углу, а Штерн – в другом. Раскинув руки, с подвёрнутой штаниной, он будет считать такты и ступеньки, дни и часы, – расстояние до пятого этажа длиной в два пролёта, расстояние Киев-Краснодар-Сочи-Адлер-Сухуми, пока длится горячечный медовый месяц, в июльской испарине, в августовском сухостое, – пока скачут рваной синкопой дни сытые и дни голодные, а больше голодные, веселые и голодные, под рёв робсоновского сакса будет извиваться Элка Горовиц в своём маленьком чёрном платьице, все более и более тесном в груди и бёдрах, – и даже небольшой обморок прямо на сцене не насторожит будущего отца, – только немолодой врач-армянин, сухощавый, едва ли не в пенсне, с шаумяновской остроконечной бородкой, ополаскивая кисти рук, белозубо улыбнётся растерянному отражению в зеркале, – а вы кого хотите, – мальчика или девочку? – мальчика? – переспросит Элка пересохшими губами и поспешит к восьми часам в Дом культуры, – бледная как мел, с ярко-накрашенным ртом, в тот вечер она превзойдёт самое себя, исторгая звуки плотные и низкие, вторя пашкиному саксу, вступая чуть раньше, опаздывая ровно на полсекунды, – вдоль и поперёк, вниз и вверх, диафрагмой, грудью, животом, – упираясь ногами в дощатый пол сцены, она возьмёт ноту, от которой замрёт, а потом взорвётся зал, и, мокрая, с блестящей голой спиной, рухнет в объятия Поля, Пауля, Пабло, – ты гений малышка, – выдохнет Робсон в духоту гостиничного номера, нанизывая её на себя, глядя снизу, сверху, раскачиваясь, подтягиваясь на локтях, запрокидывая, впиваясь в солёный затылок.
И когда, придерживая чуть выступающий живот, она будет озираться в поисках, конечно же, его, Штерна, он будет рядом, со стеснённым дыханием, поглядывая на неё искоса, хватать сумки, набитые цветным курортным тряпьём, южными персиками, чем-то ароматным, сладким, непозволительно сладким в октябре, впрочем, как и её ровный загар, – везде, Штерн, везде, – ему предоставится случай в этом убедиться, и её легкомысленный наряд, что-то такое на бретельках, опасно ускользающих, – она шла чуть впереди, семенила переваливаясь, будто уточка, что делало её как-то по-новому уютной, домашней и совершенно неотразимой в глазах Штерна, – дойдя до второго этажа, она приостановится и нерешительно посмотрит на него. Снизу вверх.
А потом, конечно, будет праздник, курносенькая строгая сестричка протянет туго спеленутый свёрток, неожиданно плотный, – эх, папаша, – вздохнёт и рассмеётся его неловкости, – свёрток закряхтит и выгнется дугой, – ай, какой у нас краник, ай, какие у нас глазки, – запоёт Элка, целуя животик, пальчики, пяточки, бойко орудуя всеми этими приспособлениями, – присыпкой, спринцовкой, весами, – подожди, пусть отрыгнёт, деловито сообщала она и укладывала Фила ему на плечо, – затылочек, головку! – он уже и сам знал, и ладонью придерживал головку, и вдыхал аромат ванильных складочек, с опаской касался атласного ушка, и смотрел, как Элка сцеживается, – свесив косо срезанную чёлку, высвобождает всё это великолепие из тугого лифа на специальных пуговичках и плотных лямках, – кожа на груди переливалась голубым и жемчужным, а сосок из маленького сделался огромным, – кроватка стояла у стены, и Штерн привычно вскакивал, едва заслышав неуверенное кряхтение, – опять мы мокрые, опять мы мокрые, – бормотал он, раскладывая перетянутые ниточками ножки, – мальчик размахивал зашитыми рукавами распашонки, косился куда-то в сторону, икал, пока однажды с осмысленным выражением не уставился прямо на Штерна, – голубыми робсоновскими глазищами, – ну, вылитый Робсон, констатировала Элка и убежала на молочную кухню, и тогда Штерн осторожно извлёк из футляра скрипку.
Малышу должен был понравиться Крейслер.
Робсон ворвётся почти без вещей, как всегда, налегке, – простуженный, осунувшийся, немного отчуждённый, – во время ночного чаепития на штерновской кухне мужчины будут странно молчаливы, и только Элка шумно деятельна, как-то совсем по-взрослому, будто ей и дела нет до мужских разборок, – её дело – вовремя дать грудь и сменить пелёнки.
Под утро Робсон поднимется к себе, а Штерн вздохнёт с облегчением, нашарит лохматые тапки, выключит свет, – сонная Элка рядом, дышит в ключицу, кроватка с мальчиком в углу.
Мальчик успокаивался при первых звуках скрипки. Элка где-то носилась, – растрепанная, в драных ливайсах, – Штерн предпочитал не спрашивать, по хлопку входной двери он определял, что произойдёт дальше, – идеальный слух не подводил, – она опять летала. Со второго на пятый она взлетала как на качелях, и синие тени пролегали под глазами, – Штерн, миленький, спать, – бормотала она и поворачивалась спиной, и кротко вздыхала, как сытая кошка, дышала негой и теплом, чужим теплом, – почему бы тебе не остаться там? – спросил он в спину, но ответа не последовало, – она спала как убитая, или делала вид, что спит.
Понимаешь, Штерн, здесь никому не нужен джаз, – он вне закона, – Элка затягивалась сигаретой, судорожно давила окурок в пепельнице, – иное дело классика. Она будто играла в какую-то игру, притворяясь взрослой, и повторяла чьи-то слова, смахивая отросшую чёлку со щеки, – она всегда играла, – в первую любовь, в роковую любовь, в чудесную игру – «Элка —будущая мать», «Элка купает Фила» – наверное, только там, наверху, она была настоящей, – плачущей, смеющейся, счастливой, несчастной, – Штерн кивал, но голова его была занята другим, – он понимал, что разлука с маленьким Робсоном неизбежна, понимал всё более явно и отодвигал эту мысль куда-то на задворки.
Мальчик жил на два дома, но засыпал у него, вначале в кроватке, потом рядом, на старом топчане, – странное дело, он называл его, как и Элка, Штерн, – только без буквы «ша» и «эр», – Стэн, – сказку, – командовал он и вытягивался в постели, шевеля пальчиками ног, – вытягивался и вновь сворачивался калачиком, и, насупившись, терзал его, штернов, палец, – короткая, Стэн, – недовольно извещал Фил, – он любил длинные сказки, непременно с хорошим концом, чтобы все оставались счастливы, жених и невеста, и старик со старухой, и три поросёнка, и Иванушка-дурачок, и Штерн послушно продолжал, – вторую серию, третью, тридцать третью, пока мальчик не отпускал его руку, – никто не протестовал, – Элка выясняла отношения на пятом, – гоняла крашеных лахудр, неопасных, но нескончаемых, как непреложное доказательство жизни, – бушевала, замыкалась, вновь улетала, возвращения становились болезненными для всех, – дом на втором этаже по-прежнему существовал, но на пятом была жизнь, – мучительная, рваной синусоидой, с ломкой, ремиссией, обманчивым затишьем.
Так будет лучше, Штерн, – для нас всех будет лучше, – едва решение принимается, всё устраивается само собой, по инерции, – она носилась с документами, оформляла, подмазывала, где надо, будто всю жизнь только этим и занималась, будто там, в стране мыслимых и немыслимых возможностей, Робсон утихомирится и станет законопослушным и респектабельным, а она, Элка Горовиц, наконец, обретёт душевное равновесие и почву под ногами. А джаз? Что джаз? Ты что, не понимаешь? Здесь ничего не будет, мы все погибнем, как Борух, как Курочкин и джаза не будет, здесь ничего не будет, Штерн…
***
Отъезд походил на нескончаемый джем-сейшн. Народ толпился, кучковался, – на пятом, на втором, – в пролётах между третьм и четвёртым, слышна была английская речь, грохот посуды, чей-то писк, визг трубы, – будто вернулись добрые старые времена, – на ступеньках раскачивался в дым пьяный чех Яничек, он щекотал хохочущего Фила, взлетающего вверх-вниз со спущенными лямками комбинезона, – кто-то с четвертого грозился вызвать милицию, и вызвал таки, – участковый, низкорослый, с пшеничными кустиками бровей и птичьим носом в бисеринках пота, помялся для приличия с грозным видом, но быстро ретировался, – он любил «Писняров» и песню про Вологду, и понятия не имел, кто такие Эндрю Хилл, Сэсил Тэйлор или Арчи Шепп, – здесь всё было чужое, чуждое, нерусское какое-то, и всё-таки русское, – здесь наливали, шумели, плакали, и если бы ещё кто-то кому-то дал в морду, но нет, они как будто не пьянели, – всё же здесь распоряжалось иное ведомство, из тех, что снуют неприметно, в штатском, – их никто не вызывает, они появляются сами, сливаются с толпой, – послушай, дружище, – завтра, завтра здесь будет тихо, веришь? – Робсон огромными ручищами обнимал участкового и провожал к выходу, передавая кому-то косяк, пожимая пять через голову, – но прежде он успевал очаровать, влюбить его в себя, – вот так со всеми, – рыдала Элка у Штерна на груди, – так со всеми, – все любят Робсона, а он – только джаз. Подтягивались околобогемные типчики, промышляющие фарцой, в велюре и вельвете, в рубчик и ёлочку, на чехословацкой и гэдээровской платформе, – малознакомые чувихи, – долговязые девы, отважные боевые подруги, – натурщицы, манекенщицы, балерины, продавщицы и просто отзывчивые гёрлз, – они обнимали Робсона на пятом и плакали у Штерна на втором, – на третьем они успевали потискать перемазанного шоколадом Фила, обнять Алика, Сурика, Гурама, и помянуть Спинозу, завершившего свой полёт в прошлом году.
Автобус подъехал вовремя, в полдесятого утра, – об этом позаботился пунктуальный Штерн, – вот тут опять поднялась кутерьма, неразбериха, – Робсон уже стоял внизу в распахнутом кожаном пальто и красном шарфе, – таким его и запомнят, – с футляром, с запрокинутой головой червонного золота, уже тускнеющего, – Штерн, помоги, – Элка, бледная после бессонной ночи, одними глазами указывала на взъерошенного сонного мальчика, – тот стоял над лестничным пролётом, вцепившись в решетку, – а я никуда не поеду, – во внезапно образовавшейся тишине его голос прозвенел как натянутая струна, и только Штерн смог взять ситуацию под контроль, и, опустившись на корточки, улыбаться, гладить по спутанным волосам, один за другим разнимая онемевшие пальцы.
Эта страна не для тебя, детка
…Эта страна не для тебя, детка, некоторые устроились вполне неплохо, например, мальчик из акварелью писаного киевского дворика – немножко полноватый мальчик с оттопыренной нижней губой, хороший еврейский мальчик женится на однокласснице, конечно же, а вы думали, на шиксе с вот такими ногами из подмышек и прохладными даже в эту жару водянистыми глазами, вот этими водянистыми глазами она смотрит не видя, а что смотреть, что и кого можно видеть через прилавок, из девочки получилась способная жена хозяина продовольственной лавки и способная кассирша – как ловко она отбивает чечетку своими наманикюренными пальчиками – сыра двести, плитка шоколада, бутылка вина, глаз у нее профессионально безразличный, тем более муж тут неподалеку, рубит кости, что-что? вы не ослышались, кости, пятница – базарный день, и у нас всегда свежий завоз – парная телятина, индейка, свинина, – хороший еврейский мальчик ловко управляется с настоящей бараниной на плов, со свиными стейками, воловьими костями, с нежной филейной частью, кострецом, вырезкой, огузком, с куриными окорочками, гусиными шеями, ребрышками, у хорошего еврейского мальчика густо-волосатая грудь и руки по локоть в крови, кашерно, еще как кашерно, – смеется он, утирая пот со лба, – табличка с отпечатанным на принтере благословлением раввината над Фиминой головой, табличка, за которую плачено немало, и мезуза у входа, у самых ступенек, – тебе сколько? – у нашего мальчика не голова, а счетная машина, живую свинью он уже мысленно освобождает от кожи, головы, растопыренных копытец – отделяет мясо от костей, вырезает аккуратненькие, подковками, стейки, пухлые свиные сердечки – загляденье, подковки переводит в шекели, шекели в доллары, доллары в гривны – по Киеву он ходит королем, весь в белом, когда-то была у него мечта – жениться на самой длинноногой девочке класса и выучиться на зубного техника, вот и сбылось, ну, почти сбылось – экзамены он провалил, а девочка все равно бросила своего физика-ядерщика Головкицера и уехала с ним, пускай не врачом, а с тем, кто день-деньской крутится, продает и покупает, а потом рубит, колет и режет, фасует и тасует, а потом – все равно ведь он в белом, как врач, только вот шея у него раздалась, и бока, рубить кость – это вам не на скрипке пиликать, тут опора нужна, крепость всего организма, и любовь к этому самому, да, к мясу – жареному, тушеному, вареному, парному – без единой прожилочки, кострецу, лопатке, ошейку, ошметки алой плоти весело летят в подставленный поддон, в корзинку, в растопыренную пятерню обалдевшего покупателя – разве не за этим куском он ехал сюда, разве не за этим великолепием, – Ленок, полкило фарша, и полкило сарделек, и банку тунца, и дюжину куриных крылышек, горлышек, ножек, отдельно печеночку, пупочек, – разве не за этим?
Эта страна не для тебя, детка…
Сегодня Фима весь в белом – сегодня отчаливает пароход, а там, вдалеке, красавица Одесса, Одесса-мама, а за ней – склоны Днепра, и величественный город на них – золотой, вечный, прекрасный, неузнаваемый, тот самый, с парками, оврагами, монашками, куполами, – привет, Фима, как жизнь, Фима, – а вон и Головкицер, очкарик с усыпанной перхотью головой, усидчивый Головкицер, сутулый, тощий, брошенный Ленкой-юлой, с карикатурным своим носом и маленькими глазками – и что она в нем нашла, чем взял ее этот гигант, неужели недописанной диссертацией по ядерной физике?
– Где Головкицер? Куда он пропал, кто видел Головкицера? Нет кофейни, в которой часами сиживал в толпе таких же очкариков и восторженных девиц, – кофейни, расписанной совокупляющимися самками и самцами матерой кошачьей породы, нет кофейни, а коты все те же, только живые, вальяжные, центровые коты с Большой и Малой Житомирской, – под ноги иностранному туристу, с испитыми, из подворотен вырастающими сизыми личностями, щеголяющими азами инглиша и актерского, конечно же, мастерства, вполне безобидного, впрочем, а ты загляни на Андреевский, Фима, кажется, Головкицер мелькал там, – когда? – давно, года три тому, совсем обносился, отощал, – на что живет? – а неясно на что, и разве ж это жизнь, да вот еще и картинки малюет, штучный товар – вид с Владимирской горки, – неплохо, – цедит Фима и сует полтинник, Фима не жадный, ему не жаль полтинника, да и сотки не жаль – для человека в белом это смешные деньги, это вообще не деньги, между нами.
Но только что-то гложет его и спать не дает, – слышь, Ленок, спишь? – Ленок спит, разметав ноги от самых подмышек, вполне аккуратную в ее сорок грудь и прочую красоту, которая, конечно же, любима, желанна, но немного, как бы это сказать… привычна, что ли, – как рука или нога, – спишь? – и невдомек ей, что на поиски пропавшего Головкицера уйдет день, второй, третий – потный, в несвежем белом костюме, располневший Фима, страдающий одышкой уже года два, будет носиться по Андреевскому, совать нос в каждую подворотню, – и аж до самого Подола добежит.
– А по слухам, уехал твой Головкицер в благословенную страну, за океан, секретным физиком, – где-где, в Пентагоне, вот где, такие, как Головкицер, в Америке нужны, не то что здесь, – секретный физик в окружении знойных мулаток и не менее жгучих квартеронок и не вспомнит, кто такой этот круглолицый, сутки небритый, затурканный человечек в тесных белых брюках с расплывшимися пятнами пота, кто такой этот лысеющий, с одышкой, – ну да, предупреждали же, поменьше мяса, животных жиров, но что значит поменьше, – пашешь сутками, пятнадцатый год без продыху, а тут еще трое – накорми, обеспечь, отвези, – это головкицерам всяким хорошо, эти, очкастые, везде устроятся – если не в Америке, то в двухкомнатном клоповнике с престарелой мамашей, похожей на усатого фельдфебеля, в самом сердце Подола – здание под снос, вот-вот снесут, но почему-то еще не сносят, воды горячей нет, и не было никогда, колонка, отбитый край цинковой ванны, куча тряпок в прихожей – по слухам, спятила не только мамаша, но и сам Головкицер, говорят, он изобрел что-то или продолжает изобретать день-деньской, грязный, заросший пегой щетиной по самые глаза, ползает, чего-то чиркает в тетради, чертит, дымит как паровоз и глушит этот страшный свой плиточный чай – из старых запасов, черный, горький, из немытой кружки с перевязанной ручкой, – бедный счастливый Головкицер, ненужный никому, так и не женился, и детей не завел – какие дети, он и сам дитя, блаженное, нежно-голубоглазое, – задыхаясь от кошачьей вони, спотыкаясь о тазы, баки, ведра, банки, бутылки, хватаясь за липкие стены, переступая скрученные жгутом тряпки, доползет бледный Фима до Головкицеровского подвала, бункера, убежища, озираясь в поисках капли воды, хлебнет из грязной кружки Головкицеровской горечи.
– Сиди, – скажет Головкицер и выйдет на маленький захламленный балкон, и задымит в усыпанное звездами небо, – почему не уехал? – зачем, Фима? Куда? Разве мне здесь плохо? – и вправду, одним плечом втиснется Фима в проем балконной двери, зацепит край бездонного Головкицеровского счастья – с глухой кошкой, глухой мамашей, – да как ты живешь? как вы живете здесь – без страховки, без еды, без…
Без Ленки. Ведь это главное, так ведь? – усмехнется мудрый Головкицер, попыхивая в темноте, – так ведь моя Ленка со мной осталась, вот здесь, – и тощей ладонью коснется поросшей густым рыжим ворсом впалой груди, – груди отшельника, мудреца, аскета, – а твоя – с тобой, каждому по Ленке, – так ведь одна же, как это две – промычит грузный, отекший Фима с невнятной, необъяснимой тоской – по краешку звездного, чужого уже неба, по струящимся вдоль вечной реки улицам, забегающим вперед, тормозящим, опоясывающим, по выныривающим из подворотен лицам, – каким лицам, никого нет, Фима, все уже давно там, одни привидения, фикция, мираж, – засмеется хрипло Головкицер, выкашливая остатки прокуренных легких в покрытое испариной Фимино лицо.
…эта страна не для тебя, детка, – помнишь, Фимину лавку на углу, недалеко от шука3 – так вот, съездил Фима домой, красиво съездил – королем, весь в белом, сошел с трапа прямо на Крещатик, где девочки как на подбор, голоногие стрекозы, прошелся по Андреевскому, как и мечталось, спустился на Подол, отыскал, кого хотел, а, может, и не отыскал, вот тут не скажу, – а только нашли его в каком-то притоне, посреди тряпок, старых газет, бутылок, – несчастного маленького Фиму, который так чудно рубил мясо на стейки и выкраивал пухлые свиные сердечки, и прозрачные почки, и хрупкие, покрытые пленкой крылышки, не сразу нашли – бедная Ленка, вообрази, что ей пришлось пережить, страшная страна, одни бандиты, хулиганье, а тут счастливый Фима, у которого все так чудно сложилось, свой магазин, красавица-жена, полис – да, к счастью, все оформили как положено, – когда? во вторник, – а лавку, что лавку, недельки через две подходите, у нас свежий завоз, все, как вы любите, – стейки, сердечки, печеночки.
Письма
У нее есть дело, – связка писем, – это здорово, когда отъезжающему передают письма, как будто нет почты, – целая пачка писем, – передают на пороге, – да что же вы стоите, – не стойте на пороге, плохая примета, – входите, – или на перроне, под часами, в метро, – боже мой, – маленькая женщина в шляпке делает мечтательное лицо и покачивает головой, – Крещатик, – а что, там все так же? – да, – придется ей подробно все описать, – подземные переходы, в которых гуляет ветер, – запоздалых попутчиков, загулявших студентов, – вы уж потрудитесь, милочка, расскажите поподробней, – женщина хватает ее за руку, – а пруды? трамваи? – о, трамваи, – это особая история…
Она перебирает письма, всматривается тревожно, не торопится вскрывать. Разглаживает конверт, – скажите, а как он выглядит? – похудел? поправился?
Солнце палит вовсю, и они забиваются в угол под навесом, – в следующий раз берите воду, без воды нельзя, – женщина смотрит на нее с нескрываемой жалостью, – на такую вот, сошедшую буквально вчера с лесенки эскалатора, с трапа самолета, не понимающую, ступающую неумело по раскаленному, расплавленному, сжимающую в руках связку писем, – так вы не теряйтесь, – звоните непременно, – женщина раскрывает китайский бумажный зонт и машет рукой, – идите, идите! – смеется она и в ужасе озирается по сторонам, – на противоположной стороне улицы под таким же навесом на автобусной остановке сидит эфиоп. Он в белых одеждах и шляпе, сухой как мумия, сидит неподвижно и ждет, когда закатится солнце.
Летящий над пардесом4
Роясь в книжных завалах, отшвыривала толково состряпанные современные издания с именами-брендами на обложках.
Возликовала, выудив из груды книг потрепанную детскую книжицу, ветхую, с примитивными рисунками-каракулями.
Вспышка радостного узнавания.
Все эти бесхитростные смешные истории. С бесхитростными черно-белыми иллюстрациями.
Мы сидели под гудящим вентилятором, я и пятилетний сын, и читали, читали…
…У них была веселая бабушка в колпаке и такса Труба. У нас – тоже была такса. Совсем одичавшая в марокканском предместье, слоняющаяся по пустырю с высунутым от жары языком. Местные дети улюлюкали вслед и кричали, – накник, накникия5! Степенные женщины брезгливо поджимали ноги. Для большинства соседей игривое четвероногое существо было нечистым и вообще вредным. Даже опасным.
– Что собака, – сетовал плотно сбитый человечек, жующий тахинную халву на лавочке возле дома, – вот вырастет, – она тебя будет кормить? Помогать? Собака не ребенок. Заводить надо детей. Тут точно не прогадаешь.
В суждениях тихого марокканца был тонкий расчет. Заводить надо того, кто… Понимаете? Чтоб было кому пресловутый стакан воды. Собака, даже самая умная, стакана не подаст.
Так вот, у нас была такса, вентилятор и книжка. С тревогой наблюдала я, как опадают, бледнеют веселые щечки моего сына, как из домашнего обласканного ребенка он превращается во взрослого, идущего с рюкзачком в нелюбимый «ган-хова», где толстая воспитательница прокуренным мужским голосом поет детские песенки на чужом языке, и дети вокруг совсем не такие, как там, в том дворе, который остался в другой жизни.
В этой жизни была дорога вдоль эвкалиптовой рощи, справа – караваны, – слева – пустырь с разбросанными там и сям ворованными запчастями. Хозяин наш «парси» (так называют выходцев из Ирана) промышлял богоугодным промыслом, не брезговал, кажется, ничем, чтобы прокормить шумную ораву детишек.
По вечерам во дворе звучала заунывная музыка мизрахи. Кипел густой бульон, приправленный специями. Волшебное варево, сдобренное халвой, кунжутом, финиками, липкими дешевыми сладостями из соседнего супермаркета.
Прохладная струя апельсинового сока. Собачьи своры там, за свалкой и лимонными деревьями. Мусор в глубокой ложбине за домом. Крысы и летучие мыши по ночам.
– Ты видела хульду6? Вот такая хульда! – соседский сын, рыжий увалень в сдвинутой на затылок кипе, развел руки в стороны. Размер этой самой «хульды» был явно нешуточным. Хульда жила неподалеку, выходила гулять по ночам, скрипела острыми зубами, таскала объедки, возводила замок из пестрого пахучего хлама. Это была всем хульдам хульда. Королева хульдот. Весом в тонну, не меньше.
Могла запросто вышибить хлипкую дверь и устроить небольшой кровавый разнос. Воображение работало. По ночам я прижимала к себе ребенка, захлопывала окна, затягивала все трисы и пологи. Накрывалась с головой и стучала зубами. Крестовый поход хульдот казался неминуемым. На зубах перекатывались песчинки, за окном что-то скреблось и переваливалось на толстых лапах.
Проходя по шаткому мостику над ложбиной, я близоруко вглядывалась в копошащуюся, движущуюся массу.
– Видишь? – тяжело дыша, хозяйский сын хватал меня за руку. Видишь? – это самая большая в мире хульда.
Ее поджигали, травили, морили. Но безрезультатно. Хульда была непотопляема. Неистребима. Она была вечной.
Всех пересижу, всех переживу, – бормотала она, ныряя в гнилое крошево под ворохом тряпок, неутомимо загребая передними лапами, она рыла туннель с неистовством одержимой. Ее инстинкт самосохранения внушал уважение. Мерзкая тварь веселилась от души, поглядывая на нас острым блестящим глазком, похожим на булавочную головку.
Ненависть к проклятой хульде на какое-то время объединила всех, – марокканцев, парси, русских, эфиопов. Впрочем, нет, как раз эфиопы были настроены философски. Их близость к природе изумляла. Спокойные, будто выточенные из гладкого кофейного дерева лица не отражали рефлексий, присущих современному представителю рода человеческого.
Казалось, солнце давно иссушило и выжгло все суетно-недостойное их стройных спин, просторных одежд, проволочных волос. Только невозмутимость идущего по пустыне.
Хульда – это ты. А ты – это хульда. У нее ничуть не меньше прав на святую землю, на место под благословенным солнцем. Возможно, даже больше, чем у некоторых. Топающих ногами, возводящих неустойчивые баррикады из книг, детских и взрослых, из воспоминаний, из чужих букв и слов. Чужих. Чужих.
Маленькая эфиопская девочка, присев на корточки над ложбиной, протягивала смуглые ручки и лепетала что-то убийственно нежное на своем языке. Пустынном, птичьем, зверином. Она тянула руки и улыбалась. Кому? Да хульде! Ей она улыбалась и протягивала ладони.
Еще жил у нас бумажный змей. Как здорово запускался он на пустыре. Всегда было интересно, куда и когда он приземлится. Счастливый обладатель змея отпускал нитку, и веселое раскрашенное чудовище с прорезью огромного хохочущего рта взмывало туда, где летали крошечные серебристые лайнеры.
– Они летят домой? Правда же? – сияющими глазами провожал сын исчезающую точку и белую линию, рассекающую небо на «здесь» и «там», еще и уже, когда-нибудь, потом, никогда.
Маленькая книжка со смешными рисунками. Когда-нибудь все станет неважным, – все серьезное, взрослое, сложное.
Останется такса Труба, потрепанный бумажный змей и крохотная точка в небе.
Наш маленький мир, который покидаем однажды. Не оборачиваясь, но и не забывая, – «мама, папа, восемь детей и грузовик»7.
Восхождение
Теперь-то у меня никаких сомнений, – женщина управляет вселенной.
Небольшого роста, в шляпке, более полная, чем худая, она подсаживается ко мне в автобусе и хватает за локоть.
Послушай, – произносит она, и я покорно захлопываю книгу, – алеф, – говорит она, – бет, и так далее.
Книгу я больше не раскрою, потому что эта женщина, она и есть книга, она более, чем книга, и мое преувеличенно заинтересованное выражение лица не обманет ее, – эту книгу нельзя захлопнуть и отложить на потом.
Ты совсем не слушаешь меня, – жалуется она. Автобус мягко подбрасывает на ходу, а за окном – вполне умиротворяющий пейзаж, – дорога в Иерусалим хороша всем, а прежде всего тем, что у меня нашлось время, наконец-то нашлась пара минут, чтобы выслушать ее до конца.
Эта пара минут переливается застывшими огнями на холмах, и сидящий на переднем сидении ортодоксальный иудей раскачивается и запевает, вначале вполголоса, а потом уже во всю ивановскую, – чувство неловкости уступает место чему-то похожему на экстаз, – вот видишь, – улыбается женщина-Вселенная, все неслучайно, ты, я, город, в который мы въезжаем с наступлением вечера, – вечер зимний, розовый, прозрачный, – зато через какой-нибудь час неизвестно с какой цепи сорвавшийся ветер вперемежку с пылью, песком, дождем закрутит шали, юбки, шляпы, случайных прохожих, и улицы опустеют.
Здесь можно быть. Предоставить событиям случаться. Не заботиться о последствиях. Хватать с лотка горячую выпечку, бродить бездумно, а уж ноги сами выведут в нужное место.
Здесь не бывает случайностей, – все закономерно, и этот дождь, и вбегающие в лавки люди в черном, и мы, летящие по воздуху, оттирающие глаза от песка, – вот видишь, – кричит она, отбиваясь от развевающейся шали, – я говорила, что-то будет, – здесь каждую зиму что-то такое, потоп, снег, война, дожди, внезапная оттепель, – толпа чернокожих паломников пересекает площадь, немецкие туристы, послушные как дети, строем маршируют по Махане-иуда, городской сумасшедший в цветастом полушалке самозабвенно приплясывает, хлопает в ладоши, – японка, поющая псалмы, раскачивается, и ветер хлещет ее счастливое лицо, ее круглые щеки, – улыбаясь, она протягивает голубой шар, похожий на китайский фонарик. Бевакаша, бевакаша8, – бормочет с детской улыбкой, – шаров много, прохожих все меньше и меньше, – издалека она напоминает девочку со спичками, – стоит озябшая, и шары вспыхивают нимбом вокруг головы.
Еще немного, и белая дорожка расстелется до самых Яффских ворот. В такую непогоду нет ни эллина, ни иудея, ни араба, – этот, последний, запирает лавку, опечатывает, вешает замок, – домой, домой, – он машет рукой и исчезает в снежном вихре.
Восточный базар
Араб, швыряющий на чашу весов пару лимонов или пучок спаржи, не просто продает товар.
Еврей, сефард по происхождению, кстати, тоже.
Восточный базар – это театр, а не просто какое-то там купи-продай. Иногда – театр военных действий.
Шук9 – это живопись, анимация, графика. Это шарж, гротеск, – от тонкого росчерка до жирного мазка.