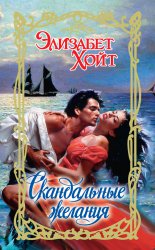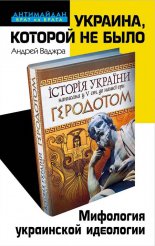Вечный жид Сю Эжен

Четырнадцатый этаж (Оск.)
Четырнадцатый этаж старой московской высотки, затерянной на дальней московской окраине. Внизу нереальный пейзаж с картины Леонардо Да Винчи: вереница бесконечных, заросших камышами прудов, соединенных каналами, с перекинутыми через них ажурными мостиками, недалеко справа игла Останкинской телебашни. По ночам от нее исходит свечение, разливающееся в небесах наподобие северного сияния. Северное сияние в Москве, к которому все или привыкли, или просто не обращают внимания, поскольку своих дел достаточно много, или вообще не видят, а вижу один лишь я. В глубине комнаты на диване расположилась Марта. Решает кроссворды, сосредоточенно морщит лоб, зачеркивает крест-накрест какие-то клеточки. Если не читает книги, то решает кроссворды. Это для того, чтобы не сойти с ума или не броситься вниз с четырнадцатого этажа. Мы вдвоем в небольшой квартире, как заключенные, годами сидящие в одной тесной камере, нам давно уже не о чем говорить.
– Тебе звонили из театра, просили перезвонить, говорили, что срочно.
– Из какого театра?
– Из «Современной пьесы».
– Из «Школы»?
– Да, из «Школы».
– Я сегодня уже разговаривал с ними.
– И что им надо?
– То же, что и всегда – новые пьесы.
– Но ты ведь и так отдал им достаточно много.
– Им не может быть достаточно много, они все время хотят еще и еще, как и все остальные театры, надеющиеся, что нападут наконец на гениального драматурга.
– А это возможно?
– Что?
– Напасть на гениального драматурга?
– Они сами не знают, что им, в сущности, надо. Есть расхожий миф о гениальном драматурге, некоем современном Гоголе или Чехове, а может быть даже и Грибоедове, который придет и принесет им гениальную пьесу. Но это зловредный миф, который губит и театры, и драматургов, мрущих, как мухи, от невозможности ничего поставить в современных театрах. Гениальными пьесы становятся спустя лишь какое-то, иногда довольно большое время, когда их автор или умер от туберкулеза в далеком, безразличном к нему краю, или ему оторвали голову на чужбине, или он вообще устал жить и ушел из мира, отказавшись от еды и воды в присутствии опустивших руки друзей. Для создания гениальных пьес нужны гениальные условия, то есть условия, когда почти любую пьесу можно в принципе поставить в театре. А когда театры не верят в способности современных авторов, и ставят одну лишь классику, авторы мрут, как мухи, или начинают писать фантастические романы.
– Так, как это делаешь ты?
– Я давно уже не пишу фантастические романы, ты же знаешь, что я уже завязал с этим гиблым делом.
– Ты завязал не только с ним.
– Что ты имеешь в виду?
– Ты завязал и со мной.
– Опомнись, Марта, опять старая песня!
– Старая песня лучше новой пьесы. Ты просто не любишь меня.
– Ты же знаешь, что это не так.
– Нет, это так, и я устала жить в этой проклятой квартирке на четырнадцатом этаже в условиях, когда ты совсем не любишь меня. Я могу сойти с ума, и выпрыгнуть из окна!
– Это что, шантаж?
– Это не шантаж, это реальность.
– Ну что же, ты взрослая женщина, и вольна делать, что хочешь.
– Ты хочешь, чтобы я спрыгнула вниз?
– Нет, я этого не хочу!
– А чего ты хочешь?
– Я хочу, чтобы ты успокоилась.
– Я успокоюсь только в могиле.
– До твоей могилы еще далеко!
– До моей могилы всего четырнадцать этажей!
– Не говори глупости, не своди меня с ума, я устал от твоих угроз, мне надо писать новую пьесу!
– Когда ты пишешь, я схожу с ума еще больше!
– Ты хочешь, чтобы я перестал писать пьесы?
– Я хочу, чтобы ты выпрыгнул вместе со мной.
– Зачем?
– Я не могу прыгать одна.
– Я не буду прыгать вместе с тобой, можешь и не надеяться на это!
– А на что мне надеяться?
– На лучшее.
– Наше лучшее все позади.
– Наше лучшее все впереди.
– Впереди нас ждет Страшный Суд, и двенадцать кругов Дантова ада!
– При такой начитанности даже странно, что ты решаешь кроссворды!
– А что ты мне предлагаешь?
– Реши пару задач из геометрии Лобачевского.
– Ты издеваешься надо мной?
– А что мне еще остается, я ведь, маменька, драматург, и не просто драматург, а комедиограф, мне по должности положено над кем-нибудь издеваться!
– Дождешься, что я все же выпрыгну из окна!
– Очень обяжешь меня этим, сразу же начну писать трагедию о твоей ужасной кончине!
– Ну, в таком случае вот тебе и вот (интересные жесты в мою сторону), ни за что не выпрыгну, хоть ты сто лет дожидайся этого!
– Милая, как же ты разочаровала меня!
Три ведьмы (Оск.)
Подъезд грязный, весь исписан неприличными надписями, и точно такой же лифт, подростки постарались на славу. У входа в высотку три старые ведьмы, мимо них просто так не пройдешь – обольют помоями с ног до головы, и даже не поморщатся при этом. Будь моя воля, говорит одна из них, я бы после одиннадцати вечера в подъезд никого не пускала. А будь моя воля, поддерживает разговор другая, я бы всех подозрительных, и особенно при портфеле, обыскивала с милицией и с собаками, пойди узнай без милиции, что он носит в портфеле. А будь я президентом, дает волю фантазии третья, я бы вообще всех обыскивала утром и вечером, и яйца бы у каждого подозрительного обрезала специальными щипчиками. Ишь, как ты раскатала губы, Февронья, отвечает ей первая ведьма, где же в стране наберется столько железных щипчиков, мужиков ведь вон сколько много, на всех кобелей щипчиков не напасешься! Я бы напаслась, отвечает Февронья, я бы рельсы на железных дорогах снимала и переплавляла их в щипчики. Эх, подруга, резонно возражает вторая ведьма, как же тогда народ будет ездить, если ты все рельсы в щипчики переплавишь?! А куда им будет ездить без яиц-то, отвечает Февронья, без яиц они никуда ездить не будут, и к ним тоже никто ездить не будет, поскольку без яиц они никому не нужны! Ну и мудрая же ты голова, Февронья, отвечает кто-то из ведьм, прямо Дом Советов, будь моя воля, я бы тебя непременно сделала президентов! Будь моя воля, думаю я, я бы вас, проклятые ведьмы, жег на площадях во время больших и не очень больших праздников, пока не пережег всех до одной. А костры бы складывая из лавочек, на которых вы сидите. Нет, что ни говори, а без инквизиции иной раз обойтись никак невозможно!
Театральное бюро (Оск.)
– Скажите, вы сами написали эту пьесу?
– Разумеется сам! Кто же еще мог написать ее, кроме меня?
– Мало ли кто? Пьесы приходят к нам в театральное бюро разными путями. Может быть, вы украли ее у кого-то?
– У кого?
– У того, кто ее написал.
– Ее написал я.
– Такую странную пьесу?
– А что в ней странного?
– А вы не понимаете?
– Нет.
Пауза. Он худой и костлявый, борода, как у козла, когда встает, начинает хромать на левую ногу. Хромой бес, к тому же еврей. Впрочем, при чем тут еврей, это не имеет никакого значения.
– Неужели вы и правда не понимаете, о чем написали в своей пьесе? – продолжает допытываться Хромой Бес.
– Объясните мне, прошу вас.
– Скажите, вы еврей?
– По матери, да.
– Это значит, что вы действительно еврей.
– Вы тоже, и что из того?
– Как что, я не пишу подобные пьесы!
– Подобные в каком смысле?
– В том смысле, что в них высмеиваются евреи!
– Где вы это нашли?
– Да вот здесь, вот здесь (тычет пальцами в текст), и еще в двух или трех местах вы употребляете не вполне корректные выражения!
– Речь идет о древнем Израиле, моя пьеса о древнем Израиле, и евреи сами ругаются между собой, называя собеседников неподобающими словами. Тем более речь идет о подонках, об отбросах общества, и даже вообще не о людях, а о бесах, героях одной из библейских притч, которую я решил исследовать методом драматургии, и превратил ее в пьесу. Я не антисемит, не юдофоб, я сам еврей по крови и жизни, и написал пьесу о жизни своих соплеменников.
– Вас кто-то надоумил ее написать?
– Разве что мое вдохновение, да еще, возможно, вечные Музы.
– Музы? Вы всерьез верите в Муз?
– Не только верю, но и обращаюсь к ним с просьбой о помощи, особенно к Талии и Мельпомене.
– Вы что, сумасшедший?
– А вы?
– Я хозяин этого театрального бюро, и я абсолютно нормален.
– Рад за вас. Так вы возьмете себе мою пьесу?
– Не знаю, не уверен, мне надо посоветоваться с другими людьми.
– По поводу чего?
– По поводу содержания вашей драмы. Кстати, а почему она называется «Бисер»?
– «Не мечите бисера перед свиньями!» – Помните эту цитату из Иисуса Христа?
– Разумеется, помню, и что из того?
– Я просто литературно обработал одну из его притч, ту самую, где бесы, вышедшие из бесноватого, вошли в стадо свиней, и оно, бросившись с высокой кручи, утонуло в водах Генисаретского озера. А бесы, разумеется, не утонули, ибо они духи, и, выбравшись из воды, продолжали преспокойно жить среди древних евреев. Жить, сквернословить, устраивать разные пакости, и прочее, в том же духе. Вот откуда некорректные выражения! Так бесы ругают один другого, и никакого антисемитизма здесь, разумеется, нет и в помине!
– И все же мне надо посоветоваться с другими людьми и навести о вас кое-какие справки!
Хромой Бес теребит козлиную бороду и смотрит на меня явно глумливо.
– В таком случае, извините, я вам эту пьесу вообще не отдам, мне не надо, чтобы обо мне наводили какие-то справки! Вы не милиция, чтобы наводить обо мне какие-то справки!
– Я уже навел о вас кое-какие справки!
– И что же это за справки?
– У вас довольно подмоченная репутация!
– А у вас?
– Что у меня?
– А какая репутация у вас?
– В каком смысле?
– Насколько она подмочена, и чем именно?
– Вы что, издеваетесь надо мной?
– Помилуйте, вы сами над собой издеваетесь! Разрешите, я заберу назад свою пьесу!
– Я не могу вам ее отдать!
– Почему?
– Подождите немного, я посоветуюсь кое с кем, и все вам подробно сообщу!
– Нет уж, советуйтесь с кем хотите, но пьесу я вам ни за что не оставлю!
Недолгая борьба, козлобородый явно проигрывает и вынужден уступить. Прощай, Хромой Бес, ты явный персонаж моей странной пьесы!
Тверская (Оск.)
Разносчик пьес по театрам – есть, очевидно, такая должность. Такая работа, такая профессия. Если вы ни с кем из разносчиков не знакомы, то спешу порекомендовать одного из них – это я. Помнится, в 1897-м году я проходил здесь, разнося свои пьесы в театры тогдашней Москвы. Ну и времечко было, скажу вам, не чета нынешнему, все благопристойно, патриархально, благонадежно и застегнуто на все пуговицы до самого горла. Никакой сексуальной революции, разумеется, никаких распущенных нравов, и пьеса, если она действительно пьеса, а не, извините меня, дешевая поделка, воспринималась, как нечто божественное, ниспосланное свыше, дарованное Богом, или, по крайней мере, вечными Музами. Я, между прочим, тоже обращаюсь к Музам всякий раз, когда пишу новую пьесу, но вынужден тщательно скрывать это от окружающих, особенно от режиссеров, театральных критиков, и заведующих литературными частями театров. Прошло ведь сто лет, и на дворе конец двадцатого века, до Великой Черты, то есть до Миленниума, осталось всего три года, и пьесы нынче не те, теперь без секса, без откровенного траха и без какой-нибудь совершенно бесподобной гадости у тебя ее и в руки никто не возьмет. Помнится, в одной из своих комедий я подробно описал преступную медицинскую шайку, занимающуюся пересаживанием фаллосов африканских бегемотов и северных оленей потасканным и издержанным современным индивидуумам якобы мужского пола. И что бы вы думали? – пьеса имела оглушительный успех, и народ на нее валил, как будто это была распродажа туалетной бумаги середины 80-х годов. Вы не присутствовали при распродаже туалетной бумаги в середине 80-х годов? Ну да, разумеется, вы ведь совсем молодые девушки, не больше шестнадцати, я думаю, и не могли присутствовать при этом выдающемся событии. И в 1897-м году, когда я начал разносить по театрам свои пьесы, вы тоже наверняка не присутствовали. А здесь на Тверской что делаете? Промышляете иностранцев? На иностранцев уже никто из серьезных гетер не клюет? Теперь и своих богатых вокруг навалом? Вот как, а мама с папой что говорят относительно вашей профессии в столь юные годы? А пошли они куда подальше, у них своих проблем навалом, и на дочерей просто начхать? Тоже верно, если своих проблем, и надо их разгребать. А пьете чего так много? А мы не пьянеем, мы молодые, не то что ты, дядя, совсем захмелел, и несешь всякую чушь! Попробовали бы вы с мое поразносить эти чертовы пьесы начиная с 1897-го года, так посмотрел бы я на вас, как вы захмелели! Годы-то уже не те, и сил совсем не осталось, не то, что у вас, небось в день пропускаете штук по пять иностранцев? Да говорят же тебе, дядя, что на иностранцев мы уже почти не клюем, у нас свой клиент богатый пошел, а насчет пяти в день – это ты, дядя, смеешься, нам, чтобы заработать прилично, надо по тридцать за сутки через себя пропускать. Мы бляди рабочие, посидели, покурили, и побежали дальше, даже не успевши подмыться! Подмываться, девушки, это для девушки первейшее дело, извините уж меня за этот неожиданный каламбур! Да что ты, дядя, нам иногда такое накаламбурят, что хоть стоя, хоть раком, лишь бы деньги платили. А драматурги люди богатые, хочешь, мы и тебе дадим, прямо тут, на Тверской, не сходя с этого места? Я бы, девушки, не против, я и сам в былые годы имел вас, шлюх, на этой самой Тверской, как только хотел, и не только раком и боком. У меня вас, болезных, было в свое время, что грязи под ногами, здесь куда ни ткни, везде мои памятные места, и везде таблички о моих подвигах вывешивать можно. Но это все, хорошие, в прошлом, теперь мне приходится трахать театральных критиков, заведующих литературными частями и помощниц режиссеров, потому что моя жизнь теперь зависит от них. Я трахаю их, а они в ответ трахают меня, и это, дорогуши мои, такой потрясающий трах, до которого вам в жизни не дорасти! Сколько бы вы человек в день ни пропускали через себя, хоть по пять, хоть по тридцать, хоть по всей тысяче! Без траха, милые девушки, причем траха изощренного и извращенного, не может быть поставлена ни одна современная пьеса, какой бы гениальной и необыкновенной она ни была. Это вам, дорогие мои, не времена патриархального Чехова, это вечные времена Нерона, Сенеки и кровавого Рима. Помнится, мне пришлось по нужде отдаться одному театральному критику, древней старухе, видавшей живьем Шекспира и Гамлета, и ее закадычной подруге, старшей ее лет примерно на восемьдесят, которые изнасиловали мою пьесу таким мерзким образом, что от нее, голубушки, не осталось и следа былой девственности. И в таком неподобающем виде, всю растерзанную, обсосанную и занюханную, ее, несчастную, вывели на русскую сцену! Зрители, разумеется, визжали от восторга и рыдали навзрыд, а я рыдал в театральной гримерке в обнимку с какой-то отзывчивой и мягкой помощницей режиссера, и она утирала платком мои горькие и благородные слезы. Ведь когда, дорогие мои, драматург говорит, что кто-то его изнасиловал, он имеет в виду, что изнасиловали его любимую пьесу. Это, милые девушки, все равно, что изнасиловали вашу жену или дочь! Подумаешь, отвечают они, дочерей наших родителей тоже в свое время первый раз изнасиловали, и ничего, живы пока, и сами насилуем любого, кого захотим! А у нас, дядя, с тобой, как видно, много общего, ты такая же блядь, как и мы, только театральная, но все равно мы по духу родня, и нам нужно держаться друг к дружке поближе. Хочешь, мы тебе в знак родственных и дружеских отношений минет за бесплатно сделаем? Да, прямо здесь, на Тверской, в этом открытом кафе, здесь это в порядке вещей, и никто даже внимание не обратит. Большое спасибо, но что-то не хочется на этой жаре. Ну как знаешь, если передумаешь, можешь вернуться после спектакля, мы будем здесь пастись всю ночь до утра. У нас ведь конвейер, как на фабрике по изготовлению макарон и сосисок, мы, дядя, обыкновенные фабричные девушки из твоего незабвенного 1897-го года, и лишь случайно попали в Москву конца двадцатого века! Да бросьте вы, девушки, какой 1897-й, это я вам все наврал, выпил лишнего, вот и наврал, а так ведь я старше вас всего лишь на какие-нибудь двадцать лет, и даже в отцы вам не гожусь, разве что в братья, или в сутенеры, если потребуется. Нам, дядя, и своих сутенеров девать некуда, а за предложение сотрудничать большое спасибо! Вот тебе еще сто грамм коньяка, и сто рублей на такси, если сам до театра не сможешь дойти. А теперь извини, время не ждет, пора работать, клиент попер, как щука на нерест, и сигналит из всех переулков и мерседесов, заходи, если приспичит, отсосем по всем правилам, будешь доволен! Спасибо, милые, после премьеры, если останусь жив, обязательно подойду!
Отлучение (Изыск.)
Приход Обломоффа в революцию, как крупного, вполне уже сложившегося писателя, был неизбежен. Собственно говоря, революционный порыв начала перестройки был неким веянием, захватившим самые разные слои общества, и прежде всего интеллигенцию. Что уж говорить об Айзеке Обломоффе, имевшем за плечами такой нашумевший роман, как «Кровь на снегу», и таких друзей, как Иосиф Айзенштадт?! Обломофф бросился в революцию со всей искренностью, на которую только был способен, со всем жаром своей исстрадавшейся в хождениях по мукам души. Все помнят цикл его знаменитых статей в перестроенных газетах, в которых он называл перестройку началом резолюции в России, и пытался, насколько возможно, обосновать неизбежность такой революции. Все, разумеется, помнят и самую знаменитую статью Обломоффа: «Конец президента», которой были обклеены подземные переходы в обеих столицах, и на продаже которой ее распространители сделали себе небольшие состояния. Айзек потом, когда все уже кончилось, беседовал, не называя себя, с этими распространителями, совсем еще молодыми ребятами, и они в один голос говорили ему о том ажиотаже, который царил на улицах Москвы и Ленинграда после выхода этой статьи.
– Если бы, – говорил ему один из распространителей, – Обломофф въехал на белом коне на улицы Москвы, он бы был встречен, как очередной Мессия, которому отдана в руки судьба России. Народ, безусловно, пошел бы за ним, как за новым вождем, и он мог совершить новую Октябрьскую революцию, не пролив при этом ни единой капли крови. А если кровь все же пришлось бы пролить, народ с радостью отдал бы ее до последней капли за те светлые идеалы, которые Айзек нарисовал в своей знаменитой статье. Ах, Айзек, Айзек, как же ты опрометчиво поступил, как же ты не воспользовался шансом, который предоставила тебе история!