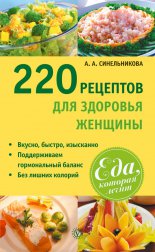Колесо Фортуны. Репрезентация человека и мира в английской культуре начала Нового века Нестеров Антон
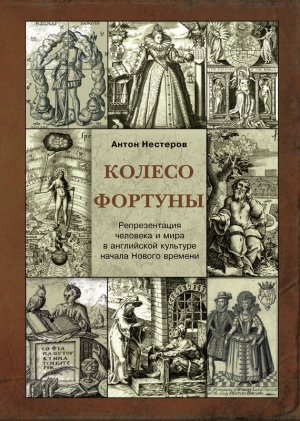
От автора
Сталкиваясь с произведениями, принадлежащими иным эпохам, мы поневоле видим их иначе, чем современники. Мы вооружены иным культурным опытом и смотрим сквозь иную оптику, так или иначе деформирующую детали.
Мы склонны забывать, что любой объект, вошедший в обиход культуры, со временем обрастает патиной интерпретаций, и необходимо усилие, чтобы увидеть его изначальный облик.
Восприятие культуры времен королевы Елизаветы I и короля Иакова IV требует внимания к самому духу времени, к идеям, что в ту пору «носились в воздухе» и составляли фон драм Шекспира и стихов Джона Донна, полотен Николаса Хилльярда и Джона Гувера. Чтобы понять искусство той эпохи, необходимо погрузиться в ее теологические искания, политические диспуты, алхимические эксперименты и астрологические практики. Только в таком широком контексте можно «увидеть» эпоху.
Структура предлагаемой книги отчасти подчинена этой задаче. В первых ее главах рассматриваются представления эпохи о роли случайности и Предопределения в жизни человека, о структуре мироздания, взаимоотношениях с судьбой; исследуются символические языки и коды, используемые для их описания.
Вслед за этим делается попытка взглянуть, как эти коды преломляются в живописи той эпохи, как портрет и гравюра оказываются связаны с борьбой идей, с политикой того времени. Это приводит к разговору о своеобразии социальных институтов эпохи – и две главы посвящены институту брака в елизаветинской и якобитской Англии и особенностях свадебных и супружеских портретов той поры.
По ходу написания книги выделилось несколько ключевых фигур, вокруг которых «сфокусировался» ряд актуальных для книги контекстов: сэр Генри Ли, Джон Донн, Уолтер Рэли – и в посвященных им главах автор счел возможным «персонифицировать» некоторые общие культурные проблематики.
Глава о художественном оформлении географических карт конца XVI–XVII вв. вновь возвращает читателя к общим представлениям того времени о мире, а две замыкающие главки-биографии проецируют всю затронутую в книге проблематику на конкретные судьбы, давая почувствовать общее в частном.
Спасибо тем, кто так или иначе, помог, чтобы эта книга состоялась, спасибо им за разговоры вокруг этих сюжетов, за проговорки каких-то мыслей, за очень разную помощь, за участие: Ирине Игоревне Ковалевой, Камале Мелик-Шахназаровой, Юрию Стефанову, William Tompson, Ларисе Ивановне Тананаевой, Виктору Максимову, Антону Долгополову и Славе Лутиковой, Вадиму Михайлову, Федору Романскому, Вите Мухановой, Ольге Левинской, Тамаре Казавчинской и Львёшке. Спасибо и многим другим – тем, кто на разных поворотах был рядом и помогал.
Колесо Фортуны[1]
All is but Fortune…
Shakespear. The Tempest.[2]
Образованный дворянин XVI–XVII вв. жил в мире контрастов, где часто приходилось совершать стремительный переход от роскоши двора к грязи военного бивака, от комфортной жизни в поместье – к тяготам дороги с ее опасностями и неустроенностью, или к странствию по бушующему морю, чреватому столкновением с пиратами.
Это ощущение противоречивости, разорванности опыта, характерное для эпохи, выразил в одном из сонетов, написанных в царствование Генриха VIII, Томас Уайет:
- Кидаюсь в бой, но кончена война.
- Горю на льду; страшусь, но уповаю.
- Простертый ниц, за птицами взмываю,
- Гол как сокол, а все ж полна мошна.
- Моя тюрьма без стен возведена.
- Хочу бежать – дорогу забываю.
- То жизнь, то смерть на помощь призываю,
- Но и погибель мне не суждена.
- Гляжу, но слеп; стенаю, но ни звука.
- Ища конца, здоровье берегу.
- Любя других, себя лишь клясть могу.
- Смеюсь в беде, хоть непосильна мука.
- Что жизнь, что смерть – мне нынче все равно.
- Мое несчастье счастьем рождено.[3]
Благоприятное или неблагоприятное стечение обстоятельств имело для человека раннего Нового времени особое значение: карьера, личное благо зависели от прихоти – патрона, монарха, подверженных капризной смене настроений. Переменчивость и неустойчивость любой жизненной ситуации ощущалась острее, чем ныне. Это накладывало свой отпечаток на манеру поведения людей той поры. Известен анекдот, что когда испанский посол выразил протест в связи с тем, что экспедиция Фрэнсиса Дрейка 1572–1573 гг. к берегам испанской Панамы[4] разграбила там несколько городов и захватила «Серебряный караван» (около 30 тонн серебра). Посол потребовал примерного наказания виновных, Дрейк был вызван к королеве. Аудиенция началась с того, что Елизавета объявила: «Испанский король требует Вашей головы – я должна ее отрубить!» – а закончилась пожалованием Дрейку звания баронета и чина адмирала…
Обостренный интерес к случаю, удаче отчасти был вызван социальными переменами, характерными для Нового времени. Средневековое общество, с его строгими структурами и иерархиями, фактически, закрепляло социальный статус человека: с момента рождения возможны были передвижения внутри своей страты – сын мелкого ремесленника мог стать старшиной цеха, но переходы из страты в страту происходили весьма редко. Новое время в корне изменило этот порядок вещей: так, Томас Мор – сын лондонского адвоката, пусть даже весьма успешного, но – живущего с судебных гонораров, возводится в рыцарское достоинство, становится спикером Палаты общин, а затем – лорд-канцлером и доверенным лицом Генриха VIII; дед всесильного Уильяма Сесила, барона Бёрли, занимавшего в царствование Елизаветы I должности госсекретаря и лорда-казначея, начинал при дворе Генриха VIII простым гвардейцем, а до того, как утверждали злые языки, содержал гостиницу в Стэмфорде…
Возрастающая динамика перемен на заре Нового времени ощущалась болезненно и остро – и даже такие авторы, как Макиавелли – говорили о ней не без горечи: «Люди с их разумением ничего не определяют и даже ничему не могут противостоять; отсюда делается вывод, что незачем утруждать себя заботами, а лучше примириться со своим жребием. Особенно многие уверовали в это за последние годы, когда на наших глазах происходят перемены столь внезапные, что всякое человеческое предвидение оказывается перед ними бессильно».[5]
Культура нуждалась в некой парадигме для объяснения и артикуляции всех этих явлений – и прибегла к оживлению восходящих еще к античности представлений о богине Фортуне, своенравно управляющей людскими судьбами.
На формирование ее образа повлияли и Цицерон, писавший о Фортуне в трактате «Об обязанностях»,[6] и Плиний, посвятивший ей несколько пассажей в «Естественной истории»,[7] и Публилий Сир, умевший давать чеканные формулировки, вроде «Фортуна многое дает в пользование, ничего – в собственность», или «Когда Фортуна нас ласкает, она хочет нас соблазнить»[8] – но главную роль сыграло «Утешение философией» Боэция. На протяжении всех Средних веков и раннего Нового времени без знания Боэция – обсуждаемого, комментируемого, вновь и вновь переводимого на европейские языки, образованность была немыслима. Достаточно сказать, что еще Альфред Великий перевел (вернее, переложил) «Утешение…» на староанглийский, а позже переложениями/переводами Боэция занимались и Чосер, и Томас Мор, и королева Елизавета I.
До Боэция античные авторы описывали Фортуну как некую безличную силу, действующую в мироздании, чуть позже Отцы Церкви, борясь с языческими суевериями, доказывали, что сила эта не обладает самостоятельной сущностью: Лактанций писал, что «Фортуна сама по себе ничего не представляет, и не следует считать, будто она обладает неким чувством, поскольку Фортуна – это неожиданный и внезапный исход случайных событий»,[9] а Августин подчеркивал, что «Бог, Виновник и Податель счастья, – поскольку один есть истинный Бог, – сам раздает земные царства и добрым, и злым. И делает Он это не без разбора и как бы случайно (ибо Он – Бог, а не Фортуна), но сообразно с порядком вещей и времен, – порядком для нас сокровенным, а Ему вполне известным. Этому порядку Он не подчинен, однако же, рабски, а царствует над ним, как Владыка, и располагает им, как Правитель».[10] Боэций предложил иное решение, за счет которого удалось примирить христианство и расхожие античные представления о богине удачи: в «Утешении философией» он описал ее не как первопричину явлений, а как исполнительницу Божией воли. Согласно Боэцию, Фортуне отдана власть в подлунном царстве, но при этом она – всего лишь одно из орудий Творца: «Бог в своем провидении располагает единственным и непреложным образом того, что должно свершиться. Судьба же предписываемое провидением направляет относительно времени и места. И не важно, ткет ли она свою нить с помощью духов, близких к божественному провидению, или с помощью [мировой] души, или послушной ей природы посредством движения небесных светил, или силой ангелов, или хитростью различных демонов, с помощью чего-то одного из этого или же посредством всего этого вместе взятого, очевидно, что провидение есть простой и неизменный образ всего того, что предопределено к воплощению, судьба же представляет собой беспрестанно меняющееся сплетение и временной порядок того, что Бог в своей простоте располагает к возникновению».[11]
Боэций наделил Фортуну запоминающимся образом, предопределившим и средневековую, и ренессансную иконографию этой своенравной сущности. В римских культах атрибутами Фортуны были плоды, рог изобилия (изначально она выступала как покровительница земледельцев, оберегающая от таких случайностей, как град или засуха, и одним из ее имен было Fortuna Stabilis), позже – весло или руль, указывающие на ее роль Fortuna Gubernans – Кормчей судьбы, ее управительницы. Под пером Боэция Фортуна предстала как женщина, вращающая колесо судьбы – этот образ позволял выразить участие богини в жизни каждого человека, его зависимость от капризов и перепадов настроения этой дамы. В «Утешении философией» Фортуна говорит о себе: «Мы движем колесо в стремительном вращении и радуемся, когда павшее до предела возносится, а вознесенное наверх – повергается в прах. Поднимись, если угодно, но при таком условии, что ты не сочтешь несправедливым падение, когда того потребует порядок моей игры…».[12]
Трактат Боэция был весьма востребован и в Средние века, и в начале Нового времени: он ходил во множестве рукописных копий, и сложилась своеобразная традиция иллюстрирования текста. Художников особенно привлекал сюжет обращения Фортуны к Боэцию – и вокруг него сложилась особая композиция миниатюры: в левой части изображался автор, утешаемый и наставляемый девой Философией, а в правой – Фортуна с ее колесом, как на рисунке из рукописи (MS 42) «Утешения философией», датируемой 1460–1470 гг., которая хранится в музее Гетти (ил. 1).
При этом, чтобы подчеркнуть двойственный, благой и недобрый характер Фортуны, ее порой изображали двуликой – такой она предстает на миниатюре в манускрипте XV в. (MS Franais 809) из Французской национальной библиотеки (ил. 2).
После Боэция образ Фортуны был довольно быстро абсорбирован христианской картиной мира,[13] породив множество изображений, – на миниатюрах и гравюрах, напольных мозаиках,[14] стенных росписях и порталах соборов (ил. 3).
Насколько представления о Фортуне, вращающей колесо Жизни, были допущены в христианское богословие, показывает тот факт, что миниатюра с изображением этой капризной богини идет второй по счету в так назывемой «Холкамской библии» XIV в., – весьма своеобразном своде, разворачивающим библейское повествование от Сотворения мира до Пятидесятницы в картинках с комментирующими их текстами из Писания, или рифмованными пояснениями (ил. 4).
Наверно, ярче всего выразил представления Средневековья о Фортуне Данте с его тончайшей богословской интуицией:
- Тот, чья премудрость правит изначала,
- Воздвигнув тверди, создал им вождей,
- Чтоб каждой части часть своя сияла,
- Распространяя ровный свет лучей;
- Мирской же блеск он предал в полновластье
- Правительнице судеб, чтобы ей
- Перемещать, в свой час, пустое счастье
- Из года в год и из краев в края,
- В том смертной воле возбранив участье.
- Народу над народом власть дая,
- Она свершает промысел свой строгий,
- И он невидим, как в траве змея.[15]
В средневековой иконографии Фортуна традиционно изображалась с колесом, по четырем сторонам от которого располагались человеческие фигуры; рядом с ними часто помещались надписи: regnabo (буду царствовать), regno (царствую) regnavi (царствовал) и sum sine regno (без царства) – как, например, на миниатюре из баварского Codex Buranus XIII в., – того самого, чьи тексты послужили Карлу Орфу основой для кантаты «Carmina Burana».
Позднее Возрождение, с его особым вкусом к созданию концептов и сопряжению идей, увидело соответствие между четырьмя спицами или четырьмя человеческими фигурками на ободе Колеса Фортуны и четверицею Первоэлементов – землей, водой, воздухом и огнем. Аналогия эта подразумевала: Фортуне дарована власть лишь в дольнем мире, образованном четырьмя Аристотелевыми стихиями. В Национальной библиотеке Франции хранится альбом набросков для ковров и шпалер, где на одном из рисунков представлена Фортуна с дарами.
Стоит она на мельничном жернове, положенном на обрывистом морском берегу – последнее подчеркивает ее связь с римской Fortuna Guberans, направляющей плавание по житейскому морю. Жернов этот (для наглядности, чтобы не возникло ошибок в отождествлении этой детали, на заднем плане, в правом верхнем углу видно ветряную мельницу, стоящую на холме) напоминает о том, что Фортуна «перемалывает» судьбы (в средневековье пользовалась популярностью латинская сентенции: «О, боже, сколь внезапно Фортуна, вращаясь, все перемалывает стремительным колесом»[16]). Напомним, что «мельничная» ипостась Фортуны обыграна сервантесом в «Дон Кихоте» в знаменитой битве странствующего идальго с ветряной мельницей – собственно, весь его поход есть не что иное, как обреченное на поражение противоборство с судьбой.[17] На интересующем нас наброске к шпалере глаза Фортуны закрыты повязкой, наряд состоит из двух половин: левая – это длинное ниспадающее платье с широкими рукавами, а правая – шутовское трико, характерным образом разделенное посередине, на поясе. Если бы мы видели это трико целиком, оно бы состояло из четырех частей – по числу первоэлементов, подчеркивая принадлежность шута дольнему, материальному миру. Этот акцент в замысле художника проступит яснее, если мы сравним данный набросок для шпалеры с гравюрой из алхимического трактата леонарда Тёрнейссера «Quinta essentia» (1574) – на ней связь четырех темпераментов с четырьмя стихиями (землей, водой, воздухом и огнем) и соответствующими им знаками зодиака иллюстрируется похожей составной – наполовину женской, наполовину мужской – фигурой, вписанной в круг зодиакальных созвездий и стихий.
Колесо Фортуны. Codex Buranus. MS Clm 4660. f1r. XIII в. Баварская государственная библиотека
Фортуна. Эскиз для шпалеры. Франция. XVI в. (MS Franais 244616 f55r). Национальная библиотека Франции, Париж
В начале XVII в. фламандский художник луи Финсон, развивая этот ход мысли, написал «Аллегорию первоэлементов», пребывающих в вечном борении и перетекании друг в друга: «смерть воды – земли рождение, смерть воды – воздуха рождение, смерть воздуха – огня рождение, и наоборот».[18] Художник изобразил четыре тела – два женских: девушка и старуха, и два мужских: юноша и старец – они сплелись в кольцо, и кольцо это вращает некая внешняя сила, своего рода космический вихрь бытия – по сути, перед зрителем Колесо Фортуны, но – антропоподобное и напрямую соотнесенное с четырьмя стихиями (ил. 5).
Четыре темперамента и четыре стихии. Л. Тёрнейссер. «Quinta essentia». Лейпциг. 1574. S. CLXII
Постепенно образ Колеса Фортуны начинал все больше и больше восприниматься как универсальная метафора круговорота всего сущего, за счет этого обрастая дополнительными ассоциациями. В XV в. появляются изображения Колеса Жизни, вращение которого иллюстрирует становление человека, от рождения до могилы.
Именно с этим рядом представлений связан монолог Жака из комедии Шекспира «Как вам это понравится» (Акт II, сцена 7):
- В нем женщины, мужчины – все актеры.
- У них свои есть выходы, уходы,
- И каждый не одну играет роль.
- Семь действий в пьесе той. Сперва младенец,
- Ревущий горько на руках у мамки…
- Потом плаксивый школьник с книжной сумкой,
- С лицом румяным, нехотя, улиткой
- Ползущий в школу. А затем любовник,
- Вздыхающий, как печь, с балладой грустной
- В честь брови милой. А затем солдат,
- Чья речь всегда проклятьями полна,
- Обросший бородой, как леопард,
- Ревнивый к чести, забияка в ссоре,
- Готовый славу бренную искать
- Хоть в пушечном жерле. Затем судья
- С брюшком округлым, где каплун запрятан,
- Со строгим взором, стриженой бородкой,
- Шаблонных правил и сентенций кладезь, —
- Так он играет роль. Шестой же возраст —
- Уж это будет тощий Панталоне,
- В очках, в туфлях, у пояса – кошель,
- В штанах, что с юности берег, широких
- Для ног иссохших; мужественный голос
- Сменяется опять дискантом детским:
- Пищит, как флейта… А последний акт,
- Конец всей этой странной, сложной пьесы —
- Второе детство, полузабытье:
- Без глаз, без чувств, без вкуса, без всего.
Весь мир – театр
Колесо Жизни, именуемое Фортуной. Гравюра на дереве. 1460. Британская библиотека, Лондон
Семь возрастов человека, упоминаемых здесь, соотносятся с семью планетами (так: солдат – Марс, любовник – Венера, судья – Юпитер, старик – Сатурн). Медик и астролог Генри Кафф, озвучивая типичные представления той эпохи о взаимоотношении планет и периодов человеческой жизни, писал, что «наше пребывание в этом мире делится на семь сроков, и астрологами каждому из них приписана своя планета-управитель; наше детство отдано мягкому и влажному наставничеству Луны: она окутывает нас нежным влиянием, столь благоприятным для всего, что еще только должно созреть; в подростковый период над нами властвует Меркурий, склоняя нас к занятиям спортом, беседам и учению; Венера ведет нас в годы, когда пышным цветом распускается в нас сладострастие; благодаря животворному воздействию Солнца переходим мы от желания простых наслаждений к возвышенным и взвешенным суждениям о мире. Марсу, суровому богу войны, положены свои пределы, вступая в которые, мы научаемся новому: придав нам храбрости и оттачивая наш дух, прежде вялый и слабый, он заставляет нас исполниться дерзости свершений и искать поле битвы; в зрелом возрасте благодаря воздействию Юпитера мы обретаем устойчивость и постоянство, а они – залог важности и солидности; в дряхлом и согбенном возрасте, протекающем под неблагоприятным влиянием Сатурна, планеты, качество которой – сухость, мы вынуждены испить чащу горькой немощи, вызванной неистовством обрушившихся на нас болезней и старческим слабоумием».[19]
Сама же шекспировская формула «Весь мир – театр» была лишь артикуляцией общих мест эпохи, остро ощущавшей хрупкость и ненадежность любой ситуации. Но само это ощущение порождало и иное: человек начала Нового времени чувствовал необходимость «хорошо играть» на подмостках судьбы:
- Что наша жизнь? – Комедия о страсти.
- Бравурна увертюра в первой части.
- Утроба материнская – гримерка
- Комедиантов слишком расторопных.
- Подмостки – мир, и зритель в сей юдоли —
- Господь, – шельмует за незнанье роли.
- Как занавес после спектакля – тьма
- Могилы ждет, бесстрастно-холодна.
- И вот, фиглярствуя, идем мы до конца.
- Но в миг последний – маску прочь с лица.
И яркость образов Шекспира и Кристофера Марло не в последнюю очередь связана с тем, что жизнь эпохи была насквозь пропитана театральностью.
Именно поэтому королева Елизавета в начале ее царствования, когда Парламент требовал от нее замужества – ибо только рождение наследника гарантировало стабильность Короны, могла демонстративно поднять свою руку с коронационным кольцом и сказать: «Вы требуете замужества – я замужем: за моим королевством». Именно поэтому сэр Уолтер Рэли во время казни на замечание палача о том, что он неправильно положил голову на плаху, ответил – громко, чтобы слышно было присутствующим: «Не важно, куда обращена голова, главное, чтобы душа была обращена правильно». И строки того же Уолтера Рэли в «Истории мира», посвященные судьбе, будут звучать несколько иначе, если учесть, что написаны они в заключении в Тауэре, где он содержался более 10 лет – каждый день ожидая возможной казни: его смертный приговор не был отменен, но лишь отложен исполнением на неопределенный срок. Рэли пишет: «Помыслим же о Боге, ибо Он есть автор всех трагедий, что написаны для нас, и Он раздает нам роли, которые назначено нам играть; распределяя их, Он беспристрастен и не ведает снисхождения даже к могущественнейшим из владык этого мира; так, Дарию была дана роль Императора, восседающего на троне величайшего из царств – и самого жалкого из попрошаек, того, кто вынужден молить врага своего о глотке воды, дабы утолить жажду перед смертью; Баязиду на заре дня дана была власть над всей империей Турок, а на закате того же дня он, поверженный, служил скамеечкой, на которой покоились ступни Тамерлана[20]<…>. Почему же прочие, которые лишь черви по сравнению с этими великими, должны жаловаться? Как еще относиться к нелепостям этого мира, если не считать, что всякая перемена судьбы на сцене сего великого театра есть не что иное, как смена костюмов. Ибо представляясь то одним, то другим, каждый человек имеет всего лишь одно одеяние, поистине принадлежащее ему, – собственную кожу, и в этом все актеры равны… Помыслим же о Смерти, которая является в конце пьесы, отнимая все, что обрел человек – за счет благорасположения Фортуны, или Силой: безумием было бы, когда рушится все земное, обладание которым сопряжено лишь со скорбью, пытаться спасти данное нам…»[21]
О таких переменах судьбы и сменах ролей писал в своей автобиографии капитан Джон Смит – один из весьма ярких персонажей той эпохи. Сын мелкого арендатора из Уиллоуби, что в Линкольншире, Джон Смит в 16 лет, осиротев, некоторое время служил помощником местного купца, покуда не выдался случай сопровождать в Париж, в качестве слуги, Перегрина Берти, одного из сыновей лорда Уиллоуби. Во Франции он вскоре получил расчет – и решил завербоваться в отряд, отправляющийся в Нидерланды сражаться с испанцами. Провоевав там четыре года, Смит едет в Средиземноморье, где торгует, корсарствует, принимает участие в операциях венецианцев против турок. Затем оказывается в Венгрии, где воюет против Оттоманской империи, от Сигизмунда Батория получает дворянство и чин капитана, сражается в Валахии против турок, покуда в 1602 г. не попадает в плен – и его продают на невольничьем рынке. Смит попадает к некой образованной гречанке, с которой у него вспыхивает роман. Потом гречанка отправляет Смита к своему брату в Азов, откуда тот бежит и через Запорожскую Сечь и Речь Посполитую добирается до Батория, получает обратно дворянский титул и военные награды, чтобы наконец, после этого, в 1604 г. вернуться в Англию – и два года спустя отправиться с экспедицией Вирджинской компании колонизировать Америку[22]… Оказавшись в Новом Свете, Джон Смит входит в совет колонии Джорджтаун, активно занимается исследованием и картографированием новых земель, устанавливает отношения с индейцами, придумывает название Новая Англия для этих мест…
Для людей вроде капитана Смита Фортуна была не пустым звуком – они ежедневно вверяли свою жизнь воле случая и лелеяли надежду на улыбку капризной богини: весьма часто, кроме этого, надеяться им было не на что.
Так постепенно Фортуна из воплощения безличной силы, определяющей ход событий, превращается в олицетворение частного случая, выпадающего тому или иному человеку.
Алъбрехт Дюрер. Фортуна. 1502. Британский музей, Лондон
Как писал в эссе «О Фортуне» Фрэнсис Бэкон, «нельзя отрицать: внешние обстоятельства нашей жизни зависят от капризов Фортуны: благосклонность сильных мира сего, открывшаяся возможность, добродетель, проявление коей уместно в данной ситуации. Но в целом наша Фортуна – в руках каждого из нас. Как говорил поэт, Faber quisque fortun su [Каждый сам творец своего счастья]. И чаще всего внешние причины, определяющие нашу жизнь, таковы, что неудача одного оборачивается выгодой другого… Потому, если человек внимательно и пристально присмотрится к обстоятельствам, он различит Фортуну: пусть она слепа, но отнюдь не незрима. Пути Фортуны подобны Млечному пути на небосводе, который есть скопление мелких звезд; неприметные по отдельности, вместе они сияют ярким светом…»[23] Именно эти «небесные пути» Фортуны представлены на гравюре А. Дюрера 1502 г.
В XVI–XVII вв. все большее распространение получают изображения Фортуны, где она стоит лицом к зрителю, балансируя на шаре, а прикрывающая ее наготу драпировка надувается ветром как парус, и увлекает богиню прочь от того, кто надеется на ее благосклонность. Истоки этого образа уходят в эпоху античности, и скорее всего моделью здесь послужило описание статуи Kairos, Случая, работы Лисиппа.[24] Это Фортуна не средневековых теологов, но ученых мужей Возрождения, пересыпающих свои рассуждения цитатами из Катона и Плиния и видящих в ней подательницу личной удачи – конкретное проявление случая в судьбе того или иного человека. Целая глава отдана Фортуне в «Государе» Макиавелли, ей посвящен трактат в трех книгах Джованни Понтано, она изображена на фронтисписе «Истории правления Генриха VII»…
В шекспировском «Генрихе V» встречается описание Фортуны, вложенное в уста Фюэллена, решившего покрасоваться своей «эрудицией» перед прапорщиком Пистолем: «Фортуну изображают слепой, с повязкой на глазах, чтобы показать, что она слепая; затем ее изображают на колесе, чтобы показать вам – и в этом заключается мораль, – какой у нее нрав: она неустойчива, непостоянна, ненадежна и вечно меняется; она стоит – как бы это сказать – ногами на круглом камне, и камень тот катится себе и катится» (Генрих V. Акт 3, сцена 3. Пер. Е. Бирюковой).
George Wither. A collection of Emblemes, Ancient and Moderne. P. 174. London, 1635.
В некоторых случаях образ этот усложнялся, как на аллегорической работе Джованни Беллини «Фортуна, или Меланхолия» из цикла «Четыре аллегории», изготовленной в качестве одной из декоративных панелей для туалетного столика. Беллини изобразил женщину в белых одеждах, задумчиво сидящую на корме легкой неустойчивой лодке и удерживающей на колене шар. Образ этот мерцает и переливается смыслами: с одной стороны, место на корме ассоциируется с рулевым, направляющим движение челнока – а это, как мы помним, одна из ипостасей богини удачи: Fortuna Gubernans; на Фортуну как бы указывает и шар – тот обычно служит ей опорой. Но сама поза женщины типична для иконологии Меланхолии – и именно (ил. 6) на это двойственное восприятие и рассчитывал художник. Три другие работы из этого цикла построены на таком же эффекте удвоения значений – это «Похоть, или настойчивость», «Ложь, или мудрость» и «Чистота, или суетность».
Паоло Веронезе. Фортуна. 1560–1561. Вилла Барбаро, Мазер. Италия
Иногда Фортуну изображали не стоящей на шаре, а сидящей на нем – весьма часто такие сюжеты встречаются в итальянской живописи. На фреске Веронезе в Зале Собаки на Вилле Барбаро Фортуна сидит на большом глобусе, мы видим её строгий профиль. Она удерживает рог изобилия, тогда как женская фигура, олицетворяющая Гордыню, пытается его отнять. Еще одна фигура на переднем плане, прижимающая к груди нож, олицетворяет Лживость. Композиция подчеркивает, что дарами Фортуны нельзя овладеть силой.
Нагота Фортуны на изображениях воспринималась, прежде всего, как указание на ее переменчивый, «блудливый» характер – часто Фортуну впрямую называли шлюхой, как Шекспир делает это устами Констанции в «Короле Иоанне»:
- Фортуна!
- Ты брошен ею, девкой совращенной,
- Она блудит с твоим преступным дядей.
- Маня француза ручкой золотой,
- Она его заставила попрать,
- Мой сын, твои священные права,
- И сводней сделалось его величье:
- Он свел Фортуну с королем Иоанном,
- Захватчика бессовестного с девкой…
На картине «Аллегория Фортуны» Бернардино Мея из Сиены, написанной как часть большой серии работ по заказу кардинала Флавия Чиги для дворца последнего, мы видим весьма сложную многофигурную композицию, представляющую выбор между Фортуной и Добродетелью. Полуобнаженная Фортуна стоит на Колесе, в нарочито соблазнительной позе, слева о нее застыл философ в черном плаще – киник Кратет, которому приписываются слова «Родина моя – Бесчестие и Бедность, неподвластные никакой Удаче». В правой части полотна мудрец, восседающий на твердом основании из каменных плит, олицетворяет Добродетель, устремленная к нему женщина в синем плаще – Вера, несущая в руках четыре тома Евангелий, за спиной же ее стоит апостол Петр. Фортуна здесь – явная блудница, отвлекающая человека от поиска его истинного предназначения – пути к Небу.
Бернардино Мей. Аллегория Фортуны. 1660-е. Национальная галерея античного искусства. Рим
Эта «испорченная» природа Фортуны обыгрывалась в ряде изображений, где богиня представлена стоящей на раке, который, как известно, пятится назад, причем раком этим правит бес. Тем самым здесь Фортуна выступает не посредницей Божией воли, а воплощением соблазна и разрушительных импульсов, вносимых в мир дьяволом. Весьма характерна эмблема из собрания Андреаса Фридриха, где гравюре с Фортуной на раке придан девиз «Велико заблуждение тех, кто слаб», а пояснительное четверостишие гласит: «Всякий, кто гонится за стоящей на раке Фортуной,/ Никогда ее не обретет:/ Воздаяние ему будет схоже с тем, что ждет тех, кто верит в злое начало,/ Или надеется на помощь со стороны злых сил».[25]
В книге Френсиса Кворлеса «Эмблемы, божественные и моральные, с иероглифическим изъяснением человеческой жизни» на одной из гравюр изображена игра в шары: джентльмен готовится к броску, дьявол показывает ему, куда лучше метать шар, а в конце игрового поля стоит Фортуна и держит награду: шутовской колпак. Девиз эмблемы гласит: «Utriusque crepundia merces» (Случай обрести трещотку), а изъяснительным текстом к ней служит фраза из Евангелия от Иоанна – «Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего» (Ин. 8, 44), – за которым следует пояснительное стихотворение, где, среди прочего, говорится:
- «…Fortune stands/ То wave the game; See, in her partial hands/ The glorius Garland's held in open show/ To cheare the Ladds, and crowne the Conq'rers brow./ The world's the Jack; The Gamsters that contend,/ Are Cupid, Mammon: That juditious Friend,/ That gives the ground, is Satan, and the boules/ Are sinfull Thoughts: The Prize, a Crowne for Fools»[26]
- […Фортуна стоит,/ Направляя игру; Видишь, в руках ее/ Славная награда, – выставленная на всеобщее обозрение,/ Чтобы подбодрить игроков, ей будет увенчан победитель./ Мир – это шар, по которому целят соревнующиеся игроки:/ Купидон и Маммона; следящий за игрой друг,/ представивший место для состязания – Сатана, а шары – / Это грешные мысли; Награда же – шутовской колпак].
Andreas Friedrich. Emblemes Nouueaux… mis en lumiere par Jacques de Zettre. Frankfurt, 1617
Quarles Francis. Emblems, divine and moral, together with Hieroglyphicks of the life of man. P. 40 London., 1635.
Это отрицательно-уничижительное отношение к Фортуне не в последнюю очередь возникло как реакция на доктрины протестантизма, придававшего особое значение Предопределению. Приписывая провиденциальную цель даже незначительным событиям нашей жизни, такие мыслители, как Кальвин, не оставляли Фортуне места в мироздании. Однако эта картина мира, как бы тщательно она не была выстроена, давала трещину, стоило ее спроецировать на реальность. «Бог предопределил ход истории, наделив ее смыслом, и предусмотрел путеводную нить, присутствующую в каждом столкновении сил, которому суждено решить судьбы реформированной веры и мира. Военные столкновения – особенно великие поражения и великие победы в них, есть не что иное, как предвестие последних дней, когда Антихрист и Христос явятся на земле и произойдет предсказанная в Откровении Последняя битва. И покуда мы ждем Мессию, каждая битва исполнена эсхатологического значения и ее исход есть проявление Господней Воли», – писал об этих представлениях историк Дэвид Рэналл.[27] И тут неизбежно возникал парадокс: поражение протестантов в том или ином сражении с «папистами» не могло быть проявлением Божественной Воли, – и тогда… успехи католиков приписывались влиянию Фортуны. Точно так же Фортуне приписывались и успехи Османской империи в столкновениях с армиями Габсбургов, как, например, на гравюре Мартина Роты.
Мартин Рота. Время, вращающее колесо Фортуны. 1512. Британский музей, Лондон
Otto Vaenius. Emblemata aliquot selectiora amatoria. P. 68 Амстердам, 1618
Постепенно Фортуна становится всего лишь персонификацией случая, выпадающего частному человеку. Свидетельство этой трансформации – появление ряда изобразительных сюжетов, где сведены вместе Купидон и Фортуна, как, например, в «Любовных эмблемах» Отто Ваения, 1608 и 1618 гг… У Ваения Фортуна, придерживающая весло кормчего и опирающаяся одной ногой на шар, закрывает повязкой глаза Купидону – тем самым подчеркивается роль случайностей в развитии любого романа – и характерно, что девизом для эмблемы выбран стих из «Писем с Понта» Овидия – «И благодарную речь я обращаю к судьбе».[28]
Другой извод этого мотива встречается, например, на небольшой монохромной картине у Тициана, где изображен божок любви, пытающийся сдвинуть Колесо Фортуны – при этом на заднем плане виднеется лошадиный череп, указывающий на Смерть, а тем самым – на тщету и суетность всякой погони за удовольствиями и неверными радостями мира сего.
Тициан. Купидон с Колесом Фортуны. Ок. 1520 г. Коллекция Саму эля Г. Кресса. Национальная галерея искусств. Вашингтон
Ян Мюллер по рисунку Корнелиса ван Харлема. Фортуна, раздающая дары. 1590. Национальная галерея искусств, Вашингтон
Отчасти к этому же кругу сюжетов примыкает и эмблема из другого сборника Ваения – «Quinti Horacii Flaci Emblemata» (1612), изображающая Фортуну, которая обнимает мартышку, увенчанную короной. Эмблеме предпослан девиз «Fortuna non mutat genus» – «Фортуна не изменит сути [того, к кому благосклонна]». Ироничной посылке этого девиза вполне соответствует четверостишие из державинской сатиры «Вельможа»: «Осел останется ослом,/ Хотя осыпь его звездами:/ Где должно действовать умом, Он только хлопает ушами».[29] Но морализаторский пафос, свойственный протестантизму, сосредоточен здесь не столько на неразборчивости богини, о чем писал еще Эразм Роттердамский в «Похвале глупости», говоря, что Фортуна «вечно пылает враждой к мудрецам, а дураков, напротив, даже во сне осыпает благодеяниями»,[30] а на том, что ее дары заведомо опасны, и особенно для людей недалеких.
Так, в пьесе Уильяма Уэджера «Чем дольше живешь, тем больше глупеешь»[31] (ок. 1568) действие строится на том, что Фортуна вновь и вновь одаряет протагониста по имени Морос (от латинского Morio – дурень), тем самым подталкивая его к Распущенности, Гневу, Невежеству, Праздности, Нечестивости и Жестокости – покуда в конце пьесы Божественная Справедливость не низвергает героя в жалкое состояние.
Otto Vaenius. Quinti Horacii Flaci Emblemata. Амстердам, 1612
В этот период в иконографии, связанной с богиней удачи, все чаще возникают мотивы противостояния Фортуне – восходящие, прежде всего, к «Лекарству от обеих Фортун» Петрарки.
Петрарка достаточно взвешенно и осторожно призывал не слишком радоваться счастливым поворотам судьбы и не очень горевать о несчастных: «мы ведем с судьбой сразу две войны: одну – против враждебной фортуны, другую – за счастливую; шансы и на победу и на поражение равны… Я полагаю, что труднее управлять счастливой судьбой, чем несчастной… Я видел многих, которые равнодушно относились к потерям, бедности, изгнанию, тюрьме, казни, смерти и к тому, что хуже смерти, – тяжким болезням. Я видел и тех, кто равнодушен к богатству, почестям, власти. И по моим наблюдениям, часто тех, кого не могла победить никакая жестокость неблагоприятной судьбы, играючи сваливала счастливая… Опасен лик всякой судьбы – и благоприятной, и неблагоприятной. Но уметь перенести надо и ту, и другую судьбу; одна нуждается в укрощении, другая – в утешении…»[32] Начало же Нового времени было в этом отношении несколько радикальнее. Весьма показательна здесь эмблема из сборника Жан Жака Боссарда 1595 г. На переднем плане на ней представлена стоящая за кафедрой женщина, погруженная в изучение некоего фолианта, рядом с ней, на другой книге, покоящейся на подставке, восседает сова, символ мудрости. Греческая надпись на кафедре – стих, позаимствованный у Менандра, гласит: «Обладание мудростью почтенней богатства». На заднем плане представлена барка Фортуны, плывущая по бурной реке, но женщина за кафедрой даже не удостаивает ее внимания. Латинский девиз эмблемы: «Expers Fortuna est sapientia» (Мудрость не подвержена превратностям Фортуны). Петрарка призывал примириться с любыми поворотами судьбы – Боссард же настаивает на том, что превратности судьбы надо попросту игнорировать, вовсе не обращая на них внимание. Заметим, что эта эмблема замыкает его сборник – и тем самым ей придается особое, итожащее значение.
Иллюстрация к «Лекарству от обеих Фортун» Франческо Петрарки. Ок. 1532. Национальная галерея искусств, Вашингтон
Jean Jaques Bossard. Emblemes. Metz, 1595. P. 119
Несколько подробней эта же идея развернута на одной из «программных» иллюстраций в «Книге мудрости» Карла де Бувелля, изданной в Париже в 1510 г. На левой стороне гравюры (а левая сторона ассоциируется с Духом Искусителем) изображена держащая в руке свое Колесо слепая Фортуна, восседающая на шаре, что застыл на краю разверстой могилы. Справа же, то есть на стороне, ассоциирующейся с Ангелом Хранителем, на твердом кубическом основании сидит Мудрость, смотрящая в Speculum Mundi – Зеркало Мира. Надписи, начертанные на этих «тронах» двух дев, читаются как «Место, [на котором сидит] Фортуна – шар, место, [на котором сидит] Мудрость – куб», подчеркивая контраст между шаткостью и надежностью двух оснований. В верхнем углу листа над Фортуной помещено изображение «Неразумного человека», в уста которого вложен стих из Ювенала: «Мы сделали тебя, о Фортуна, богиней и вознесли в небеса». Над Мудростью изображен «Разумный человек», произносящий: «Доверяй Добродетели, Фортуна уходит быстрей, чем волна». Отметим, что сама композиция гравюры подчеркивает связь Фортуны с Отцом всякого зла – мотив, непредставимый в Средневековье, но раз за разом воспроизводимый в Новое время.
Charles de Bouelles. Libre de sapiente. Paris. 1510. P. 116
Несколько иначе этот спор Фортуны и Мудрости (разрешенный, конечно же, в пользу последней) представлен на программной гравюре, украшающей фронтиспис «Истории правления Генриха VII» Фрэнсиса Бэкона в амстердамском издании 1662 г. Здесь Фортуна с ее Колесом и дарами балансирует на шаре, застывшем на самом краю прямоугольного постамента. Чтобы богиня не упала, а шар не скатился вниз, двое солдат и пышно одетый вельможа поддерживают своенравную даму, тогда как мудрец останавливает вращение Колеса, зафиксировав его продетой сквозь палкой. Аллегория эта была призвана напомнить читателям, что Генриху VII удалось положить конец междоусобной войне Алой и Белой Розы и вызванной ей смене династий Йорков и Ланкастеров на английском престоле, принеся наконец стабильность стране.
И все же, несмотря на настороженное отношение к Фортуне, социум раннего Нового времени вовсе не спешил окончательно и бесповоротно изгнать капризную богиню из своего сознания. Скорее, сами эти попытки отторжения свидетельствовали о том, насколько актуальны были представления о Фортуне для той эпохи.
Порой (и весьма часто) обращение к Фортуне возникает в контексте проведения лотерей, становящихся все более популярными в Европе. Первая лотерея была проведена в 1530 г. в Италии – и вызвала к жизни картину «Аллегория Фортуны» художника Доссо Досси из Феррары. На полотне Досси обнаженная Фортуна сидит на мыльном пузыре – чем подчеркивается, насколько эфемерна и ненадежна ее благосклонность. На изменчивый, как ветер, характер ее благосклонности указывает и вздымающаяся драпировка. То, что лишь одна нога богини обута – знак ее двойственного характера, указание на то, что в равной степени она может приносить удачу и неудачу, давать богатство и пускать по миру. Слева от Фортуны сидит случай, сжимающий в руке лотерейные билеты, которые он готов опустить в урну, откуда будет извлечен лишь один счастливый, выигрышный билет. Постепенно лотереи распространились по всей Европе – так, в Англии первая лотерея была проведена при Елизавете I. На билетах – весьма искусно изготовленных в лучших граверных мастерских – весьма часто изображали Фортуну с рогом изобилия.
Фрэнсис Бэкон. Истории правления Генриха VII Амстердам, 1662
Доссо Досси. Аллегория Фортуны. Ок. 1530. Музей Жана Пола Гетти
Собственно, без благосклонного участия Фортуны не мыслили никаких серьезных начинаний. В 1577 г., пытаясь привлечь внимание королевы Елизаветы I к проблемам развития английского морского флота, математик, астроном и алхимик Джон Ди издает «Общие и частные соображения, касающиеся совершенного искусства навигации».[33] Основу этой книги составляли перерассчитанные доктором Ди, с очень высокой точностью, навигационные таблицы, но главное – им была предпослана обширнейшая программа морской экспансии Англии – по сути, эта книга положила начало превращению страны в великую морскую державу. Набросок для программного фронтисписа Ди сделал собственноручно. На нем изображался приближающийся к берегу корабль с греческой надписью «Европа» по борту, – на корме его, как на троне, восседала королева Елизавета. Рядом с кораблем на быке плыла мифологическая Европа. Подступы к берегу с моря охраняла флотилия судов, а на суше – отряды береговой стражи. Прибытия корабля ожидает коленопреклоненная, как для принесения присяги, фигура на берегу. Вдающийся в море мыс защищает крепость, на центральной башне которой стоит Фортуна, а над нею парит архангел Михаил. Вся эта сложная композиция была призвана символизировать великое будущее, раскрывающееся перед Англией благодаря благословенному Фортуной царствию Елизаветы.
Часто изображение Фортуны можно встретить на издательских знаках – в частности, на шекспировских «Тите Андронике» 1594 года или «Ромео и Джульетте» 1597 года, отпечатанных Джоном Дантером в Лондоне. «Жаловали» Фортуну и континентальные печатники: переменчивая богиня, приносящая удачу, украшала в XVI в. издательские знаки венецианца Николло Моретти, бергамца Витали Зукколо, антверпенца Михаэля Бруто, базельца Андреаса Кратандера.[34]
И все-таки, постепенно, с середины XVII в. Фортуна «сдает свои позиции» – изображений становится все меньше. Да, ее упоминают в текстах, но эти упоминания – уже просто языковые клише, а не живые метафоры. Для Англии особую роль тут сыграл период Гражданской войны и протектората Кромвеля, когда все сферы жизни испытали сильнейшее влияние пуританизма… Внес свою лепту в процесс «дискредитации Фортуны» и рационализм эпохи Просвещения. Но память о своенравной богине осталась в подсознании культуры – чтобы всплывать вновь и вновь самым неожиданным образом. Так, броское название романа Нортопа Фрая «Теннисные мячики небес», позаимствованное автором у современника Шекспира, драматурга Джона Уэбстера, чьи строки «We are merely the stars' tennis-balls, struck and banded/ Which way please them…» (Мы – теннисные мячики небес, Они соединяют нас и лупят,/ Как захотят. – Пер. С. Ильина) из пьесы «Герцогиня Мальфи» стали эпиграфом к роману – восходит к расхожему, в первой половине XVII в., представлению о человеке как игралище Фортуны. В сборнике Генри Пичама «Minerva Britanna», вышедшего за год до драмы Уэбстера, в 1612 г., одна из эмблем изображает протянувшуюся из-за облаков руку Провидения, роняющую теннисный мячик, а пояснительный текст гласит:
- The tennis-ball, when srucken to the ground,
- With Racket, or the gentle School-boies hand,
- With greater force, does back againe rebound,
- His Fate, (though senceles) seeming to withstand…
- So when the Gods aboue, haue struck us low,
- (For men as balls, within their handes are said),
- We chiefly then, should manly courage show,
- And not for every triftle be afraid:
- For when of Fortune, most we stand in feare,
- Then Tyrant-like, the most will domineere.[35]
- [Теннисный мячик, когда его бьют о землю/ Ракеткой, или слабой рукой школьника,/ Отскакивает обратно с большей силой,/ Его судьба (пусть он – бесчувственен при этом) – выстоять…// Точно так же, когда Боги наверху наносят удар, и мы летим вниз/ (Ибо, говорят, что люди подобны мячикам в их руках),/ Мы, прежде всего, должны проявить отвагу/ А не пугаться каждой малости:/ Ибо, чем больше из-за <прихотей>Фортуны мы пребываем в страхе,/ При том, что она подобна Тирану, тем больше она берет <над нами>вверх.]
Джон Ди. Общие и частные соображения, касающиеся совершенного искусства навигации. Фронтиспис. Лондон, 1577
У. Шекспир. Ромео и Джульетта. Лондон. Типография Джона Дантера, 1597
Генри Пичам. Minerva Britanna. London, 1612
По сравнению с текстом Пичама Уэбстер дает более афористичную формулу для выражения той же идеи: «теннисные мячики небес» – звучит гораздо ярче. Но сама эта формула явно не оригинальна. У нее множество изводов, и среди них – название вышедшего в Лондоне в 1640 г. памфлета с характерным названием «Теннисные мячики Фортуны».
Приведем еще один похожий пример, когда представления о Фортуне, характерные для XVI–XVII вв., активизируются совсем в другую эпоху и в других контекстах. Так, строчки из знаменитого киплинговского стихотворения «Если»: «If you can meet with Triumph and Disaster/ And treat those two impostors just the same» («И будешь тверд в удаче и в несчастье,/Которым, в сущности, цена одна». – Пер. С. Маршака) – по сути, отсылка к возрожденческим трактатам о «лекарствах от Фортуны», требующих равно спокойно встречать все, что ниспосылает своенравная богиня, будь то дары и блага или несчастья и испытания.
Памфлет «Теннисные мячики Фортуны». Лондон, 1640
Художники, поэты, звездознатцы…
В начале Нового времени «большое время», время природы ощущалось куда более непосредственно, чем сейчас. Хотя бы потому, что человек был куда менее отделен от природы – и чаще смотрел на небо. Выполнение ли сельхозработ, странствие ли по суше или по морю, отправление праздничных обрядов, которые почти все проходили на открытом воздухе, – будь то нехитрые сельские праздники или изощренные по своей сложной символике коронационные шествия – все это заставляло человека отрывать взор от земли и смотреть вверх: чтобы определить грядущую погоду, свое местоположение или время. По положению солнца или звезд, порой – на глаз, порой – с помощью приборов и довольно сложных расчетов прокладывали путь путешественники и мореплаватели. Время же по небесным светилам «сверяло» в те века большинство населения Европы: часы оставались сложными и громоздкими механизмами, которые возводились лишь в больших городах, порой – в монастырях и замках. Тем самым именно ход светил регулировал повседневную жизнь той эпохи.
Недаром даже ренессансные танцы – будь то народные хороводы во время праздника Майского дерева или изысканные придворные паваны – соотносились с движением небесных светил: хороводный круговой танец вокруг майского шеста, символизирующего Мировое древо, всегда шел посолонь, сложные фигуры паваны имели в виду движение на небосводе планет и небесных сфер.
Человек никогда не забывал, что над ним – небо со светилами, большой, хотя и не бесконечный космос, в центре которого – земля людей и их насущные заботы.
С другой стороны, этот мир – для людей образованного сословия, был намного лучше знаком «вширь»: как это не парадоксально, в ту эпоху «literari» – «люди знания» путешествовали, несмотря на несравнимую с нынешней скорость передвижения, куда больше. Так, математик и астролог королевы Елизаветы I Джон Ди в течение нескольких лет, собирая карты и математические манускрипты (а также, возможно, и выполняя какие-то специальные поручения Ее Величества), объехал Бриль, Роттердам, Гарлем, Амстердам, Бремен, Гамбург, Росток, Щецин, Познань, Краков, Прагу, Лейпциг и Франкфурт – не говоря о городах поменьше. При этом он вовсе не слыл среди современников великим путешественником.
Джон Донн в юности три года, с 1589 по 1591 гг., путешествовал по Европе, в 1596 г. принимал участие в экспедиции в Кадикс, а годом позже – к Азорским островам, в 1605 г. с рядом поручений побывал во Франции и Италии, а в 1611–1612 гг. в качестве лица, сопровождающего патрона, путешествует по Франции, Германии и Бельгии, в мае 1619 посещает Германию в качестве капеллана при посольстве… Ни Донн, ни Ди не являлись неким исключением среди образованных дворян своей эпохи: для молодых людей из хорошего рода путешествие по Европе, нередко совмещаемое со слушанием каких-то лекций в тамошних университетах, как правило, предшествовало вступлению в зрелую жизнь (заметим, что в Англии эта традиция жива и поныне) и было нормой. Необходимо учитывать и «интернациональный» характер культуры XVI–XVII вв.: так, итальянский монах-расстрига Джордано Бруно появляется в Англии в качестве представителя французского двора Генриха IV, многие из своих трудов посвящает Филипу Сидни, при этом часть этих сочинений печатается в Англии, а часть – в Германии – по-итальянски. На самом деле «европейская культура» той поры – это культура 500–1000 «образованных людей» (в эту категорию равно попадают ученые и богословы, писатели и художники, некоторые вельможи – причем часто несколько ипостасей легко совмещаются в одной личности), которые живут и работают при разных европейских дворах (свободно переезжая от одного к другому), принадлежат различной национальной и языковой среде, но активно обсуждают между собой «магистральные» проблемы эпохи. Перед нами – спор сравнительно узкого круга интеллектуалов, «аукающихся» из разных углов Европы. Подобная ситуация, с одной стороны, объяснялась относительной немногочисленностью в те времена людей истинно образованных, с другой – тем, что, достигнув определенного уровня, они неизбежно оказывались вовлечены в некий «общий диспут» о судьбах Европы, раздираемой противостоянием католиков и протестантов, погруженной в пучину религиозных войн и династических противоречий. Но, так или иначе, важно, что тот мир переживался именно как «Orbis habitatus», мир людей и для людей, где человек, с одной стороны, отмечен избранною ролью венца творения, а с другой – отвечает за этот мир и всяк живущую в нем тварь перед Господом. (Заметим, что именно это чувство ответственности, как ни парадоксально, нередко «подогревало» и без того темпераментные политико-религиозные споры Реформации.)
Неизвестный художник. Портрет доктора Джона Ди. Вторая половина 1590-х гг. Музей Ашмолиан, Оксфорд
Этот мир виделся целокупным, и такое его переживание порождало особую поэтику: сознание легко перекидывало мостик между далекими явлениями и через несхожесть готово было увидеть подобие, охотно сопрягая между собой вещи, казалось бы, несовместимые. Уровень развития наук в ту эпоху еще позволял образованному человеку охватить все современные ему знания о мире в достаточной полноте: они органично входили в зону его опыта и могли быть призваны на помощь по любому поводу. Как следствие этого, язык искусств той эпохи куда больше, чем ныне, был проникнут образами, выработанными в научной сфере и ей принадлежащими. Космология и картография, юриспруденция и медицина – все они служили поставщиками метафор и сравнений для Шекспира и Джона Донна, Кристофера Марло и Бена Джонсона. «В едином поле творческой интуиции сходятся магия, религия, искусство и наука, объясняясь между собой не альтернативными гипотезами – предполагающими объектно-субъектное взаимоотчуждение, – а наглядными примерами… Искусство обнаруживает себя прежде всего как искусство мысли (а уж потом всего остального – любви, политики, наживы и т. д.) и потому размечает духовное пространство, в котором доминирует универсальная божеско-человеческая изобретательность как таковая, без принципиального обособления гуманитарных, точных и естественных видов мастерства и знаний»,[36] – писал об этой эпохе знаток ренессансного искусства М. Н. Соколов. И литература того времени намного теснее, чем сейчас, соприкасалась с наукой и куда активнее использовала научные сведения и язык научных описаний в своих целях. Писатели той поры по самому своему складу оказывались апологетами науки, даже воспевая предметы совершенно иные.
Картина целостного мироздания, космология Ренессанса, была заложена еще Отцами Церкви. К их учению эпоxa Возрождения привила Платона и Аристотеля – собственно, всего лишь выделив и усилив те элементы христианской космологии, которые изначально опирались на фундамент античной мысли, присутствовавшей в самой патристике, пусть и не в акцентированном виде.
Robert Fludd. Utrisque Cosmi Maioris scilicet et Minoris Metaphisica… Oppenheim, 1617
Церковное предание учило о совершенстве, гармонии и целесообразности мира как прекрасного создания Божия (ил. 7). Бог, являющийся «совершенным, благим и разумным началом всех вещей»,[37] «все устрояет к лучшему», – писал Климент Александрийский. Целесообразный и чудный космос, объемлющий всю сущую тварь и все видимое творение, есть, по словам Иринея Лионского, «арфа, различные звуки которой производят чудную гармонию: кто очарован прелестью этой гармонии, тот не скажет, что каждый из сих звуков был произведен силами многих музыкантов, так как… одна и та же рука… играет как на нижних аккордах, так и на самых высоких».[38]
Эта гармония, согласно Клименту Александрийскому, «замечается во всем мире, но главным образом – в человеке… который есть благороднейший инструмент, своего рода арфа в храме Вселенной».[39]
Все виды мирового бытия в строгой последовательности восходят постепенно от форм менее совершенных к более совершенным: «Не все части мира, – пишет Иоанн Филопон, – одинаково совершенны: небо лучше Земли и Солнце – Луны, и "звезда от звезды разнствует во славе", животные совершеннее растений, земные твари выше водяных, а совершеннее сих созданий человек».[40] Комментируя порядок Творения, Филопон подчеркивает, что после украшения неба светилами и земли растениями «творение переходит ко второй после земли стихии – воде, в которой появляются "гады душ живых", а затем – к третьей стихии – воздуху, который "украшается летающими" (т. е. – птицами). Все происходящее "располагается в естественном порядке и… творение переходит постепенно от менее совершенного к наиболее совершенному". Так, "после происхождения стихий, Бог повелевает земле произвести первичные растения, имеющие самый низший вид жизни, – силу питания, роста и рождения, вследствие чего о них и говорится, что они живут и умирают, что они одушевлены…; но они не обладают ни способностью чувственного восприятия и передвижения к месту, ни другими свойствами, которыми характеризуются живые существа". Далее в порядке происхождения следуют водяные твари, так как и самая стихия – вода – занимает 2-е место (после земли); эти твари "имеют более совершенную жизнь", нежели растения: они обладают уже чувствами, способностью передвижения, – хотя и не в такой степени, как воздушные, – а также – представлениями как образами чувственных восприятий, хотя и не достаточно ясными… Вслед за ними происходят твари летающие, которые превосходят водяных более ясными и отчетливыми внешними чувствами и представлениями, а затем – живущие на суше, "наиболее совершенные из остальных животных и обладающие более отчетливыми ощущениями и способностью воображения, приближающейся уже к рассудку: некоторые из них рассудительны, другие – хитры и смышлены"… Наконец, после всех указанных тварей Бог создает человека – "совершеннейшее из всех животных"».[41]
Robert Fludd. Utrisque Cosmi Maioris scilicet et Minoris Metaphisica… Oppenheim, 1617
Однако если перейти от этих общефилософских положений к реальным описаниям космоса, бытовавшим в эпоху Елизаветы и Иакова, то обнаружится, что в сознании современников одновременно уживались несколько противоречащих друг другу моделей мироустройства: геоцентричные вселенные Птолемея и Тихо Браге, бесконечная Вселенная Николая Кузанского и Джордано Бруно, чьей «окружностью и центром» был «Бог, который всюду и нигде»,[42] и гелиоцентрическая Вселенная Коперника.
Лествица природная (Scala Naturae). Гравюра из книги: Дидакус Валадес. Христианская риторика. Перуджия, 1579. (Didacus Valades. Rhetorica cristiana. Perugia, 1579)
Система мироздания, предложенная во II в. н. э. Клавдием Птолемеем (100–160 гг. н. э.), описывала мир так, как он предстает «зрению человека, стоящего на земле…, когда взгляд задает структуру вселенной, описывая ее в той последовательности, в которой предстает она восприятию, исходя из того, что наблюдатель находится в центре мироздания. Куда бы не направил наблюдатель свой взгляд, тот будет восхищен чудным движением небес, что описывают соразмерные и совершенные круги, и уверится наблюдатель, что земной шар помещен в самом центре сего движущегося мироздания», – писал астроном и астролог середины XVII в. Андре Целларий в книге «Harmonia Macrocosma»,[43] описывая Птолемееву Вселенную. В центре этой Вселенной расположена Земля, образованная из смешения элементов земли и воды, – ее окружают сфера воздуха и следующая за ней сфера огня. Далее идет сфера Луны, за ней же располагаются эфирные небеса, образуемые семью плотными, твердыми, как алмаз, сферами: Меркурия, Венеры, Солнца, Марса, Юпитера, Сатурна и сферой неподвижных звезд. (Заметим, что во многом эта модель напоминает платоновскую, с той разницей, что Платон предусматривал несколько иной порядок светил: Луна, Солнце, далее – планеты: Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн – и звездная сфера.) Непроницаемая сфера неподвижных звезд является Перводвигателем, и, вращаемая самой Божественной любовью, она приводит в движение весь остальной космос (ил. 8).
На самом деле, эта система, соединяющая положения Аристотелевой «Физики» с практикой наблюдений за звездным небом, имела в глазах ренессансных ученых и богословов ряд противоречий… теологического характера.
В Аристотелевой Вселенной Земля занимала самое нижнее положение, то есть онтологически ей отводилось самое ущербное в мироздании место, атрибутами которого были непостоянство и изменчивость, тленность и распад. Все сущее в подлунной сфере пребывает в своего роде космическом аду,[44] тогда как планетарные сферы пронизаны эманациями Божественного присутствия, а за сферой неподвижных звезд находится сама обитель Господа.[45] Но здесь изощренная мысль Ренессанса усматривала противоречие.
Так, Никола Оресм в середине XIV века задавался вопросом, что недвижность Земли, тот факт, что положение ее постоянно и неизменно, не соответствует ее качеству «ущербного» небесного тела: постоянство есть атрибут Божественности, а потому Земля должна двигаться.
Позже Джон Донн, отталкиваясь от Птолемеевой системы мира, где Земля расположена в центре Вселенной и где внутри Земли пребывает изначальный Хаос, из которого сотворено все сущее, а значит, именно Хаос есть центр, вокруг которого вращается Мироздание, с горечью констатировал: «Природный мир устроен подобно шкатулке с секретом: открываешь ее, а в ней заключена другая; окоем Небес носит в себе Землю, Земля носит на себе города, города населены людьми. Так концентрические круги сбегаются к своему центру, но этот центр – распад и разрушение.[46] Лишь нетварное стремится прочь от центра сего; лишь нетварное, покров невещественный, который мы можем помыслить, хотя и не явлен он нашему взору, – нетварный свет,[47] эманация света божественного, в котором пребывают Святые Его, в который облачены они, – он единственно не стремится к центру распада, ибо не был сотворен из Небытия, и переход в Небытие не грозит ему. Всему прочему в мире Небытие довлеет; довлеет даже ангелам, даже нашим душам: они движутся над теми же полюсами, клонятся к тому же центру. И не будь они сотворены так, что благодаря Промыслу Божию пребывают бессмертными,[48] их природа не могла бы противиться притяжению центра, который есть Небытие».[49]
Птолемеева система мироздания. Andreas Cellarius. Harmonia Macrocosmica. Amsterdam, 1660
Все эти противоречия подтолкнули Николая Кузанского к изложению кардинально иной картины мироустройства. Доказывая логическим, чисто умозрительным путем, что Земля не может быть центром мироздания, ибо у machina mundi ничто чувственное, то есть, «земля, воздух огни или что бы то ни было не могут быть фиксированным и неподвижным центром… Если бы мир имел центр, то имел бы и внешнюю окружность, а тем самым имел бы внутри самого себя свои начало и конец, то есть мир имел бы пределом что-то иное и вне мира было бы еще это другое и еще пространство… И как Земля не есть центр мира, сфера неподвижных звезд не есть его окружность, хотя при сравнении Земли с небом наша Земля и кажется ближе к центру, а небо – ближе к окружности… Центра нет ни у нашей Земли, ни у какой-либо сферы… Земля в действительности движется, хоть мы этого и не замечаем… В самом деле, если бы кто-то на корабле среди воды не знал, что вода течет, и не видел берегов, то как бы он заметил движение судна? В связи с этим каждому, будь он на Земле, на Солнце или на другой звезде, всегда будет казаться, что он как бы в неподвижном центре, а все остальное движется, он обязательно каждый раз будет устанавливать себе новые полюса, одни – находясь на Солнце, другие – находясь на Земле, третьи – на Луне, на Марсе и так далее. Окажется, что машина мира будет как бы иметь повсюду центр и нигде окружность. Ибо ее окружность и центр есть Бог, который нигде и всюду… Земля есть благородная звезда, имеющая свои особые и отличные от других звезд свет, тепло и влияние, как и любая звезда тоже отличается от любой другой светом, природой и влиянием»,[50] – утверждал Кузанец.
Усилия Николая Кузанского, как и унаследовавшего его взгляды Джордано Бруно, который учил, что во Вселенной множество обитаемых миров, были направлены на переоценку метафизического достоинства Земли, а тем самым – и человека, – достоинства, в которых им отказывала Аристотелево-Птолемеева космология.
На самом деле, Церковь, вопреки расхожим современным представлениям, вполне лояльно относилась ко всем многочисленным космологическим учениям – до тех пор, пока они не претендовали на какую-либо переоценку церковной догматики. Отношение Церкви к изысканиям астрономов четко сформулировал Фома Аквинский: «Предположения, выдвинутые астрономами, не следует считать необходимо истинными. Хотя эти гипотезы кажутся согласующимися с тем порядком вещей, который явлен нашему взору, нам не следует утверждать, что тем самым они подтверждаются фактами, ибо, возможно, что наблюдаемое нами движение звезд объяснимо и иначе, однако нами покуда не измыслены для этого соответствующие методы».[51] Бруно был сожжен на костре вовсе не за космологические построения, а за проповедь магии и призыв отождествить Христа, Амон-Ра и Солнце – то есть за еретическое вероучение, Галилей подвергался допросам инквизиции не потому, что пропагандировал положения «современной науки», а потому, что позволил себе оспаривать некоторые основополагающие тезисы томизма.[52]
Еще одну «конфигурацию мироздания» предлагала система Тихо Браге, выдвинутая им в 1580 г. (и восходящая в конечном итоге к древней системе Гераклида Понтийского): вокруг Земли обращаются Луна и Солнце, последнее же при этом является центром для вращения прочих планет. В XVI–XVII вв. эта система имела довольно много сторонников: во первых, Браге пользовался высочайшим авторитетом как астроном-практик, во вторых, она позволяла совместить геоцентрическую модель Вселенной с представлениями об особом статусе Солнца: согласно герметическим воззрениям, столь популярным в ту эпоху, дневное светило ассоциировалось с олицетворением божественности, явленным человеку в чувственном мироздании.[53]
Довольно близка к системе Тихо Браге была и извлеченная из забвения, якобы восходящая к египтянам, система Витрувия («египетское» происхождение в ту эпоху гарантировало если не признание, то хотя бы интерес образованной публики, с глубочайшим пиететом относящейся, после знакомства с Corpus Hermeticum, ко всему, пришедшему из «страны мудрости»). В этой системе Меркурий и Венера вращаются вокруг Солнца, которое, как и прочие планеты, вращается вокруг Земли.
Система мироздания Тихо Враге. Andreas Cellarius. Harmonia Macrocosmica. Amsterdam, 1660
И, наконец, существовала еще и гелиоцентрическая система Коперника, который, собственно, математическим путем показал, что возврат к системе, предложенной еще в древности Аристрахом Самосским (ок. 300 до н. э.), позволяет выправить ряд несоответствий в календаре.[54] С другой стороны, предложенная им реформа Космоса идеально отвечала учению Гермеса Трисмегиста, весьма популярному в ту пору в Европе, и алхимическим практикам. Планетарный ряд, протянувшийся от Сатурна, соответствующего свинцу – наиболее падшему металлу, через Юпитер (олово), Марс (железо), Венеру (медь), Луну (серебро) и Меркурий (ртуть) к Солнцу (золоту) точно воспроизводил ряд алхимического Opus Magnum.[55] Описывая суть своего открытия в сочинении «О вращении небесной сферы» (1543), Коперник подчеркивал: «В центре всего сущего расположено Солнце. Можем ли мы найти в мироздании лучшее место прекраснейшему из храмов – храму, откуда изливается свет, освещающий все бытие. Солнце по праву называют светильником, духом, правителем мироздания. Для Гермеса Трисмегиста оно – незримый бог, Софоклова Электра называет его всевидящим. Посему Солнце сидит на данном ему королевском троне и направляет оттуда своих чад, что вращаются вкруг него».[56]
Система мироздания Коперника. Andreas Cellarius. Harmonia Macrocosmica. Amsterdam, 1660
Все эти теории так или иначе существовали параллельно, уживаясь в сознании людей той эпохи, которые готовы были отдавать предпочтение той или иной лишь в силу необходимости стоящих перед ними конкретных задач. Так, например, для мореплавания еще примерно полтора века после открытия Коперника пользовались системой Птолемея, дававшей гораздо более точные значения для навигационных таблиц. Характерно, что на многих картах полушарий XVII в. кроме orbis terrarum, земного мира, изображали еще и схематичное устройство мира небесного – и, как правило, сразу в двух вариантах – и по Птолемею, и по Копернику (ил. 9).
Все это будоражило ум, давало ему массу парадоксальных поводов для размышлений и построения неожиданных аналогий, вроде той, что мы встречаем в одном из писем Донна: «Коперник путем математических исчислений возносит Землю вверх, убрав ее из принадлежащего ей ранее глупого центра – но при том не возвеличивает ее и не дает ей какого-либо преимущества, ибо в силу зримо явленной очевидности небеса оказываются от нее дальше, чем были они до того. Так и католическая вера, что, казалось бы, возносит и очищает нашу волю и помыслы от всякой примеси земных стремлений – очищает более, нежели исповедание реформистов, приближая, казалось бы, нас к Небесам, – она лишь удаляет Небеса от нас, ибо, алкая их, не по своей воле должны мы пройти столь много судебных инстанций, где вершить справедливость отдано святым, к заступничеству которых следует нам взывать в этой жизни, буде есть у нас какое прошение к Предвечному Судие, а в жизни что назначена нам за сенью могилы, должны мы долгое время ждать суда, томясь в узилище, где боль и муки, – не того ради, чтобы угодить Ему, Тому, к Кому мы идем, и Кто есть нам истинный Судия, но дабы угодить им – тем, от кого ушли мы, тем, которые не ведают о наших нуждах».[57]
И все же следует признать, что сама необходимость мириться с существованием нескольких взаимопротиворечащих картин мироздания – хотя бы в качестве равнодоказуемых гипотез, истинность или ложность которых подтвердит лишь время, накапливающее свои данные в пользу той или иной из них, создавало ряд проблем для сознания образованного человека XVI–XVII вв. Мир, в котором тот был вынужден жить, потерял четкие очертания и границы, – а тем самым и возможность эмпирического постижения. В начале христианской эпохи, в III в. н. э. Ориген писал, что гармония и соразмерность мира явлены и в том, как «в начале Бог сотворил такое число разумных, или духовных тварей… сколько, по Его предвединию, могло быть достаточно. Несомненно, что Бог сотворил их, наперед определивши у Себя некоторое число их. Ведь не должно думать, что тварям нет конца, потому что там, где нет конца, там нет и никакого познания, и невозможно никакое описание. Если бы это было так, то Бог, конечно, не мог бы содержать сотворенное или управлять им, потому что бесконечное по природе непознаваемо. Писание же говорит: "Бог сотворил все мерою и числом" (Прем. 11, 21), – и, следовательно, число правильно прилагается к разумным существам или умам, – в том смысле, что их столько, сколько их может распределить, управлять и содержать Божественный промысел».[58] Человек XVI–XVII вв. предстал перед необходимостью впустить в сознание бесконечность.
И тут куда более существенную роль сыграли не космологические модели той эпохи, а вспышка сверхновой звезды в созвездии Кассиопеи, наблюдавшаяся 11 ноября 1572 г. В первые недели после своего появления звезда сияла столь ярко, что ее было видно даже днем. Измерения, проведенные Тихо Браге, Джоном Ди, Томасом Диджесом, явственно показали, что наблюдатели имеют дело именно с новой звездой, – вовсе не с кометой или метеором, – что серьезно задевало базовые представления эпохи о мироздании. Появление новой звезды на небосводе, что мыслился неизменным с момента сотворения мира, ставило религиозное сознание перед достаточно серьезной дилеммой: следовало либо принять доктрину перманентного творения, либо пересматривать сами основания космологии. И если зимой 1571 г. придворный врач Филипа II Испанского еще мог уверять своего владыку, что «новая звезда» в Кассиопее существовала от века, но просто ее невозможно было увидеть из-за тумана или сгущения воздуха, окружающего одну из планетных сфер – сгущения, которое рассеялось,[59] а математик Джероламо Кардано утверждал, что наблюдатели просто вновь видят Вифлеемскую звезду, то публикации Браге, Ди, Диджеста не оставили места для такого рода обольщений. Их наблюдения показали, что Вселенная изменчива а вычисления расстояния до сверхновой показали также и то, что этот мир несоразмерно велик человеку.
Людям рубежа XVI–XVII вв. мир предстал как необъятный, превышающий пределы постижимого. «Время вывихнулось из пазов», распахнув дверь в невыносимую бесконечность. «Метафизический сквозняк», дующий «оттуда», заставлял человека чувствовать себя песчинкой, затерянной в несоразмерном мироздании, – и беззащитной перед экспансией «внешнего». Один из самых ярких текстов той эпохи, передающий это ощущение разрушения всех пропорций и координат, – поэма «Анатомия мира. Первая годовщина» Джона Донна:
- And new philosophy calls all in doubt,
- The element of fire is quite put out,
- The sun is lost, and th'earth, and no man's wit
- Can well direct him where to look for it.
- And freely men confess that this world's spent,
- When in the planets and the firmament
- They seek so many new; they see that this
- Is crumbled out again to his atomies.
- 'Tis all in pieces, all coherence gone,
- All just supply and all relation;
- Prince, subject, father, son, are things forgot,
- For every man alone thinks he hath got
- To be a phoenix, and that then can be
- None of that kind, of which he is, but he.
- [Новая же философия все поставила под сомнение,/ Элемент огня изгнан со своего места,[60]/ Солнце и земля затерялись <в мироздании> и никакая мудрость/ Не может подсказать человеку, в каком направлении <устремить свой взгляд, чтобы> их найти./ Человек свободно исповедует, что мир этот – в прошлом,/ Коли <в движении> планет и на Небосводе/ явлено столь много нового; понятно, что тем/ Мир вновь раздроблен до атомов./ Все распалось, все связи,/ Все, что питало, что служило узами;/ Владыка, подданный, отец, сын – эти <отношения> преданы забвению,/ Ибо каждый про себя думает,/ Что он – Феникс, а значит,/ Подобного ему нет, он лишь один такой].
В этом фрагменте донновской поэмы, написанной как траурный плач по умершей юной Элизабет Друри – дочери одного из патронов Донна, мы видим, как противоречия космологии, вспышка сверхновой, открытия Тихо Браге и Джона Ди становятся поводом для мучительной рефлексии. Это смятение рассудка перед физической огромностью мира и неясностью мироустройства порождало свойственное всей культуре рубежа XVI–XVII веков недоверие к чисто физическим и эмпирическим проявлениям бытия, утверждая своего рода приват мысли над материей, умопостигаемого над физически сущим – ибо только на этих путях рассудок мог избежать конфликта, чреватого безумием.
Характерным образом, Роберт Фладд в своем трактате «Utrisque cosmi»,[61] пытаясь продемонстрировать ложность теории Коперника,[62] прибегает не к доказательству, отталкивающемуся от некого эмпирического опыта, но к логической аналогии, иллюстрируемой рисунком, на котором двое работников с неимоверным усилием пытаются вращать жернов, используя для этого ось, что проходит через его центр, в то время как другой такой же жернов с легкостью приводится в движение одним-единственным работником, задающим вращательный момент ободу. По Фладду, Перводвигателю или Создателю проще вращать колесо небесной сферы, передавая усилие его ободу – нежели приводить всю machina mundi в движение из центра, коим оппоненты Фладда полагали Солнце.
Robert Fludd. Utrisque cosnm… Oppenheim, 1617
Но почти тот же тип мышления мы встречаем в «Гамлете» – доказательство Клавдиева братоубийства принц ищет не в эмпирической данности придворного быта Эльсинора, но – в бесконечных построениях своего сознания, в играх и уловках рассудка, а потом затевает историю с постановкой «Мышеловки» – идеальной аналогией, призванной стать последним доказательством вины короля.
Привлечение аналогии в качестве «очевидного доказательства» в принципе характерно для мышления XVI–XVII вв… В частности, у Уолтера Рэли, одного из образованнейших и самых скептичных умов елизаветинской Англии, мы встречаем следующее рассуждение о влиянии звезд на земные дела: «И если не можем мы отрицать того, что Господь даровал родникам и источникам и хладной земле, растениям и камням, минералам и даже испражнениям живых существ способность воздействовать тем или иным образом, почему же лишаем мы звезды, чье сияние столь прекрасно, присущей им силы? Видя, сколь многи они числом, сколь исполнены красоты и величия, разве можем мы помыслить, что в кладовых Его мудрости, бесконечной и неизмеримой, не нашлось для каждой звезды особой силы, когда всякая травинка, растение, плод и цветок, что украшают земной лик, таковую силу имеют? Но как растения и злаки были сотворены не только затем, чтобы украсить землю, скрыв и оттенив ее припорошенный пылью лик, а во имя нужд человека и прочих тварей, чтобы служить им пищей и целебным средством, так и неисчислимые, исполненные славы тела, что мы видим на небосводе, призваны не только украшать небо, но быть инструментом Божественного провидения. И Ориген в рассуждении на стих "да будут светила на тверди небесной" (Быт. 1, 14) указывает нам: звезды есть не причины явлений, а подобны открытой книге, где содержится и записано все, что произойдет; однако это книга непостижима для мудрости человеческой».[63]
Базель, 1543. Andreas Vesalius. De humani corporis fabrica libri septem. Basel: Ex Officina Joannis Oporini, 1543
Это представление о небосводе как «звездной книге», подобной Книге жизни, выразил Уильям Хаббингтон в стихотворении, написанном как медитация на стих псалма Давида «ночь ночи открывает знание» (Пс. 18, 3):
- WHEN I survay the bright
- Coelestiall spheare:
- So rich with jewels hung, that night
- Doth like an Aethiop bride appeare.
- My soule her wings doth spread
- And heaven-ward flies,
- Th'Almighty's Mysteries to read
- In the large volumes of the skies.
- For the bright firmament
- Shootes forth no flame
- So silent, but is eloquent
- In speaking the Creators name.
- No unregarded star
- Contracts its light
- Into so small a Charactar,
- Remov'd far from our humane sight:
- But if we stedfast looke,
- We shall discerne
- In it as in some holy booke,
- How man may heavenly knowledge learne.
- Thus those Coelestiall fires,
- Though seeming mute,
- The fallacie of our desires
- And all the pride of life confute.
- For they have watcht since first
- The World had birth:
- And found sinne in it selfe accurst,
- And nothing permanent on earth.[64]
- [Когда я озираю сияющую/ Небесную сферу/ Столь богато украшенная ожерельями, ночь/ Выглядит подобно эфиопской невесте,// Моя душа расправляет крылья/ И летит к небесам,/ Чтобы читать Тайны Всемогущего/ В этих огромных небесных томах.// Ибо озаренный сиянием небесный свод/ Не просто полыхает огнями/ В молчании, но красноречиво/ Произносит имя Создавшего его.// Нет ни одной звездочки/ Что не изливала бы свой свет/ Как мельчайшая буква,/ Столь удаленная от людского взора:// Но если мы пристально всмотримся,/ Мы распознаем/ В ней, как в некой священной книге,/ Как может человек причаститься небесному знанию…// Так эти небесные огни,/ Хотя кажутся безмолвными,/ Повергают во прах всю ложь наших желаний/ И всю гордость жизни.// Ибо они смотрят <вниз> с тех пор,/ Как рожден этот мир:/ И видят, как грех проклят в самом себе,/ И нет ничего постоянного на земле.]
Восхищение могуществом человеческой мысли и смятение, вызванное сознанием слабости человека перед лицом обстоятельств – два полюса духовных измерений эпохи, определивших те «силовые линии», внутри которых развертывалась культура рубежа XVI–XVII вв. Эту интонацию легко расслышать в словах Донна о Копернике и Галилее, которые «призвали иные миры – звезды – спуститься к ним и дать им отчет о себе»,[65] однако у того же Донна найдем мы и исполненный горечи пассаж, где сказано: «наши создания – это наши мысли, они родились великанами: они простерлись с Востока до Запада, от земли до неба, они не только вмещают в себя Океан и все земли, они охватывают Солнце и Небесную твердь; нет ничего, что не вместила бы моя мысль, нет ничего, что не могла бы она в себя вобрать. Неизъяснимая тайна; я, их создатель, томлюсь в плену, я прикован к одру болезни, тогда как любое из моих созданий, из мыслей моих, пребывает рядом с Солнцем, воспаряет превыше Солнца, обгоняет Светило и пересекает путь Солнечный, и шага одного им на то достаточно».[66]
Оценивая роль астрологии в европейской культуре начала Нового времени, мы должны помнить о так называемой «теореме Томаса», выдвинутой еще в 10-е годы XX века одним из основателей Чикагской социологической школы Уильямом Айзеком Томасом: если люди определяют ситуацию как реальную, она реальна в своих последствиях.
Астрологические прогнозы в ту пору оказывали серьезнейшее влияние на повседневную жизнь, становясь ее «формирующим фактором». Приведем лишь один пример: в феврале 1524 г. наблюдалось соединение семи планет в зодиакальном знаке Рыб. Знак этот соответствует стихии воды, поэтому множество европейских астрологов предсказывало великие наводнения, вплоть до Потопа, которыми чреват наступающий год. В связи с этим приор аббатства Св. Варфоломея в Смитфилде выстроил дом на вершине холма Хэрроу и позаботился о том, чтобы в доме были созданы запасы провизии и всего необходимого, позволяющие пережить длительное стояние «большой воды».[67]
Говоря о возможных политических волнениях в 1602 году, которые он предвидит как астролог, Иоганн Кеплер в трактате «О более достоверных основаниях астрологии» пишет: «Заметим касательно конъюнкции Сатурна и Марса в сентябре <1602 года>. Как показывает опыт, при этих конъюнкциях души обычно впадают в оцепенение и замирают от страха или испытывают подъем в ожидании переворотов, и это обстоятельство весьма существенно для множества людей, собранных в одном месте ради какого-нибудь предприятия или с целью разрушить что-либо, как свидетельствует военный опыт. <…> Думаю, что военачальникам и правителям народов было бы небесполезно иметь в виду эти соображения; ибо для того, чтобы править множеством людей, необходимо быть весьма искусным в обращении с силами, которые оказывают влияние на предрасположения групп людей, и досконально знать эти силы. Например, если желательно сохранить мир и покой и имеются опасения относительно подстрекательств к бунту, то в августе и сентябре не следует допускать сборищ, а коль скоро сборище все же состоится, надлежит его прервать, а еще лучше быстро устранить причины, раздражающие предрасположения людей, либо прибегнуть к какому-нибудь сдерживающему или устрашающему средству, чтобы изменить умонастроения людей. Если же предстоит некое дерзкое предприятие, и проведение его сопряжено с необходимостью внушить ужас, то для осуществления его следует выбрать август».[68]
Leonhard Reinman. Practica uber die grossen und manigfeltigen Coniunction der Planeten. Nuremberg, 1524
Высокий статус астрологии в системе научного знания той эпохи зафиксирован в сборнике «Английский Парнас»: первое место там отведено теологии, но астрология следует непосредственно за нею и воспевается таким образом:
- Her hand-maides in Amazon-like attire,
- Went chaste and modest like Dianes traine,
- One by her gazing lookes seems to aspire
- Beyond the Moone, and in a high disdaine,
- To deeme the world and worldly reasures vaine.
- She hight Astrologie, on whole bright lawne,
- Shperes Astrolabes and skilfull globes are drawn.[69]
ASTROLOGIE
- [Сопровождающие ее девы – в нарядах амазонок,/ Шествуют, чисты и скромны, как процессия Дианы,/ Тот, на ком она остановит взгляд, – ему кажется, он воспаряет/ Выше Луны и свысока/ Смотрит на мир и мирскую неверную суету./ Она – Высокая Астрология, <царствующая> на сияющих горних лугах,/ откуда <пришло к нам знание о> сферах, астролябиях и искусно выполненных небесных телах].
По сути, астрология для того времени была не некой отдельной наукой, а целостным способом понимания Вселенной, рассматриваемой как единый организм, в котором все связано со всем цепью подобий, притяжений и соответствий[70] (ил. 10). В «Истории мира» Уолтера Рэли можно встретить следующий пассаж, достаточно характерно выражающий эти представления: «Человек, как был он сотворен и создан Господом, есть набросок или образ – или краткая повесть всей Истории Мироздания: в нем Господь заключил все творение, все, созданное Им в этом мире… И поскольку тело человеческое заключает в себе отражение всей Вселенной, и в нем соучаствует все, что есть в этом мире, то потому человек называется Микрокосмом или малым миром… Из глины и праха сотворена плоть человека, а потому тяжела и массивна; кости в его теле сравнимы со скалами и камнями, а потому крепки и долговечны… Кровь, что течет в теле его по венам, повторяющим своими очертаниями древесную крону, можно сравнить с водами, что разносятся по поверхности земли ручьями и реками, дыхание его подобно ветру, тепло его тела – тому жару, что заперт в глубинах земли… волосы на теле, придающие ему очарование или портящие его, подобны траве, покрывающей кожу земли… глаза наши подобны двум источникам света, коими являются луна и солнце, юность наша – цветам весны, длящейся столь недолго, – цветам, коим суждено иссохнуть под жарким летним солнцем и быть сметенными в небытие натиском зимы…»[71]
Фактически, учение о соответствии человека и мироздания, микрокосма и макрокосма было для литературы, искусства, философии и медицины той эпохи активной «порождающей метафорой», развертывающейся на всех уровнях бытия и связующей их воедино.
Астролог и медик XVII в. Николас Калпеппер утверждал:
«Если полагать все мироздание единым организмом, человека же – воспроизведением этого Вселенского тела в миниатюре, то лишь безумцы и невежи станут утверждать, будто звезды не оказывают влияние на тело человека, который есть творение в миниатюре и носит внутри себя звездное небо… Все же, что внизу, управляется тем, что наверху и испытывает его влияние…»[72]
Неудивительно, что язык астрологических описаний и прогнозов был хорошо знаком образованному английскому дворянину, как минимум, несколько раз в жизни обращавшемуся к астрологу: обычно родители заказывали гороскоп родившемуся ребенку, с учетом гороскопов определялся день свадьбы и то, будет ли этот брак счастливым…
Jacobus Rueff. De Conceptu, et Generatione Hominis. Frankfurt, 1587.
О размахе частной практики английских астрологов XVI–XVII вв. мы можем судить по дошедшим до нас дневникам трех лондонских «звездознатцев», подробно фиксировавших все обращения клиентов. Саймон Форман (1552–1661) занимался астрологией, алхимией и медициной. Шекспироведам его дневник хорошо известен в силу того, что в нем содержится упоминание о представлении одной из шекспировских пьес в театре «Глобус».
Нас же интересуют астрологические занятия Формана. Между 1597 и 1601 гг. он составлял около 1000 гороскопов в год.[73] Журналы, которые вел другой лондонский астролог, Уильям Лилли (1602–1681), свидетельствуют, что в период с 1644 по 1666 гг. он ежегодно составлял порядка 2000 гороскопов. Джон Букер (1602–1667) с 1648 по 1666 гг. выполнил около 1000 гороскопов. Следует заметить, что, скорее всего, эти трое астрологов – а в Лондоне в этот период работало около 200 звездознатцев, – были не самыми загруженными работой. Например, Николас Калпеппер, практиковавший в 1640–1654 гг., имел якобы по 20 клиентов в день.[74]
Ричард Годфри по рисунку Джона Балфинча. Саймон Форман. 1776
Неизвестный художник. Уильям, Лилли. Музей Ашмолиан, Оксфорд
По журналам Лилли мы можем судить о составе клиентуры астрологов той поры. Так, за период с июня 1654 г. по сентябрь 1656 г. Лилли было составлено 4403 гороскопа, причем записи о 638 клиентах (около 15 %) содержат указание их социального статуса. Среди последних 124 человека принадлежали к дворянству и знати, примерно столько же (128 человек) составляли купцы, ремесленники и работники, 104 – моряки и путешественники, отправляющиеся за море, 32 – военные.
Представление о самом спектре вопросов, которые задавали «звездознатцу», дает учебник астрологии, написанный в середине XVII в. англичанином упомянутым выше, Уильямом Лилли. В этом учебнике специально разбираются подходы к решению наиболее часто встающих перед астрологом задач. Среди них мы встречаем следующие: «Будет ли кверент (т. е. – задающий вопрос. – А. Н.) жить долго?», «Каким образом кверенту следует вести свои дела?», «Жив или нет отсутствующий член семьи?», «Какова будет судьба спускаемого на воду корабля?», «Вернется ли данное судно из плавания – или потерпит крушение?», «Суждено ли кверенту разбогатеть?», «Стоит ли покупать данный дом или землю – и будет ли удачным это приобретение?», «Следовать ли совету доброжелателя?», «Не хранит ли данная земля кладов и сокровищ?», «Будут ли у вступающего в брак дети от этой женщины?», «Выйдет ли девица замуж?», «Может ли что-то помешать устроиться данному браку?», «Есть ли у этой дамы возлюбленный?», «Где была утеряна та или иная вещь?», «Данная кража – совершена мужчиной или женщиной?», «Велико ли окажется состояние жены?», «Сохранит ли кверент свою должность?», «Будет ли освобожден приговоренный к тюремному заключению?», «Сможет ли военнопленный совершить побег?» и др..[75]
Уильям Лилли. Звездный вестник. Лондон, 1645
Гороскопы, как пишет Л. И. Тананаева, – одна из немногих отечественных ученых, занимавшихся связью астрологии и культуры XVI–XVII вв., – были особым «способом постижения человеческой натуры… Эти специфические образцы литературного и научного, по тогдашним критериям, сочинения имели своей целью анализ человеческого характера, интерпретируя его через посредство сложных спекулятивных аналогий-противоположностей с миром звездных знаков, планет, их положения и т. п.».[76] Так, сохранился набросок гороскопа, составленный для себя Кеплером.[77] Этот фрагмент «явственно раскрывает сам механизм мышления тогдашних людей, их подход к восприятию и истолкованию человеческого характера. И первое, что бросается в глаза при чтении этих страниц, – принципиальная установка на неотвратимую противоречивость, сложность души и ее врожденных свойств.
Характер, даже отчасти судьба человека предопределены заранее условиями его рождения. Черты этого характера как бы развертываются в будущее (правда, с учетом тех или иных возможных отклонений, зависящих от естественно-природных условий и космических ритмов)… Ощущение фатума, судьбы, стоящей над всеми человеческими начинаниями и усилиями, вечно колеблющихся весов Фортуны сопутствует всем предсказаниям и накладывает оттенок тревожной неустойчивости на все людские деяния.
Анализируя черты характера в сочетании с поведением планет, стремясь построить единую цепь, в которой различные природные свойства и материалы так или иначе воздействовали на человека, астрологи невольно приучались видеть этот характер в живом развитии: человек вступает в контакт с деревьями и травами, его счастье и горести зависят от звезд и морских приливов, камни лечат его или приносят тяжелые заболевания и т. п. Словом, речь идет все время не о социальных координатах человеческого бытия, а именно о психологических его аспектах, пусть в очень своеобразном, непривычном для нас освещении».[78]
Своеобразной иллюстрацией отношения человека той эпохи к своему гороскопу может служить миниатюра Николаса Хилльярда, изображающая Генри Перси, 9-го графа Нортумберленда. Среди современников тот получил прозвище «Граф Тайнознатец» за свое увлечение герметикой, магией, алхимией. Владелец едва ли не лучшего в Англии книжного собрания, знакомец астролога и алхимика доктора Ди, математика Роберта Хьюза, географа Томаса Хэрриота, один из патронов Кристофера Марло, Генри Перси был весьма неординарной личностью. Когда в 1593 г. он удостоился посвящения в Орден Подвязки, поэт Джордж Пил посвятил ему поэму, в первых строках которой говорилось:
- Renowned Lord, Northumberland's fair flower,
- The Muses' love, patron, and favourite,
- That artisans and scholars dost embrace,
- And clothest Mathesis in rich ornaments;
- That admirable mathematic skill,
- Familiar with the stars and zodiack,
- To whom the heaven lies open as her book;
- By whose directions undeceivable,
- Leaving our schoolmen's vulgar trodden paths,
- And following the ancient reverend steps
- Of Trismegistus and Pytbagoras,
- Through uncouth ways and unaccessible,
- Dost pass into the spacious pleasant fields
- Of divine Science and Philosophy..[79]
- [Преславный лорд, Нортумберленд, прекрасный цветок, / Любимец Муз, патрон и фаворит,/ Тот, кто художникам и ученым радостно покровительствует,/ И облекает в слова сложный узор Универсального Знания,/ Тот, у кого выдающиеся способности к математике,/ Прекрасно знает [пути] звезд и Зодиака,/ Перед кем небо – распахнутая книга,/ Тот, кто стремится к истинному, а не обманному/ Оставив вульгарные торные пути ученых педантов,/ И следует древней почтенной тропой/ Трисмесгиста и Пифагора,/ Путями тяжкими и непроходимыми,/ Стремясь к обширным, преисполненным сладостным полям/ божественной науки и Философии…]
На миниатюре Хилльярда (ил. 11) граф изображен лежащим на траве в некоем саду, огороженном квадратом живой изгороди. Слева от графа небрежно брошена на землю книга и шляпа, справа – кожаные перчатки. Темное одеяние графа наводит на мысль о «цветах Сатурна», ассоциирующихся с меланхолией. Семь деревьев, которые видит зритель, выстроены в весьма необычном порядке: четыре дерева расположены на центральной линии изображения и уходят вглубь перспективы, при этом на ветви самого ближнего из них висит странный балансир, где тяжелый серебристый шар – то ли свинцовая отливка, то ли некий планетарный глобус (на шаре нанесен некий рельеф) уравновешен птичьим перышком, рядом с которым дана латинская надпись TANTI – «равно»; на заднем плане видно два дерева, параллельные нижнему краю миниатюры и вынесенные за пределы зеленой изгороди; на переднем же плане, отчасти обрезанное левым краем миниатюры, стоит еще одно дерево, нижний сук которого спилен, – оно почти (не строго) параллельно дереву с подвешенным на нем балансиром. Пытаясь найти истолкование для этой миниатюры, Рой Стронг указывал, что здесь явственно сказалось «знакомство Нортумберленда с искусством математики, особенно в том ее аспекте, который связан с диаграммами и геометрическими формами, понимаемыми как нагруженные символическими и пифагорейскими смыслами – это восприятие их было свойственно Средневековью – и обогащено Ренессансным оккультизмом, в его герметическом и каббалистическом изводе».[80]