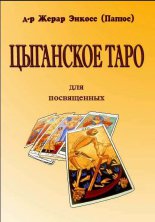Истина и закон. Судебные речи известных российских и зарубежных адвокатов. Книга 2 Козаченко Иван
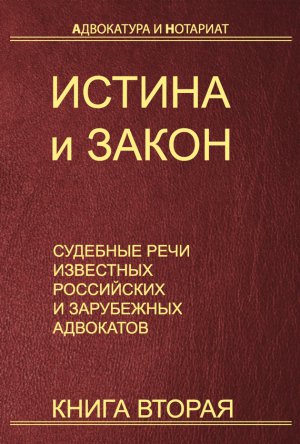
Часть III
Роковой случай
Вся наша жизнь соткана из случайностей, в неизведанной человеком глубине которых прокладывает себе дорогу закономерность. Вознесла ли вас судьба на Олимп счастья или подвела к губительному краю трагической пропасти – это все дело рук Господина Случая. Это он, словно невидимка, бесшумно и без приветствия, как к себе домой, входит в вашу жизнь. Это он чертит ходы вашего движения, на пути которого вам встречаются различные люди, впоследствии играющие в вашей жизни различные роли. Это он связывает невидимой нитью события и факты, либо как результат вашей жизнедеятельности, либо как ее предтеча. И он же безжалостно может порвать эту хрупкую, но так необходимую нам нить, нередко знаменуя тем самым роковой финал нашего земного бытия. Одним словом, пренебрежение случаем губительно.
Однако было бы странным предписывать всему ходу событий фатальный оттенок, создателем которого является все тот же случай. Через сонмище нередко неприметных случайностей упорно пробивает себе дорогу горделивая закономерность, эволюцию которой можно логически вычислить, просчитать и практически предвосхитить. Одним словом, закономерность можно познать и разумно поставить ее на службу собственным интересам. Вместе с тем о ее существовании можно узнавать «постфактум», то есть тогда, когда она проявила свой неукротимый характер, подведя человека к роковой черте.
Приведенные сентенции относительно дихотомической природы связи случая и закономерности, а также их роли в судьбе людей нашли свое яркое и неопровержимое подтверждение в описанных в этом разделе событиях.
Ораторское величие и практическая значимость выступлений адвокатов, защищавших интересы своих подопечных тем и поучительны, что они, правда, каждый в присущей ему манере, блестяще обнажили и обозначили ту демаркационную линию, которая четко разделила сферу беспредельного буйства случая и сферу сдержанной, но не менее коварной закономерности в жизни героев указанных в этом разделе событий.
Кроме того, профессиональный, функциональный и нравственный успех, которого добивались в судебных процессах адвокаты, в немалой степени обусловлен тем, что они сумели наглядно показать суду присяжных, что в подавляющем большинстве приводимых в разделе сценариев случай в жизни того или иного подсудимого обретал угрожающий статус рокового не без помощи слабой, а зачастую просто непростительно небрежной работы следователей и обвинителей.
Благородная память потомков о великих мастерах защиты Истины и Закона в мировом и отечественном правосудии тем и ценна, что они умели опуститься до осознания конкретного факта, касающегося судьбы отдельного человека, и затем возвысить значимость этого события до степени проблемы, заставляющей волноваться все общество. Профессионально отточенная методика позволяла им успешно двигаться от единичного ко всеобщему, от сложного к простому, от неясного к очевидному.
Дело де ла Ронсьера
Случайные обстоятельства, преломленные в болезненно экзальтированном душевном состоянии Марии Морель, оказались роковыми в судьбе де ла Ронсьера, невинно осужденного к десятилетнему заключению за ложное (по мнению адвоката Шэ д’Эст Анж, защищавшего интересы подсудимого) обвинение в покушении на изнасилование.
Немалую роль в принятии судебного решения сыграло личное признание де ла Ронсьера, полученное обвинением под давлением неблагоприятно сложившихся для него обстоятельств, поставивших его в состояние отчаяния и безысходности.
Терроризирующая сила случайностей, возведенная неумелой, но упрямой рукой обвинения, в ранг кажущихся закономерностей, была столь привлекательной, что сумела свести на нет блистательную по форме и убедительную по логике речь в защиту де ла Ронсьера великолепного французского адвоката Шэ д’Эст Анж[1].
Эмиль де ла Ронсьер, офицер французской армии, поручик, был предан суду по обвинению в покушении на изнасилование дочери генерала Мореля – Марии Морель. Согласно обвинительному акту, обстоятельства этого дела были следующие. В ночь на 24 сентября 1534 г., несмотря на то, что дом генерала Мореля и вход в него охранялись часовым, ла Ронсьер сумел проникнуть в комнату Марии Морель и пытался ее изнасиловать. После долгой борьбы с покушавшимся Морель закричала о помощи, на ее крик прибежала горничная Аллен, и ла Ронсьер вынужден был бежать.
В деле ла Ронсьсра, как оно описано в обвинительном акте, много противоречий и неясностей. Прежде всего неясно, каким путем мог проникнуть ла Ронсьер в комнату Марии Морель, расположенную во втором этаже, с окнами, выходящими на фасадную сторону дома. По версии обвинительного акта, ла Ронсьер осуществил свое намерение с помощью подвесной лестницы, специально сооруженной им для этой цели. Однако ни самой лестницы как вещественного доказательства, ни каких-либо следов от нее на выступах дома, к которым ла Ронсьер будто бы ее подвешивал, обнаружить не удалось. Это обстоятельство весьма убедительно и остроумно подвергается разбору в речи адвоката. Защитник энергично отвергает и второй факт, зафиксированный в обвинительном акте: что ла Ронсьер попал в комнату Морель через окно, для чего он, находясь на подвесной лестнице, вначале пробил в стекле небольшое отверстие, а затем, просунув в отверстие руку, открыл все окно. Большое внимание в своей речи защитник уделяет анализу мотива преступления. По мысли обвинительного акта, мотивом преступления явилась месть за отвергнутую матерью Марии Морель любовь к ней со стороны ла Ронсьера. Кроме того, обвинительный акт не исключает и того, что попытка изнасилования может быть объяснена как способ вынудить родителей Марии Морель выдать ее замуж за ла Ронсьера. Последний в этом случае получал возможность попасть в хорошую семью, избранное общество и получить приличное наследство. Защитник обстоятельно разбирает эти мотивы и полемизирует с обвинительным заключением в той его части, где говорится, что ла Ронсьер постоянно шантажировал семью Морелей, систематически забрасывал их (мать, отца, дочь) непристойными письмами, наполненными руганью, бранью, угрозами. Здесь же защитником анализируются заключения экспертов-графологов, мнения которых относительно сходства почерка ла Ронсьерa и того почерка, которым написаны письма, разошлись. Важной уликой, изобличающей ла Ронсьера в преступлении, обвинительное заключение считает его признание. Защитник не оставляет и это без внимания. Показав, в каких условиях было дано признание и чем оно вызвано, защитник высказывает ряд интересных мыслей о значении признания обвиняемого, о его юридической природе. Наконец, в обвинительном акте, также в качестве улики, указывается тяжелая болезнь Марии Морель, последовавшая сразу после покушения. Обвинительный акт расценивает эту болезнь как неоспоримое доказательство факта преступления, считая, что болезнь явилась следствием душевной и физической травмы, нанесенной девушке преступлением. В речи рассматриваются и другие, более мелкие обстоятельства данного дела. По делу, помимо основного виновника – ла Ронсьера, к ответственности были привлечены в качестве его сообщников служанка Морелей – Юлия Женье и дворник дома (он же камердинер) – Самуил Жильерон. Дело рассматривалось 5 июня 1835 г. Сенским окружным судом с участием присяжных заседателей. Защитником ла Ронсьера выступал Шэ д’Эст Анж, интересы гражданского истца представлял Пьер-Антуан Беррье. Таким образом, в этом деле процессуальными противниками оказались два крупнейших французских адвоката. Надо сказать, что Шэ д’Эст Анж учел это в полной мере. Его речь в защиту ла Ронсьера свидетельствует о глубоком знании дела, о большой предварительной подготовке. Речь Шэ д’Эст Анжа в защиту ла Ронсьера справедливо считается одной из лучших его защитительных речей.
Защитительная речь Шэ д’Эст Анжа по своей конструкции исключительно проста. В основу ее он положил разбор обвинительного акта и, надо отдать ему должное, сделал это мастерски. Ни одного обстоятельства не оставил он без анализа, ни одного факта из обвинительного заключения не пропустил. Речь его полна остроумия и тонкого юмора, она насыщена удачными сравнениями и образными выражениями. В то же время речь Шэ д’Эст Анжа совершенно лишена каких-либо прикрас, неумеренных выпадов по адресу противника, пышных и эффектных тирад. Здесь все дано в меру, а последовательность и исключительная логика изложения делают речь на редкость колоритной и убедительной. В ней, правда, есть некоторые повторения, а также растянутые рассуждения, но надо иметь в виду, что Шэ д’Эст Анж не писал текстов своих речей заранее и в этих условиях ему, конечно, трудно было избежать недостатков импровизации, не видимых ему, но заметных со стороны. В целом же следует полностью согласиться с К. К. Арсеньевым, который писал по поводу речи Шэ д’Эст Анжа в этом процессе: «Защита ла Ронсьера представляется во многих отношениях настоящим образцом адвокатского искусства. Характеристика самого обвиняемого, тонкое и вместе с тем ничуть не натянутое объяснение фактов, всего более опасных для защиты, деликатное и вместе с тем твердое отношение к показаниям обвинительницы (имеются в виду показания Марии Морель. – Ред.), тщательный разбор обстановки, при которой будто бы было совершено преступление, – все это не оставляет желать лучшего».[2]
Здесь же, после речи Шэ д’Эст Анжа, дается реплика представителя гражданского истца Пьера-Антуана Беррье. В сборник не включены речи Беррье, поэтому было бы неправильным считать, что помещенная здесь реплика выражает характерные особенности его творчества. Напротив, она не может быть отнесена к числу лучших его адвокатских выступлений. Публикуется же она с одной лишь целью: чтобы более выпукло показать защитительную позицию по данному делу Шэ д’Эст Анжа (по этой причине реплика Беррье дается в сокращении), а также чтобы более рельефно отразить характер полемических приемов, свойственных французским судебным ораторам. Что касается самой реплики, ее достоинств и недостатков, то на первый взгляд она выглядит несколько тусклой и скучной. Однако при внимательном чтении речь Беррье увлекает до такой степени, что от нее трудно оторваться. К сожалению, при чтении речей Беррье не хватает очень существенного – его голоса, дикции, ораторской выразительности, без чего восприятие их становится более трудным. Об этой особенности речей Беррье много написано его современниками. В частности, в одной из книг говорится следующее: «Речи Беррье никогда не были составлены для библиотечной полки. Их с удовольствием находят там, но нужно все напряжение фантазии, чтобы воскресить то высокое волнение, которое производил оратор, произнося их (курсив наш. – Сост.). На самом деле ни стиль, ни изысканная фраза, ни глубокая эрудиция не составляли еще сами по себе силы этих речей. Лишь оратор придавал им жизнь. В минуты того заразительного опьянения, которое производит истинное красноречие, достаточно было одного жеста, одного взгляда Беррье, чтобы заставить задрожать всю аудиторию… Но особую притягательность, неотразимую силу заключал в себе его голос, вибрации и гибкость которого были способны выразить все оттенки чувства. Глубокое убеждение, ирония, нежность, негодование – для всего его голос находил то, что именно было нужно в данную минуту».[3] Таковы, кратко, особенности красноречия Пьера-Антуана Беррье.
Шэ д’Эст Анж. Речь по делу де ла Ронсьера
Господа!
Чем ужаснее преступление, тем меньше надо улик, чтобы осудить, – таково было руководящее правило инквизиции. В наших глазах оно кажется диким и опасным, но, помимо своей воли, мы сами преклоняемся перед ним.
Когда нам расскажут о великом злодеянии, таком, например, как оглашаемое в этом зале ныне, когда мы вдруг узнаем, что оно направлено против целой семьи, дышит упорной, адской злобой, сосредоточено на юной, слабой девушке и выразилось оскорблениями, насилием, беспримерной жестокостью, каждый принимает сторону жертвы и негодует. И чем благороднее наши чувства, тем легче создается предубеждение, тем с большей слепотой возмущаемся мы.
Эти роковые ошибки погубили уже много невинных; без сожаления окунули в грязь и де ла Ронсьера, но я не могу их порицать.
Никто не переживал их чаще меня, никто не увлекался искреннее. Был случай, когда отцу, убитому скорбью и молившему о защите сына, я дал ответ, горько оплакиваемый мной самим и, в свою очередь, достойный молений о пощаде: «Мне!… Идти помогать вашему сыну… Нет! Нет! Он сделал мерзость, и мое пламенное желание явиться от имени потерпевшей, а светлым днем моей жизни было бы услышать обвинительный приговор!» (Общее удивление.)
Увы! Я это сделал. Неприличные и жестокие слова! Однако, снисходя к неотступным просьбам и выслушав старика, уразумел я, что не имею права отталкивать подсудимого раньше беседы с ним, что моя обязанность, мой долг адвоката – сначала знать, а потом судить.
Этот долг я уплатил. Все изучив, обдумав, взвесив, я хочу теперь пред вами и общественным мнением погасить другой.
Хочу дать руку помощи человеку, неправедно гонимому влиятельной семьей, заочно приговоренному слепыми страстями.
Да не увлекут вас, господа, ни они, ни ужас преступления. Общее предубеждение да не осмелится поднять головы до этих кресел!
Выслушайте меня без симпатии, но и без гнева. Не прошу ни о чем более, а потому верю, что отказа не встречу. (Глубокая тишина.)
Барон Морель несколько лет уже командует кавалерийским училищем в Сомюре и обыкновенно живет один. Его супруга занята в Париже воспитанием детей. Только раз в году, ко времени смотров, семья приезжает в Сомюр, и мадам Морель является хозяйкой дома.
В том же училище как офицер-инструктор служил молодой уланский поручик Эмиль Клемент де ла Ронсьер, сын генерал-лейтенанта графа Клемента де ла Ронсьера. Я ничего не скажу об отце. Ни одним словом не буду мстить от его имени за подметное письмо, возмутительный пасквиль, адресованный при начале процесса суду. Какое кому дело здесь, что этот отец покрыт восемнадцатью ранами, что в боях за отечество он проливал кровь, остался изуродованным, нищим и что никто не отымет у него славы, почета и уважения! Не об этом надо мне говорить. О сыне, что такое сын, – вот о чем должна быть речь. Однако, призванный открыть истину пред лицом всего света, я обязан сказать ее и тому, кто нам ближе других, кто хранит наши духовные силы, – теперь не покидает нас!
Граф де ла Ронсьер на службе усвоил за правило быть аккуратным, требовательным, очень строгим. Эти военные приемы он внес и в домашнюю жизнь. Имея сына, с характером пылким, может быть, тяжелым, он решил его обуздать и не прощал ничего.
Такая крайняя суровость не могла, разумеется, не повредить воспитанию. Исчезло благотворное, взаимное доверие, присущее таким близким друг другу людям, а сын, запуганный отцом, – все равно в детском ли возрасте или, будучи офицером, – не мог, согрешив, найти в родном сердце теплого, верного убежища. Отсюда явились промахи, которыми упрекают его ныне.
В чем состояли ошибки, до какой степени заблуждался он, – первый, основной вопрос.
Переходя к нему, я должен отметить следующее. Вчера наш главный противник, поверенный гражданского истца, объявил, что, по его мнению, в уголовном судопроизводстве не имеет смысла предыдущая жизнь обвиняемого, какова бы она ни была, и что даже неприлично заниматься ею.
Плохая теория! Когда над человеком висит грозная кара, не лишнее, думаю, посмотреть, чем он был ранее. С другой стороны, мой противник, впадая в странное противоречие, сам применил к настоящему делу то, чего не допускает в принципе, и перешел всякие границы права, им же отрицаемого. Будучи сам обманут, он оклеветал все прошлое, целую жизнь Эмиля де ла Ронсьера.
Так, он сказал вам, что подсудимого выгоняли из нескольких полков! Это неправда. Ла Ронсьер вышел в стрелки, прекрасный род оружия, где встретил молодых людей из хороших семейств, ведших роскошную жизнь, не считая денег. Увлеченный примером, он наделал долгов; не мог их не иметь.
Отец рассудил, что платить надо, но следует перевести сына в другой полк. Признаю, что здесь он опять задолжал. Но нельзя не вспомнить, что в это время тяготели еще старые обязательства, о которых целиком он не смел сознаться.
Новая путаница. Приезжает отец, говорит: «Ты уже съел часть моих жалких средств. Отправляйся, голубчик, туда, где не надо денег, или, по крайней мере, где их тебе не дадут!». И посылает сына в Кайенну.
Не было ли это чересчур строго? Не видим ли опять жестокости как главного элемента поучений родителя?
Отслужив в Кайенне, Эмиль просит у отца позволения вернуться и получает его. На первом же свидании, в кругу родных, старик дает понять, что не простит впредь ничего, а если появится хотя один долг, то не захочет ни видеть, ни слышать о сыне. Едва покинув изгнание, вот как юноша был встречен отцом, человеком, бесспорно, добрым, но желавшим еще раз проявить спасительную строгость. Напуганный угрозой, Эмиль поступает в пехоту, а затем, по желанию отца, в уланы. Новых долгов больше не было; нельзя же считать трех или четырех сот франков, оставшихся за ним в Сомюре. Отзывы начальства улучшились: «Он стал бы первым везде, если бы хотел. Но вольнодумство и легкомыслие мешают».
Значит, вот его пороки: легкомыслие и вольнодумство! И вы их заметите в этом процессе повсюду; они – его главная беда, его несчастье, злой рок. Но что значит быть вольнодумцем? Несколько сарказмов, шуток в отношении товарищей или старших, и человеку готовы враги; удобный момент, и их месть не заставит ожидать себя. Он легкомыслен; нет последовательности, устойчивости, он мечется без идеи и цели, бросает одно, не кончив другого.
Не забудьте же этих слов: дерзок и ветрен. В них его характер и причина всего дальнейшего. О его поведении следствие заключает важный документ. Капитан Жакемэн пишет: «В качестве начальника дивизиона, где служил ла Ронсьер, удостоверяю, что этот офицер держал себя прилично, работал усердно, был достаточно знаком с военными науками и что за последнее время его поведение мне казалось даже исправнее и достойнее». Вспомним, что показание дано, когда, будучи привлечен к страшному делу, обвиняемый уже ни в ком не находил симпатии, а, запятнанный общественным мнением, заранее осужденный, он потерял веру в людей. Тем не менее очевидно, что он начал исправляться. Не скрою, что кое-какие долги и сожительница оставались; но, мне кажется, всякий, говоря о молодом кавалерийском офицере, согласится с капитаном Жакемэном. «Я снисходителен к долгам и любовницам!» – заявил храбрый командир и мог это сказать, ибо, по общему отзыву, трудно встретить человека более скромного и умеренного, чем он сам.
Вы слышали, однако, что ла Ронсьер груб и жесток, что его даже наказывали за эти пороки. Но в чем же дело? Не в том ли, что, натолкнувшись среди сельского гулянья на ссору солдат с крестьянами и желая сберечь честь оружия и достоинство мундира, он с одиннадцатью товарищами увлекся шумом, суматохой праздника и рискнул вмешаться, дабы устранить насилие. Все двенадцать офицеров уже наказаны в дисциплинарном порядке. По какой же системе еще хотят вырвать у вас новую кару для одного ла Ронсьера?
Не в том ли, с другой стороны, что как-то в Сомюре, когда рядовой не отдал чести поручикам ла Ронсьеру и Амберту, они не удержались от грубых слов и поступка, достойного порицания? Но ведь кто из них и в чем виноват, мы не знаем.
Таковы все упреки. Несколько увлечений, шалостей, долгов, любовница – вот содержание обвинительного акта о его прошлом. И я хотел бы знать, кто из офицеров школы Сомюра, начиная с командующего генерала и до последнего корнета, оглянувшись на свою собственную жизнь, счел бы себя вправе отнестись к подобным фактам столь беспощадно. Особенно в настоящем споре, где замешаны такие важные интересы, где грозят жизни подсудимого, а честь целой семьи, говорят, в опасности, не должно быть места ни страстным нападкам обвинения, ни подозрительным дифирамбам защиты.
Совершив преступление и сознавая необходимость оправдаться, виновный, конечно, может подготовить свидетелей и иные доказательства. Но вы их отвергнете и не дадите веры ни облыжным данным, ни свидетелям, заучившим показания перед самым допросом.
Но когда есть возможность разведать о жизни обвиняемого задолго до предания суду и раньше события преступления, проникнуть в сердце, исследовать самые потаенные его уголки, обнажить помыслы, раскрыть душу человека, о, тогда нельзя не верить, что он весь перед вами, каков он в действительности без задней мысли, без притворства и лжи!
Судебная власть захватила все бумаги ла Ронсьера, его заметки и письма, то есть документы важные и которых он не желал оглашать, наоборот, рассчитывал сберечь для себя самого, но с которыми не мешает познакомиться теперь.
Рассмотрим же их, зная, что подсудимый не имел цели притворяться перед вами, писал, что думал. Поищем сведений о его характере, привычках, страстях, о его жизни вообще.
Одну из его слабостей вы уже знаете. У него была любовница, женщина, с которой он жил давно, – Мелани Лэр… Здесь говорили, что он увез ее из семьи и опозорил… Увы, это могло случиться. Сколько других, уважаемых и гораздо выше поставленных в мире людей делали то же самое! Но ла Ронсьер не повинен в этом. Мелани имела другую связь; у нее был даже сын, и ее кинули, бросили на улицу с этим ребенком. Кое-какие несчастные крохи едва покрывали ее нужды. Ла Ронсьер встретил ее, и стали жить вместе. Впрочем, бедной Мелани не повезло опять: вмешалась военная дисциплина. Какой скандал! Офицер живет с любовницей! Пусть отымет жену у соседа, обольстит дочь приятеля – это принято, но пусть не делает истории!… Жить с девушкой, которая ничего не теряет, помилуйте, ведь это позор, его надо пресечь!… Так возглашала неумолимая воинская дисциплина. Но он любил Мелани, и, как видно из переписки, они верили друг другу. Любя, он противился требованию разойтись. Это ставят ему в счет. А так как в данном процессе все обращают в улику, то и вы могли бы сказать, что он негодяй, когда против первого нападения не отстоял женщины, которую любил. Но он знал, что малейшая жалоба – явится отец, бросит ему в глаза упрек за новый скандал на целый город, и Мелани ушла.
Начинается переписка.
Господа! Вам долго читали гнусные письма, ему навязываемые, но которых он знать не хочет. Позвольте же прочитать те, которых он несомненный автор. Начинаясь издавна, они приближаются к моменту преступления, над ним тяготеющего. Эти письма, бесспорно, его, отобраны внезапно, даже в конвертах с почтовыми клеймами. Вот где его сокровенные помыслы, тайны, где он весь налицо. У ла Ронсьера была родственница госпожа Шеланкур, добрая старушка, простая и снисходительная, как все бабушки, легко извиняющие увлечения безумной молодости, запутавшейся в долгах. Вот что говорит он о ней в письме к Мелани Лэр.
«В воскресенье получил я длинное послание бабушки.
Как мать, журит она меня, уверяет, что, не будь я в горе, бросила бы на произвол судьбы, но что теперь она не в силах на это решиться. Спрашивает, чем могла бы помочь, обещает пустить в ход все, чтобы выручить из беды, и оканчивает предложением своего кошелька…
Это письмо заставило меня плакать, друг мой… Отвечал я, как ты сама предполагаешь, что не могу принять такой жертвы. Нравственный долг не допускает иного образа действий!»
Вот, господа, человек, гоняющийся только за деньгами, ничем не брезгающий ради них.
В другом письме читаем: «Моя бедная собака…!». А, господа, не смейтесь над этими подробностями, они имеют важное значение; нередко человека определяют незначащие факты, мелочи, с виду ничтожные, иногда разоблачают его целиком. По этому поводу не могу не вспомнить, что здесь же, будучи, в свою очередь, гражданским истцом в уголовном деле, я достиг обвинения, смертного приговора для человека 20 лет от роду, который, прежде чем перерезать горло другу и своей матери, забавлялся в детстве и юношестве мучением собак и выдергиванием перьев у живых птиц.
«Моя бедная собака третьего дня на пути со мной в манеж потерялась. Я заходил в ложу, где мы бывали с тобой. Там мой пес отстал, и его заперли. Вырвавшись только через двое суток и умирая с голоду, он прибежал домой. Он все так же невзрачен и глуп, но всегда ласков, и я люблю его…»
Ниже, сообщая равные новости, ла Ронсьер пишет: «Все в доме больны; госпожа Адель уже восемь дней не встает с кровати; нищета ужасная; стараюсь обеспечить уход за больной и посылаю лекарства».
В следующем письме он дает советы девушке, с которой уже разошелся, боится ее забывчивости и легкомыслия, просит быть осторожней.
«Вот месяц, как я не знаю, что с тобой и вспоминаешь ли обо мне? В Париже увлечься не трудно; там все помогает забвению. Помни, моя милая, что у тебя нет и не будет лучшего друга, чем я. Ты, может быть, встретишь пылкое чувство, но любовь – едва ли. Париж переполнен всякими людьми, и, не имея весточки, я начинаю беспокоиться, что ты попала к ним в руки, что уже играют тобой! Мои слова не будут истолкованы дурно, не правда ли? Ты ведь поймешь, что, зная парижские нравы и соблазны, видя там тебя одну, я не могу не опасаться. Верь же мне, будь осторожна и не пожалеешь. Говорю не вздор и повторяю как твой старый друг».
Наконец, еще письмо:
«Решаюсь напомнить советы, которые я давал тебе от чистого сердца. Не забывай, милое дитя, что они необходимы для тебя самой. Подумай и, конечно, согласишься, что если посещение некоторых обществ гибельно для мужчины, то еще опаснее женщине. Мы забавляемся между прочим и пока сами хотим. Вас тянут другие туда, где совсем бывать не следует. Сердце и легкомыслие бессознательно увлекают в раз принятом направлении, – а первый шаг сделан, и вам нет возврата».
Таковы письма. Вот его миросозерцание, и, прочитав всю переписку, я мог бы лишь подтвердить общий вывод. Теперь, когда раскрыты его сердце, убеждения, заветные подробности его жизни, вы знаете, о чем и как он думал. Не подлежит сомнению, что эти данные предназначались не для суда; их могла видеть только одна пара глаз – друга, любимой женщины; будучи главной слабостью автора, она знала его тайны, притворяться было нечего! А если он говорил искренне, если письма не должны были идти никуда больше, но попали к вам, то они имеют силу доказательства.
И, однако, чем ни клеймят его! Нет черного предательства, нет низости и мерзости, пред которыми он остановился бы.
Жены, оскорбленные и поруганные, убитые горем и отчаянием; мужья, над которыми он вволю издевался; сцены позора, скорби и печали, где они? Кто их видел? Кто может указать? Их нет, вопреки тому, что свидетелей разыскивали повсюду, что из города в город следили за обвиняемым, допытываясь злобных намеков, которые могли бы его обесчестить и погубить…
А, понимаю! С целью придать вероятность беспримерному, как и самая болезнь госпожи Морель, злодеянию, неслыханному, ничем не объяснимому, ни для кого не выгодному преступлению, событию, для человека недоступному, надо было изобрести призрак, также никем не виданный, адский, чудовищный! В нем лежал центр тяжести обвинения. Мои противники поняли это, и в их руках ла Ронсьер стал ядовитым исчадием геенны, демоническим существом, которое творит зло без ненависти, выгоды и причины.
Я спрашиваю, что общего между этим изобретением фантазии и человеком, преданным вашему суду, письма которого только что прочитаны, который плачет над словами бабушки Шеланкур, любит собаку только потому, что она к нему ласкается, спешит на помощь страдалице, едва узнав о ее нищете, оберегает Мелани благоразумными советами и дрожит за участь любовницы, совсем покинутой и затерявшейся в Париже среди всяческих его соблазнов.
Итак, кто подтасовал и возмутил общественное мнение, когда сам горемыка попал в секретную камеру острога и был лишен всяких средств к защите? Кто посеял негодование, разнес клевету, поднял бурю против него? Увы, не знаю и не могу найти источника. Вижу одного подполковника Сент-Виктора, кидающегося в разные стороны и на погибель ла Ронсьеру допытывающего свидетелей, которые, однако, или ничего не знают, или готовы уличить самозванного прокурора во лжи. Сент-Виктор, и только он, помощник генерала Мореля по Сомюрской школе, редактирует сплетни, пишет доносы, кормит следствие, главным образом своими показаниями, и льет в толпу яд злословия, убивая подсудимого заранее, бесчестно, из-за угла, отымая у него жизнь!
Но, как бы ни было, мы имеем дело с отвратительным, гнусным преступлением; нет сил передать, какой ужас оно мне самому внушает, – и вот обвиняемый! Кто он, каково его прошлое, его взгляды, наклонности, – вы уже знаете. Это легкомысленный, но благородный человек; его молодость не свободна от ошибок, но у него в сердце есть хорошие чувства. Имея слабости, подобно всем нам, здесь находящимся, слабости, извиняемые капитаном Жакемэном, он не способен, однако, на мерзость, низость или предательство. Вот почему я считаю себя вправе вернуть обвинителям, по принадлежности, их чудовищное создание, как ни необходимо оно им для процесса и как ни превосходит оно «Фауста», «Дон-Жуана» и другие творения наших поэтов.
Около половины августа 1834 года в Сомюр приехали госпожа Морель, ее дочь Мария, девушка лет 17, сын Роберт, мальчик, и мисс Аллен, гувернантка, обязанная также готовить постель Марии и занимавшая обычное двусмысленное положение между воспитательницей, образующей ум, и горничной, подметающей комнаты.
С этого времени у Морелей начались обеды и вечера.
На каком счету у своего начальства был де ла Ронсьер в это время? На дурном? Нет. Что думал о нем Жакемэн, известно, а сам генерал не переставал оказывать ему полное благоволение. В одном из писем, отобранных у Мелани Лэр, читаем: «Вчера я обедал у генерала. Он был чрезвычайно любезен со мной». Письмо от 28 июля.
В конце августа у генерала обед; ла Ронсьер опять приглашен, – мало того, его посадили рядом с Марией. Демон и ангел вместе! Удивительно. Говорят, что это простая случайность, а я думаю, что если на званом обеде есть место, которого нельзя предоставить случаю и первому встречному, то это возле девушки 17 лет, особенно в городе, где много военных. Заметьте, что такой элементарной предосторожности не принимают; ее считают лишней в отношении ребенка, так свято воспитываемого. Ее не принимают…
О ней забыли! А между тем, если верить обвинению, Морель-мать преследовала мужа упреками с первого же дня, когда он пригласил ла Ронсьера. Полагаю, что вместо ссор с мужем было бы лучше посматривать за дочерью.
Впрочем, пусть молодые люди оказались рядом нечаянно. Что дальше? Ведь его занимает тяжкий умысел, пора действовать, надо пользоваться минутой… Нет, во время обеда ничего особенного не случилось. Лишь после, когда перешли в гостиную, он ни с того ни с сего подходит к Марии и говорит: «У вас прекрасная мать! Очень жаль, что вы на нее так мало похожи».
Найдется ли хоть один человек, кто поверил бы подобному эпизоду? Какой негодяй, какой безумец решился бы сказать нечто подобное? Рассудите, господа, сами. Вспомните, что такое генерал вообще относительно поручика и что значит генерал барон Морель, начальник кавалерийского училища, человек с громадными связями, для незначительного субалтерн-офицера, вдобавок замеченного кое в чем и старающегося загладить свои недостатки пред начальством и строгим отцом. И вот офицер за столом генерала; к нему внимательны, даже посадили или позволили сесть рядом с дочерью. В благодарность за это гость бросает ей дерзкие, непозволительные слова. Чем объяснить их? Привык он что ли так позорно держать себя у графов Шеланкур, Сен-Дени или у генерала Роберта? Не видел он порядочного общества? Наоборот, ряд свидетелей удостоверил, что, бывая в лучших домах и среди избранных женщин, он вел себя безукоризненно. Так было всегда и лишь у генерала Мореля иначе. Здесь ла Ронсьер ничего не помнит и нагло, без всякой причины, оскорбляет кроткую, прелестную девушку.
Повторяю: кто этому может поверить?! Но вот серия новых фактов. Это было в августе. Несколько дней, и квартира генерала Мореля наводняется подметными письмами. Вы уже знаете, господа, и я прошу внимательно запомнить, что они являются не в первый раз. Генерал очень несчастлив, и если никто не обеспечен от преследований такого рода, то, по-видимому, судьба взъелась главным образом на Мореля.
Уступим ему, признаем, что в ноябре 1833 и апреле 1834 года безымянные письма попадали к его семье в Париже лишь случайно. Пусть в них не было ничего важного: говорилось о мисс Аллен, о том, что она слишком молода для гувернантки, – это, кажется, правда – и о каком-то учителе, которому не следовало показываться, но который тем не менее приходил; затем еще какой-то вздор, бессмысленные угрозы и сведения об обществе «голых рук». Недоумеваю, где такое общество… «голых рук»?!
Письма, являющиеся вслед за тем, повествуют лишь о любви к Морель-матери. Но, обладая прежде всего умом, она, конечно, относится с презрением, забывает о них вполне и вовсе не думает нарушать ими покой своего мужа. Однако вскоре они приобретают характер ужасающий. Не о любви уже идет речь. Не говорят ни о чем, как о насилии и угрозах. Все, что в английских романах есть самого мрачного, расточается здесь щедрой рукой. Самое количество писем возрастает изо дня в день. Они приходят по почте, но какая-то неведомая рука подбрасывает, распространяет их по всему дому.
Кто виноват во всем этом? Эмиль де ла Ронсьер. Он ли автор первых писем? Имел ли он, по крайней мере, возможность писать их? Нет и нет.
Спокойно живя в Сомюре, не будучи знаком с семьей Мореля, даже не встречавший ее никогда и не ведавший интимных подробностей, только что изложенных, ла Ронсьер не мог, разумеется, подыскивать корреспондента в Париже, дабы отправлять через него ноябрьские и апрельские пасквили. Они к делу не относятся, и даже здесь никому не приходило в голову обращать их в улику.
На каком же основании навязывают ему письма, адресованные позже, в Сомюре?
А, видите ли, потому, что около этого времени супруги Морель также получали безымянные послания, заставившие их бежать из города. Но разве ла Ронсьер тому виной? Нет, его не подозревали ранее возбуждения процесса Морелем, и пока еще клевета не успела запятнать его. Сплетня возникла лишь, когда открыли, что это чудовище проводит жизнь, сочиняя подметные письма.
В сентябре 1834 года переписка приобретает характер более важный, и хотя еще не внушает особого беспокойства, однако становится нетерпимой: Морель-матери было назначено что-то вроде свидания… Она решается, наконец, все рассказать мужу. Генерал открывает окно и видит, что к его дому через мост идет ла Ронсьер; прошел мимо, вернулся и снова прошел под окнами. Так ли это было, можно ли этому верить, когда говорят только члены семьи Мореля, по их собственным словам, глубоко заинтересованные в настоящем деле? Впрочем, ла Ронсьер не может отрицать всего. Мост через Луару не только бойкий пункт, где приходится бывать каждый день, но и место прогулки жителей Сомюра.
Но, говорят, есть другие улики. Письма ла Ронсьером подписаны. Как подписаны?… Да уж полно, его ли рукой?
Значит, он сам хотел себя погубить? Ведь при этом условии генералу ничто не мешало быстро почувствовать свое негодование. Я понимаю, что позже, когда страшное событие повергло в отчаяние целую семью, когда матери пришлось хоронить ужасную тайну, а молчанием прикрывать раны дочери, ла Ронсьер мог рассчитывать на безнаказанность. Но пока таить было нечего, и в предосторожностях цели не усматривалось!
Итак, автор известен: стараясь изменять почерк, он подписываться не забывал. Его гибель неизбежна, ибо – еще раз – к чему секреты?
Примените же, господин начальник школы в Сомюре, всю строгость военной дисциплины; прогоните негодяя, который вас оскорбляет и грозит вашим домашним, или, по крайней мере, черкните пару слов его отцу. Он явится и отомстит за вас. Грозно отнесется он к бесчестному, скверному деянию, недостойному французского офицера; ведь оно позорит самое имя ла Ронсьера… Вы молчите, однако? Не жалуетесь? Почему? Сообразите: дело идет все хуже и хуже; это уже не мимолетная выходка легкомысленного человека, рискнувшего на шутовство дурного тона или на безразличные угрозы. Нет, нет! Это целая система, правда, грубая, но последовательная и настойчивая. Вас обливают грязью каждый день, и, берегитесь, ее приносит неизвестная, но, очевидно, близкая рука. Зараза проникла в самое сердце вашего дома. Медлить невозможно… Кто же на вашем месте не содрогнулся бы от гнева? А если вы, генерал, человек испытанной твердости, успели овладеть собой, то несчастная мать, ваша супруга, бодрствуя над честью дочери, разумеется, не могла найти покоя ни днем, ни ночью!
Между тем ла Ронсьер орудует беспрепятственно. Происходит нечто непостижимое: поручик ежедневно и за своей подписью издевается над генералом, а ему никто не мешает! Разгуливая на свободе, он имеет возможность развивать свои мерзкие планы в гостиных самого Мореля…
Это главная задача его жизни; посвятив себя исключительно подметной литературе и пользуясь моментом, изучает он, неизвестно, впрочем, для какой цели, роды скорописи; то изменяет почерк, то пишет без всяких уловок, ежеминутно рискует честью и жизнью и ничем не занимается больше.
Но если это человек легкомысленный и вздорный, то упорство, с которым он, вопреки опасностям и, не страшась очевидной гибели, следует одной идее, может быть объяснено только необыкновенными выгодами. С другой стороны, если презрение – лучший ответ на пошлые любезности и беспокойство целой семьи, то разве до тех пор, пока угрозы не обращены к исполнению. За этой границей – как не мог не видеть сам ла Ронсьер – все кончено. Таким образом, переходя от слов к делу, он должен был иметь серьезный противовес невзгодам, логически вытекающим из преступления, могучий расчет, способный вознаградить за потерю доброго имени и позор всей жизни.
Станем же искать мотив. Найдем – будет грозная улика. А если не отыщем, на чем построим обвинительный приговор?
Не очевидно ли, что без выгоды и причины подсудимый не может быть виноват.
Где же выгода? О, говорят, в разных направлениях.
Да, господа обвинители, вами намечено их несколько, и притом самых постыдных, невероятных, но, увы, противоречащих друг другу, что изобличает ваше бессилие доказать хотя бы одну.
Он был влюблен в госпожу Морель-мать, инсинуируете вы. Он и теперь ее любит. Прекрасно, что же оказывается? Скромность, кажется, не военная добродетель, но ла Ронсьер предпринимает все, чтобы скрыть эту любовь. Радушно встречаемый генералом, он, вы знаете, может часто беседовать с его женой и, конечно, обольщая себя самого решить: я доберусь до ее сердца, покорю неприступность честной женщины вниманием и предупредительностью. Вот что он должен был бы сказать себе, а действует наоборот: почти не ходит к Морелям – он бывал там два или три раза всего. Говорил с барыней? Ни разу. Кланяясь при входе, пытался ли взглядом, невольным движением сердца намекнуть ей о своем чувстве? Никогда! Его любви госпожа Морель не подозревала. Теряя голову, окончательно сходя с ума, странный человек, ни разу не заикнулся о своих страданиях, решительно забыл, что нельзя обольстить, не ухаживая, что достигнуть сердца женщины, победить обычную для нее осторожность и целомудрие можно, только будучи самым скромным, надежным из ее поклонников. Ничего подобного. Влюбленный до безумия, готовый в каждое мгновение разразиться страшными угрозами, отомстить жестоко, он твердо владеет собой: слово, жест никогда не изменили ему. Застенчивая и молчаливая на глазах у предмета страсти, его любовь выражается лишь издали и – безымянными письмами. Безымянными?.. Нет, я ошибаюсь, – письмами, в которых он тщательно изменяет почерк или, наоборот, теми, где, конечно, с целью лучше замаскировать себя он усердно подписывается: Э. де ла Рон…
Да будет разрешено мне прочитать вновь первое из этих писем. Там говорят о любви и вот каким языком:
«Я трепещу желанием, называя имя того, кто обожает вас. Это моя первая любовь: благоговение не может быть неприятно. Надеюсь, что все, написанное мной вашей дочери, не обеспокоило вас.
Во-первых, это правда, а, во-вторых, учить Марию я начал не прежде, чем всеми средствами убедился, что вы ее не любите. У меня готов великий проект и если он не годен здесь, в Сомюре, то станет гибелью Марии в Париже, зимой. На ее счет я уже послал около тридцати безымянных писем ее парижским знакомым, госпоже де Б., находящейся теперь в Невшателе, госпоже де М., которая живет в Ансиле-Франк, и т. д. Отсюда благоволите убедиться, что я знаю все. Сегодня буду недалеко от вашего дома. Если бы вам случилось выйти, позвольте своему покорному слуге надеяться, что выражения его почтительной любви отвергнуты не будут».
Обдумывая это письмо, мы невольно убеждаемся, что предположение, будто ла Ронсьер кинулся в анонимную переписку из любви к Морель-матери, не имеет оснований. Подсудимый, как вынуждены признать сами противники мои, никогда не был в нее влюблен. Если письмо принадлежит ему, то лучших доказательств не бывает.
Значит, надо искать другой побудительной причины. Он хочет жениться на дочери. Это гораздо ближе к истине, потому что Мария, как слышно, богатая наследница.
Господа! Во время следственной волокиты, но уже после заключения экспертов, в течение целых восьми месяцев ломая голову с целью решить, откуда взялось гибельное для него обвинение, и перебирая тысячи сумасбродных идей, затемнявших его разум, ла Ронсьер сказал: «Может быть, меня хотели женить на этой девочке», – и сказал глупость…
Его, бедняка офицера, у которого, кроме имени отца, нет ничего? Как смеет он помышлять о дочери генерала, барона Мореля, о такой богатой невесте и красавице! Какой вздор! А, с другой стороны, понятно, что если нечто подобное и могло быть в виду, то и тогда не усматривалось надобности вводить в заговор целую семью.
Но допустим, что он сам хотел жениться. Признаю, что это могучий двигатель, способный толкнуть на многие ухищрения. Здесь я больше понимаю. С чего же начнет Ронсьер? Припомним его первые слова барышне: «У вас очаровательная мать. Какое несчастье, что вы на нее так мало похожи». Столь же подходящее средство увлечь девушку он употребляет и в письме к ней, говоря, что влюблен в ее мать. О, господи, какой несообразный человек! Да это еще что. Желая понравиться матери, он пишет: «Ваша дочь отвратительна и глупа; я хочу ее сделать несчастной и говорю вам это, зная, что вы ее не любите». А в письме к дочери, вынужденный бороться со всякими препятствиями, он рубит с плеча:
«Я вас терпеть не могу, а вашу мать обожаю. Полюбите меня!».
Далее, заметив ее «презрительную улыбку», он спешит напомнить Марии: «Такой негодяй, как я…». Еще позже, достигая решительной победы, грозит: «Я сделаю из вас несчастнейшее в мире существо… Выходите за меня замуж».
Ах, господа, лучше убить свою дочь, чем предать ее такому человеку!
Наконец, совершив ужасное насилие, он вместо мольбы: «О, я несчастный! Любовь, пламенная страсть к вам привели меня к злодеянию; если я дерзнул проникнуть в вашу комнату, осрамить, покуситься на вашу честь, ради бога, простите мое сумасбродство, пощадите меня» – упорно изобретает новые оскорбления.
Заставить полюбить себя хочет обидами, принудить к замужеству – предсказаниями самого страшного будущего. Убейте вашу дочь, убейте, говорю я, но не отдавайте на произвол мерзавцу, которому нипочем сказать: «Ваша жизнь будет вечным горем и страданием»; чудовищу, в письмах которого есть строки: «Вас обяжут выйти за меня, и эта свадьба – моя лучшая месть»; исчадию ада, которое, изранив слабейшего и запятнав себя его кровью, торжествует, восклицая: «Тяжкие для Вас узы соединят нас!».
Предлагаю каждому ответить: с целью ли жениться на Марии Морель это все было писано?
Но есть еще одно предположение.
Могло быть исключительное намерение мучить семью Мореля, позорить ее. Ведь злоба иногда служит сама себе целью. Рассудим хорошенько. Месяц тому назад, в начале процесса, когда грозное обвинение знали только по слухам, когда не видели, какую массу невозможного заключает оно, повсюду искали мотива преступления и найти не могли. Тогда было решено: это выходец преисподней, сам сатана! Он творит зло без пользы для себя. Вот почему я был вынужден обратиться к прошлому подсудимого.
Теперь, зная его, мы уже не вправе слушать обвинителей, что это злодей из любви к искусству. Вам, господа, не поверят, ибо не сатана, а человек здесь налицо; и нет в нем ничего чудовищного, сколько бы ни измышляли вы!
Тем не менее рассмотрим и последний мотив. Установлено, что господин д’Эстульи был хорошо принят в доме Морелей. Я далек от мысли, что ему оказывали внимание, которое можно было бы порицать. Согласен, однако, что ла Ронсьер не мог без зависти глядеть на это рождение любви, игнорировать счастливую и разделяемую привязанность. Гений зла страдает от радости другого и должен был мешать ей.
Как же он возьмется за дело?
Увы, столь же неловко, как и в своих попытках понравиться Марии. Достигнув изумительного совершенства в подделке ее почерка, он адресует д’Эстульи послание за подписью Марии Морель, изготовленное так, что наиболее сведущие люди приходят в замешательство и не могут открыть подлога. Завоевав такой результат, он, конечно, потешается над влюбленным… Ничуть не бывало. Ради первого предостережения он тщательно приписывает: «Это я изощрился так в почерке барышни и дарю вам образец!».
Я окончательно теряюсь. Невозможно, чтобы события шли этим путем! Рассчитывая помешать успехам д’Эстульи и затратив на подлог массу времени, посвятив ему жизнь, будущее, лучшие надежды, человек неспособен уничтожать сам в решительный момент одним словом все свои труды и расчеты, так долго и усердно обдумываемые. Между тем вы ясно видите, что подготовленное с такими усилиями он отметает именно в последнюю минуту. Ведь он, а никто другой, пишет: «Я подделал ее почерк и вам шлю на пробу». Еще раз, – это не только невероятно, но это невозможно.
Отсюда я заключаю, что, начав исправляться и стремясь приобрести расположение отца и начальства, ла Ронсьер не мог быть автором анонимных писем. В жену генерала он не был влюблен, а любя, не стал бы оскорблять таким образом. Жениться на Марии Морель он также не имел в виду, потому что прибегать к таким низким средствам значило покрывать себя стыдом и ненавистью, идти наперекор здравому смыслу. Творя зло ради зла, он не показывал бы своих карт, говоря: «Берегитесь! Я обманываю вас; письма заведомо подложены».
Наконец, совершив нападение, чем кончает он? Раньше побега достает из кармана и кладет на стол письмо, где изложено все, что сделал. В четыре часа утра пишет другое, вечером – третье. Для какой надобности? С единственной целью подготовить данные прокурору и объявить: «Не заблуждайтесь! Я проник в эту комнату, хотел убить вашу дочь и нанес ей два сильных удара ножом; не утешайте себя: я ее…, я ее изнасиловал!». Он, значит, хвастается даже тем, чего не было. Это же совсем непонятная и неслыханная предупредительность. Она звучит странно, даже в настоящем деле, где все беспримерно.
Вот до какой степени невероятно преступление и непостижимы его приемы. Все похоже на сон, бред, на фантастическую и ужасную сказку из «Тысячи и одной ночи».
Кто же распространял эти безумные письма, – ведь их бессмысленность еще выше дерзости? Кто так щедро сеял их в квартире генерала? Не ла Ронсьер, конечно, ибо он бывал там не чаще одного раза в месяц, да и то не везде. Кто же мог проникать в самые таинственные уголки? Очевидно – из своих; некто, живущий в доме и притом не обязанный находиться в каком-нибудь одном месте обширного здания; существо, близкое жене и дочери Мореля, с ними неразлучное; падший ангел, день и ночь реющий над их жильем; могучая, всегда присущая, но никем не видимая сила… Нет секрета, которого она бы не знала, нет семейной тайны, которой бы не выдала!
Так, Марии ставят пиявки; ее прячут, и этого никто знает. Но демон разведал и описывает. Имена лучших друзей, лиц, давно отсутствующих, даже тех, о которых в семье не вспоминают никогда, ему одинаково известны. Знает он и девицу Б… из Невшателя, и госпожу М… из Ансиле-Франк, не забыл и о близких отношениях семьи генерала к игуменье угла улицы Св. Доминика… Пред ним все открыто. Как-то, начав письменную работу, сын Мореля оторвался на минуту пожелать доброго утра матери; возвращается – демон уже посетил его комнату и на его работе оставил письмо. В другой раз супруги Морель беседуют, шепотом в самой удаленной части квартиры, о семейных делах. Сатана их настигает, говоря: «Я перехватил вашу тайну». Уже после отъезда ла Ронсьера Мария Морель пишет Жиске. Дьявол, узнав об этом, грозит девушке: «Ваш покровитель, Жиске, не спасет вас».
Господи, боже мой! Какими же путями добывались сведения? Каждый шаг, всякое слово, кто бы ни сказал его, – все записано и повторено?! Откуда ла Ронсьер мог черпать все это? Решительно необъяснимо. Никто не раскрыл вопроса.
Уж не уносимся ли мы очарованием в неведомые страны, созданные фантазией поэтов, в те сказочные замки с мрачными, извивающимися коридорами, где даже стены подслушивают, а выходцы с того света овладевают всякой тайной, самыми сокровенными излияниями души?!
Но, какова бы ни была мудрость агентов подсудимого, они неизбежно должны попасть впросак. Сколько ходов предстоит сделать им. Взгляните, вот они, вместе или по очереди, отправляются за приказаниями в тот вертеп, где обитает чудовище; вот бегут они во всякое время дня и ночи то узнавать, то исполнять желания своего повелителя! А между тем и в доме генерала не дремлют. Наблюдая друг за другом, каждый из его слуг наперебой старается доложить хозяину приятную новость. Каждый следит за товарищем неотступно, а один, начав стричься и вспомнив нечто вздорное, даже не высидел до конца и бежит рассказать господам немедленно! Каким же образом столь частые и необходимые сношения могли оставаться незамеченными в маленьком городке, где все знают, где идут сплетни и пересуды неусыпные?!
Нет, немыслимо найти соучастников ла Ронсьера. Пристегнув к нему двух несчастных жертв и посадив их на эту скамью, вам говорят: вот его сподвижники! И, однако, никто не сказал, где они могли видеться и когда имели возможность беседовать.
За все время неутомимой бдительности уездных кумушек, среди упорных, долгих и преступных мероприятий, несмотря на крайнюю энергию в преследовании злостной цели, – ни одного неосторожного шага, ни единого сношения с главным обвиняемым!
Заметьте, в другом направлении, господа, что ему приходилось верить многим людям одновременно. Какова должна быть смелость, расточающая подобное доверие! Какое беспримерное счастье не обмануться ни разу!
Я не замедлю указать, в каком числе подсобников он нуждался и скольким слугам Мореля был обязан передать тайну, прося их содействия. Не забывайте, что все они имеют хорошие места и что в доме генерала обращаются с ними ласково. Но это ни к чему не ведет. Не нашлось никого, кто бы, придя к самому генералу или кому-либо другому, сказал: есть человек, предлагающий мне сеять раздор в вашем семействе, позорить ваш дом, поддерживать огонь безымянных писем, которые, мне известно, жгут и разъедают ваше сердце… Такого слуги не оказалось. В отношении своего доброго хозяина все они предатели и все неизменно верны его врагу!
О, возразят мне, эти люди куплены, золото принудило их молчать и обеспечило от измены. Но ведь вы знаете, что у подсудимого были долги и, если смею так выразиться, ни гроша за душой. В одном из его писем, которые посылались, очевидно, не ради настоящего дела и в которых он искренен, есть такая фраза: «У меня до конца месяца остается всего сорок су, да восемь франков я должен Амберту». Значит, прислуга Мореля жертвует собственным благополучием, местом, покоем из-за нищего, который не может оплатить ее службы и предательства.
Чем дальше в лес, тем больше дров. Все открыто; добились, наконец, что виноват ла Ронсьер… Одному богу известно, в чем виноват! Происходит дуэль, и его гонят из полка. В Сомюре он становится притчей во языцех. Еще немного, и его соучастник Самуил также обнаружен и, как он, изгнан. Обольститель бежит, его наперсник, в свою очередь, – за ним. Пускай он теперь найдет сообщников! Вдали от Морелей, скитаясь где день, где ночь, покрытый стыдом и уже погубив Самуила, пусть он отыщет людей, готовых вновь помогать ему! Новых соучастников!..
Они налицо, и опять в самом доме генерала; они всегда в его распоряжении. Негодяи или, скорее, храбрецы, они идут против всех ужасов закона и, непонятно, во имя каких благ, рискуют продолжать его сумасбродную, презренную затею!
Но и это не все. Обладая изумительной силой воли, даже Морель выходит из терпения. Его дочь тяжко оскорблена и думает о самоубийстве. Он пишет Жиске. Правосудие открыло свое течение, возмездие обеспечено. Жалкие люди! Берегитесь – настигают вас. Меч уже в руках закона; еще мгновение, и вы будете уничтожены. Все подозреваемые, бегите, скройтесь, потому что сейчас генералу дадут блестящее и торжественное удовлетворение!
Но нет, и в такую минуту ла Ронсьер находит еще пособников.
Запомните, умоляю вас, следующий факт.
Письмо, адресованное д’Эстульи 24 ноября 1834 г., относится ко времени, когда мой клиент сидел в остроге по обвинению в тяжком уголовном преступлении. Именно в этот момент он передает письмо в Сомюр, откуда неизвестная рука, сообщник, никому неведомый, шлет его д’Эстульи. В чем заключается, письмо, где серьезная причина, вынудившая написать его?
Когда все открыто, ла Ронсьер должен был считать себя погибшим. Удержать семью генерала путем устрашения, которое заставляло ее колебаться так долго, отныне надежды не было.
Жалоба подана, обвиняемый в тюрьме, и ему уже готовят эшафот, потому что преследуют за убийство. Что может он предпринять? «Знать не знаю, ведать не ведаю» – такова единственно возможная система защиты, ибо других нет. Он это видит ясно, когда в том же письме замечает: «У меня есть только одно средство спасения – отрицать все!» – и… немедленно сознается: «Я совершил убийство!», излагает подробности, а затем своему смертельному врагу говорит: «Вот моя беззаветная исповедь». Раньше он не хотел называть соучастников. Теперь, ввиду эшафота, перечисляет их: «Горничная была в моем полном распоряжении; проник я в комнату Марии без помощи лакея. С другим лакеем генеральского дома я и сегодня веду переписку».
Таким образом, он излагает все: событие преступления, ресурсы, которыми пользовался, приметы прежних и нынешних соучастников. Привлеченный к ужасному делу, поставленный в необходимость отпираться от всего, он сам пишет обвинительный против себя акт, а правосудию готовит такие доказательства, без которых оно не могло бы обойтись. В довершение благополучия подписывается. До сих пор, делая подпись: Э. де Р. или Э. де ла Рон., он не снимал маски, хотя и столь прозрачной, что его узнавали все. На этот раз он открывает свою фамилию полностью. Но как? Пишет не La Ronsiere, как надо, а La Ranciere…; окончательно растерявшись и в суматохе позабыв даже чувство самосохранения, он утратил, кстати, и орфографию собственной фамилии. (Смех)
Где цель писать из недр острога такое письмо? Вымолить у д’Эстульи пощаду? Да разве вы смели надеяться? Разве могли вы забыть волнения и отчаяние, которыми отравляли жизнь несчастной семьи? Бесчестие, гибель юной девушки разве так скоро улетучились из вашей памяти? А всеобщее негодование, вас преследующее, а эта жалоба, которая, сверкнув раз, никогда и ничем уже не может быть остановлена и во имя которой собирают столько данных, повсюду разыскивают свидетелей? Вы просите милости у д’Эстульи? Безумный! Не он ли представил ваши письма, вооружил судебную власть самыми сильными доказательствами, не ему ли, обездоленному вашими мерзостями, подобает делать теперь все, чтобы уничтожить вас?
А! – и я повторяю это с глубоким убеждением – здесь все сплетено из нелепостей, необъяснимо, невозможно…
Но вот эпизод, еще более невероятный. 23 декабря, когда ла Ронсьер уже свыше двух месяцев находился под стражей, бросают письмо в карету госпожи Морель. Что в письме? Гнусности, по обыкновению. «Ее обольстил не сын генерал-лейтенанта, а простой лакей». Исходя от человека, изнывающего в тюрьме и склонного, говорят, просить о помиловании, как попало в карету это странное письмо? Мария Морель уехала из Сомюра в Фалэз, страдая непонятной болезнью. Отправившись затем из Фалэза, она должна была прибыть в Париж, но когда именно? Никто сказать не мог. Нельзя было определить даже дня, потому что все зависело от течения болезни, преисполненной случайностей. Сама Филибер, под надзором которой оставалась парижская квартира, заявила на следствии: «Барышню ожидали, но день приезда был неизвестен».
Так или иначе, 23 декабря она приехала. Было между восьмью и девятью часами вечера, время наибольшего понижения суточной температуры. В этот момент или никогда надлежало оставить закрытым окно кареты, как его держали в дороге. Однако в Севре – это удостоверено самой Марией – она попросила опустить стекло с ее стороны. В Париже, среди шума народных масс, движения и суеты, при въезде на улицу «Счастливой охоты», она же, Морель, находясь в полном сознании и хорошо владея голосом, вскрикнула совершенно неожиданно: «Ой, мне сломали руку!». Откуда явилась такая сильная боль? Здесь объясняли, что ее, кажется, ударили палкой. Но такой удар, без сомнения, оставил бы длинный след, не способный исчезнуть ранее некоторого времени. Успокойтесь! Никаких следов! Как ни искали, никто их найти не мог!
Между тем таинственная рука бросила в карету безымянное письмо, написанное на бумаге – я сейчас скажу о ней пару слов – и опять заключающее оскорбления и угрозы.
Как же это случилось? Ла Ронсьер арестован по делу, которое ведет на плаху, его соучастники уразумели, чем пахнет излишняя услужливость ему. Самуил тоже в тюрьме, а горничная Юлия потеряла место. Тем не менее арестант сумел найти помощника, верного человека, готового исполнять его приказания, агента, который, простите за выражение, стал на караул на улице «Счастливой охоты» и, не зная ни часа, ни дня приезда Морелей, не страшась зимних холодов, имел терпение и смелость, перед казармами королевской гвардии и на глазах у настоящего часового поджидать карету.
Не замеченный никем, он приближается, сильно бьет по руке Марию Морель, отбрасывает ее руку в карету, но и этого никто не видит, ни лакей на запятках, ни спутники девушки внутри кареты. Кто же эти спутники? Ее доктор, гувернантка Аллен и мать.
Стало быть, удар прошел бесследно, и из-за необыкновенных условий появления письма никто и ничего не видел. Заговорив о письме, надо отметить, что оно изложено на листке, вырванном из старой и грубой записной тетради. Понятно, говорят, почему: не имея в остроге другой бумаги и хороших чернил, обвиняемый и не мог написать иначе.
У него не было бумаги? Извините! Ее было достаточно всегда, и притом наилучшей. Вот письма, адресованные из тюрьмы. Взгляните и признайте, что ему не предстояло надобности рвать лоскутки из какой-то тетради. Ближе к истине допустить, что, находясь в дороге, желая написать письма и не располагая удобствами городской жизни, автор, заехав на постоялый двор, воспользовался первой попавшейся бумагой и, вырвав ее из старой книжки, написал, что хотел.
Милостивые государи! Я не обязан доказывать, кто автор письма; мне достаточно убедить вас, что это не ла Ронсьер. Не он автор, потому что ему не было цели писать такое письмо. Это не он, ибо, действуя столь нагло и безрассудно, он рыл бы яму себе самому. Не он виноват и потому, что, находясь в Париже, не мог отправить письма из Сомюра и что самая бумага, на которой оно изложено, ла Ронсьеру не принадлежит. Письмо не его работы, – вот что я призван удостоверить перед вами.
А чьей же? Вопрос, по крайней мере, с моей точки зрения, чуждый настоящему делу.
Кто посылал Морелям анонимные письма вообще? Об этом спрашивали прежде всего экспертов. Разве эксперты непогрешимы? Не всегда, разумеется. Я лично не питаю того уважения к их искусству, которое проповедуют они сами, его верховные жрецы. Однако их профессия имеет важное и глубокое значение, и, если правосудие не считает экспертизы доказательством, оно все-таки рассматривает ее как элемент, достойный внимания и доверия. Я, со своей стороны, знаю многое, что можно сказать и что нередко говорят по поводу экспертов. В здании суда известны даже целые анекдоты, выкапываемые каждый раз, когда надо разбить заключение ведущих людей. Вам напомнили слова Денизара; одного из наших старинных юристов, и в особенности его удачное выражение, всеми нами давно повторяемое: «Эксперты, как авторы, не должны бы смотреть друг на друга без смеха». Я все это знаю и соглашаюсь, но с некоторой поправкой. Например, когда прокурор, ссылаясь на экспертов, произносит жесткие, суровые фразы и требует уважения к их мнению не ради зашиты обвиняемого, а для осуждения его на каторгу, я не в состоянии отрицать за экспертизой всякий смысл.
Люди, хотя бы и сведущие, конечно, не свободны от увлечений, но, в пределах специальности, обеспечены лучше нас. Обыкновенно это деятели, посвятившие жизнь одному занятию; сличают ли они по требованию суда рукописи, отыскивая признаки подлога или только изменения обвиняемым своего почерка, учат ли грамоте детей, излагая правила и намечая ошибки, они неизбежно приобретают навык, который дает им возможность с первого взгляда узнавать физиономию документа, – вы, господа обвинители, напрасно смеетесь над этим выражением: изо всех других оно, может быть, наиболее точное, – и сейчас же заметить свойства данной рукописи, обычные ей черты, красоты или недостатки, одним словом, все, что изобличает одну и ту же руку и средства распознавать ее. Позвольте же этим людям видеть не хуже нас и не меньше какого-нибудь драгунского офицера; не затрудняйтесь же в выборе между доверием, которого вправе ожидать эксперты, и мнением господина Амберта.
Не скрою, впрочем, что я избегаю верить им слепо. Толковый человек без особого труда научается подделывать чужую подпись. Вещь, говорят, не хитрая: берут подлинник и по нему переводят подпись на прозрачную бумагу, пять, двадцать, пятьдесят раз, пока не привыкнут к особенностям почерка и не достигнут свободы в движении руки; тогда подписываются за другого – и эксперт обманут. Но если не десяток букв, а ряд, например, двадцать, писем подвергаются сличению, то мнение сведущих людей скорее может рассчитывать на авторитет. Полной, абсолютной, непогрешимой веры я лично не дал бы ему и при таких условиях. Экспертиза же по настоящему делу производит впечатление и на меня. Вспомним, как ее вели. Двум экспертам было поручено ознакомиться с письмами, приписываемыми ла Ронсьеру. Ничего, кроме бесспорных его рукописей, они для сличения не имели и, однако, без колебаний заявили, что инкриминируемые документы ла Ронсьеру не принадлежат, а писаны, очевидно, женской рукой. Нет цели рассказывать, как изумил подобный ответ, данный экспертами, всегда почти склонными к обвинению. Скажу только, что их честность и добросовестность выше сомнений.
Тем не менее зовут двух других и, вопреки обычаю, не дают им на дом ни вопросного листа, ни сличаемых бумаг и не допускают отсрочки в несколько месяцев, как случается иногда. Нет! Им шлют повестки и, вызвав, объявляют: здесь, немедленно, не выходя из комнаты, вам назначенной, приглашаетесь вы заняться этими письмами и документами. Второе решение экспертов известно, господа. Автор писем не ла Ронсьер – таков был новый, единогласный ответ. Подсудимый невиновен, и первое тому доказательство – что, совершая подлог, он не мог владеть лучшим почерком, чем обыкновенно. Изготовить пасквили, а главным образом тот, который подписан «Мария Морель», могла лишь опытная и очень набитая рука. Я хорошо знаю показания Амберта, что ла Ронсьер смышлен, ловок и рисовал отлично, но если рассуждать так, то первым живописцем Европы явился бы автор лучших прописей.
Независимо от изложенного, я считаю долгом обратить внимание на следующий факт. Заметьте, что, несмотря на важность экспертизы, обыска в доме Морелей не было. Допрашивая обвиняемого, не заботились о его удобствах, приличии, ни о том, способен ли он выстаивать пред следователем целые часы или вправе отдохнуть. Наоборот, генерал Морель имел возможность отказаться от представления рукописей своей дочери, дважды говоря, что их не существует, а затем принес, какую хотел. Сообразно с этим шло все следствие. Семье Морелей не переставали верить на слово. Доказательства? Да разве спрашивают о них у барона, генерала Мореля, или у госпожи баронессы, его супруги? Пользуясь совершенной свободой, влиянием и почетом, они работали без помехи. А общественное мнение создавалось… Какое? О, господа, вы его отлично знаете, живете, дышите и среди него именно встречаете заразу предубеждения, которую только ваше беспристрастие может не допустить в этот зал.
Но если положение обвинителя завидно в обществе, то и само правосудие симпатизирует, доверяет ему. Например, у него требуют автографов; он дает, как и когда хочет. Обвиняемый – другое дело! С ним не стесняются: вся его жизнь перерыта, ограблена, уничтожена; нет интимной двери, в которую бы ни проникли, нет дальнего, сокровенного уголка в сердце, которого ни обыскали. Каждому из нас присущи глубокие тайны, которые мы свято бережем, – умираем с ними. Каждому? Нет. У обвиняемых их отнимают, чтобы кинуть на публичное поругание. Врываются к нему в дом, ломают хранилища, хватают письма любви, самые заветные бумаги, отнюдь не те, которые он мог бы заготовить в интересах защиты, а совсем посторонние, давние, помеченные известным временем и даже снабженные почтовым штемпелем. Вот каким путем обвинение собирает вещественные доказательства на погибель несчастному! Вот как относятся к нему, предварительно запрятав в секретную камеру острога!
И что же выходит из этих мероприятий?
Я не эксперт, но по чистой совести говорю, что почерк ла Ронсьера, изобличая непривычку писать, тяжел, медлен, неряшлив и полон ошибок. Каким же образом тот же ла Ронсьер изготовил бы не только ряд подметных писем, в которых видна опытная рука, но и в особенности коротенькую записку с подписью «Мария Морель»? Эта записка изложена легко, бегло, живо, сразу, от начала до конца, и, как ни всматривайтесь, вы не заметите в ней ни колебаний, ни стремления приладиться к чужой руке. Имел ли обвиняемый модель и время изловчиться подражать каждому слову порознь, а затем всей записке с такой же точностью, какую может употребить человек, подделывающий единичную подпись?
Конечно, нет! Ведь госпоже Морель не было угодно передать ему образец своей работы. Да и вообще несомненно, что подделывателю никогда не удалось бы воспроизвести с таким изумительным сходством живой, стройный, легкий почерк женщины, прямо свидетельствующий о навыке писать.
Взгляните, взгляните, умоляю вас, на маленькое письмецо, подписанное «Мария Морель», и скажите, – ла Ронсьера ли это почерк или он тождествен с рукописями самой Марии Морель?!
Вы, разумеется, не потребуете, господа, чтобы вслед за обвинителем, исчерпывая сходство и разноречие, я стал рассматривать каждое слово, букву, каждую запятую подметных писем. Только над одной буквой хочу остановить вас. В документах инкриминируемых «d» составлено из «с» и длинного штриха. Пятьдесят писем ла Ронсьера здесь, на глазах; вот еще, если хотите; но, переглядев все, не найдете вы ни единого «d» означенной формы, а всегда так: «д».
Защищая госпожу Морель, ибо скорее за нее, чем против ла Ронсьера идет борьба, вы, мой противник, заявили, что упомянутая записка не ее руки, потому что букву «d» она не всякий раз пишет одинаково. Признайте же гораздо более сильный довод в пользу ла Ронсьера, ибо я утверждаю категорически, а возможность проверить налицо, что он никогда не писал «d» указанным способом. В крайнем случае, оставим этот спор о подробностях. Эксперты дали ясное понятие о нем, а господа присяжные, решая участь ла Ронсьера, не забудут факта.
Среди вещественных доказательств есть другие характерные признаки, определяющие нравственную сторону наших изысканий. Так, у всякого свой, неизменно присущий, метод писать. Например, составляя адрес, Ронсьер каждый раз, безусловно, держится вот какой системы: слово «Госпоже» пишет в конце первой строки, повторяет его в начале второй, затем следуют имя и фамилия, положим, Мелани Лэр. Не существует ни одного адреса, написанного иначе.
Прекрасно. Пусть возможно извратить почерк, путать слова и даже буквы собственной фамилии, ставить Lа Ronsiere взамен Lа Ronciere, Helene вместо d’Аllen, хорошо сознавая ошибки; но от известных привычек нельзя отрешиться; ведь о них даже не думают. И что же? Обычной ла Ронсьеру системы писать адрес мы не видим ни разу, ни в одном из анонимных писем.
Еще соображение, основное, решающее.
В переписке обвиняемого нередки орфографические погрешности. Между прочим, он постоянно ошибается в причастиях. Я понимаю, что, зная грамматику и желая отвратить подозрение, иные ошибаются нарочно; но, чтобы, не ведая орфографии, постигнуть ее моментально, усвоить правила, которых никогда не помнил, и соблюдать не мог, – уразуметь нечто подобное моя голова не в силах, а придумать объяснение отказывается даже вся находчивость моих противников.
Но, как бы ни было, есть в этом направлении данные, готовые устыдить обвинение.
У меня в руках полный свод ошибок, встречаемых в пасквилях. Не утруждая вас, беру на выдержку лишь некоторые.
В письмах к Мелани Лэр, говоря «сеlа» (это), ла Ронсьер ставит ударение над «а», как следовало бы в другом слове, например, «к» (там). За редкими исключениями, эту ошибку он повторяет неустанно. Однако в пасквилях мы не видим ее ни разу. Между тем под влиянием привычки она делается сама собой, иногда вопреки желанию автора. Представьте, что вам надо писать безукоризненно; вы стараетесь приобрести навык избегать ошибок, твердо запоминаете правила грамматики и, наконец, садитесь за анонимное письмо; погрешности в ударениях, едва заметные, настигают вас, будьте покойны, вопреки всяким усилиям; стоит забыться на мгновение, и над первым попавшимся «а» уже явился знак, которого вы так долго и тщательно избегали.
Обратимся к другим словам, общим переписке Ронсьера и безымянным письмам, возьмем «hоnnеtе»; обвиняемый пишет его через одно «n»; пасквили – через два, как и следует. Выражаясь «Lа lеttrе gue j’ai гесие», он всегда ставит «геси»; анонимные письма так не ошибаются. Глядите сами и убедитесь. Там причастия всегда начертаны по требованиям грамматики.
Например, я читаю в пасквилях каждый раз: «Lec lettres infames gue vous avez recues», – то есть «е» неизменно на своем месте.
Стало быть, подсудимый человек особого рода. Обыкновенно не в ладу с грамматикой, он заключает с ней трогательный мир всякий раз, когда пишет анонимное письмо! Не случай и не умысел приводят его к ошибкам, а давняя привычка; но стоит начать пасквиль – и ее как ни бывало…
Резюмирую изложенное.
Писал ли эти пасквили ла Ронсьер? Нет, потому что не имел цели и не мог не сознавать, что они его уничтожат, опозорят, убьют.
Он ли рассылал анонимные письма?
Нет, так как был не в состоянии делать это без многих сообщников, которые служили бы ему преемственно то в Сомюре, то в Париже, изумительно разбрасывая целые транспорты пасквилей; таких пособников, у которых достало бы храбрости работать на него даже после ареста и привлечения к опасному делу его самого, изгнания, под смутным подозрением, Юлии Женье, заключения в тюрьму и предания суду Самуила Жильерона; когда ла Ронсьер уже был окружен неусыпным, двойным надзором стражи и общественного мнения и когда, без гроша в кармане, ему приходилось бы оплачивать услуги этих помощников на вес золота.
Он ли автор подметных писем?
Нет. Четыре сведущих лица удостоверили, что это не его рука, а простые соображения, мною вам приведенные, доказывают, что он и не мог писать их.
Еще раз, он ли сочинял пасквили?
Нет, ибо в его личной переписке усматриваются такие ошибки, которых найти в пасквилях невозможно. Однако есть другие улики, которых нельзя оставить без внимания!
Займемся, во-первых, сценой изгнания ла Ронсьер из гостиной генерала 21 сентября. Возмущенный пасквилями и подозревая этого офицера, Морель вдруг видит его у себя и, как вы знаете, допрашивает еще в передней через капитана Жакемэна. Странная, заметим между прочим, идея, непостижимая дерзость! Явиться в дом, отравленный его гнусными выходками, участвовать в общем веселье и сохранять спокойствие?! Где нахал, который осмелился бы так издеваться над горем отца, в такой мере презирать гнев старого солдата? Где он, спрашиваю я вас? Тем не менее обвиняемый идет именно на это, и… генерал его гонит вон; момент, когда всякая мелочь приобретает значение, и вот первая улика, бросаемая ла Ронсьеру в глаза (подробности изложил здесь свидетель Аккерман восемь месяцев позднее события, хотя в его собственных показаниях следователю на них нет и намека).
Направляясь к столу, где играли в экартэ, и видя подсудимого с Жакемэном, свидетель заметил, как ла Ронсьер, окликнутый генералом, тотчас же взял в руки свой кивер; стало быть, продолжает Аккерман, он знал, в чем дело, когда собрался уходить!
Какие жалкие доводы и в каком серьезном деле! О, господа, господа! Домогаться отчета в каждом шаге, говорить, зачем взяли шляпу, для чего положили, – да не все ли равно, что спрашивать: с какой целью достали вы тогда-то носовой платок, зачем сели, чего ради перешли с места на место? Боже мой! Где найти ответы, что могу я сказать вам теперь!
Но, как бы ни было, вот объяснение подсудимого: «Я оставил кивер на подоконнике, потому что в толпе он мог мне мешать; слыша зов генерала и проходя мимо, я взял его снова, так как цель, для которой положил, – легче пробраться к столу, где играли в экартэ, – уже не имела значения».
Увы, в процессе, где преступление гнусно, а данные, изобличающие виновного, должны быть столь убедительны, что должны представлять лишь неопровержимые улики, – вот какими ухищрениями пытаются вырвать обвинительный приговор.
Но ведь он не произнес ни слова. Генерал выгоняет его, говоря: «Убирайтесь вон!», – и ла Ронсьер уходит молча. Странная кротость! Как он мог не противиться? А, не сомневайтесь, случись нечто подобное с Амбертом, он не преклонился бы так скоро. Разве можно не спросить, – что это значит? Благоволите, дескать, генерал, объяснить причину, мне надо знать ее… И тогда, нарушая покой других гостей, вопрос, естественно, привел бы к ссоре; но господин Амберт не затруднился бы вызвать ее… Все это понятно, но у каждого свои особенности, характер, образ действий; каждый храбр по-своему. Однако какое бы впечатление дерзкого и хвастливого человека ни производил мой клиент, я обязан засвидетельствовать, что ему недостает той смелости и твердости, которые дают возможность не робеть перед внезапностью и тем, что в приказании, отданном генералом, было непререкаемого и неожиданного. Он может быть отличным солдатом, не бледнеть пред опасностью и не колебаться перед лицом неприятеля; но есть иная храбрость, которой у него недостает. Он не умеет бороться с трудными обстоятельствами жизни, не в силах возразить, положим, отцу, сказав: «Батюшка! Вы ошибаетесь, наказывая меня так жестоко; не гоните меня в Кайенну только из-за долгов!». Такой именно смелости, на защиту себя от неправосудия, от крайнего бессердечия, у него не хватает! Что же делать, – таков уж изъян его характера. Да разве здесь, пред вами, он не обнаружил того же недостатка воочию? Вот протоколы его допроса; их очень много; взгляните и убедитесь, с какой энергией и присутствием духа он защищается, дает ответ на всякий вопрос, ни одной улики не оставляет без опровержения. Лицом к лицу с судьей он негодует, сражается, шаг за шагом разоблачает все, доходит до самых мелких подробностей жизни; ни разу и ни одного затруднения не обошел он; наоборот, сам, и без колебаний идет навстречу каждому.
Здесь же, среди торжественной обстановки заседания, пред публикой, которая пронизывает его глазами и гнетет зловещим ропотом, – о господи, какое горе суждено было пережить мне самому! – вы видели, как он держал себя на перекрестном допросе! Сбивается, говорит едва слышно, а то и вовсе становится в тупик. Из всех возможных дает наихудший ответ; если есть вздорное соображение, он сам его приводит. Чем дольше настаивают, тем скорее забывает он решающие доводы и простейшие объяснения, хотя сто раз давал их следователю, и лишь изредка глухо бормочет: «Мой защитник будет говорить за меня». Тогда подымаюсь я и нахожу вынужденным заявить, что адвокат существует не для подсказывания ответов, а с благородной целью добыть чистый материал и зажечь из него свет правды.
Таковы душевные свойства или, лучше сказать, вот слабые стороны этого человека. Перед вами он робеет, чересчур легко теряет голову. Но если, уничтоженный нестерпимым обвинением, подавленный грозным фактом, что против него предубеждены все, он не мог сохранить величия духа, – решимся ли мы карать его и за это? Не снизойдем ли к его горю и, чуждые увлечениям товарищества или дружбы, не перестанем ли мы добивать его кличкой труса единственно за то, что не нашел он в себе дерзости, которая позволяет другим на этой же скамье сохранять хладнокровие и находчивость и смотреть обвинению прямо в глаза, как бы ни было оно заслуженно.
Независимо от сказанного, возвращаясь к рассматриваемому эпизоду, установим, точно ли, кроме Жакемэна, других свидетелей не было? Не верьте. Сначала действительно хотели нас убедить в этом, но судебное следствие открыло иное. Аккерман ведь тоже очевидец, и, как он объяснил здесь, «маленькая драма возбудила и его внимание». Очевидно, что в посторонних недостатка не было. Впечатление произведено. Что же оставалось ла Ронсьеру? Требовать объяснения? Но ведь генерал мог бы крикнуть громче прежнего: «Идите вон!» и пришлось бы убираться с еще большим стыдом. Утром на другой день смотр, а непосредственно за ним объяснение было затребовано. Ответ получен через Жакемэна: генерал сочтет себя удовлетворенным, если вы представите данные к своему оправданию, или генерал удовлетворен, – подлинных слов свидетеля не помню, да и не мудрено растеряться в этих бесконечных мелочах. Оставим их.
Но, говорят, кроме жалких, по-вашему, обстоятельств, взятия ла Ронсьером кивера и молчаливого ухода из квартиры генерала, есть нечто гораздо более важное – сознание подсудимого.
Излишне напоминать, господа, вековую и глубокую истину нашего уголовного права: никто не слушает человека, который сам ищет своей погибели! Не раз случалось мне задумываться над ней в процессах, где имелись полные, половинные, четвертные и еще более мелкие доказательства. Однако, по моему разумению, в уголовном деле, где обращаются исключительно к совести и убеждению присяжных, сознание обвиняемого приобретает огромное, часто решающее значение. Совесть подсказывает, что в деянии бесчестном не сознается напрасно никто и немыслимо позорить себя признанием факта, которого не совершал. Таким образом, я не намерен торговаться с уликой, мне предложенной, и вы увидите, что я не только не пробую смягчить ее, а, наоборот, иду на бой со всем ее могуществом.
Итак, посмотрим, в чем и как сознавался ла Ронсьер?
Д’Эстульи получает анонимное письмо самого оскорбительного содержания. Заподозрив ла Ронсьера, он решает потребовать его к ответу. Что же делает последний? Вас уверяли, что целью письма было принудить д’Эстульи драться, сделать дуэль неизбежной. Между тем ла Ронсьер начинает клятвами в своей невиновности, употребляя все, чтобы избежать дуэли, которой сам хотел и которую сам вызвал. В отношении д’Эстульи он не брезгует даже средством – признаю это, – мало приличным для военного, и, отвергая подозрение, умоляет: «Дорогой Эстульи! Я падаю на колени пред вами!», – плачет горькими слезами, а когда слышит еще раз: «Ведь это вы писали!» – протестует всеми силами души, клянется всем святым, что неповинен. Убежденный, однако, что дело его рук, капитан Жакемэн говорит, не спуская с него глаз: «Тот, кто рассылает безымянные письма, негодяй, мерзавец!» Он сказал это, глядя ла Ронсьеру прямо в лицо. Но подсудимый не дрогнул; наоборот, сам прибавил несколько слов к этой характеристике и если отказался от дуэли, то не вследствие трусости, этого никто не предполагает, а потому, что не хотел принимать такого обвинения на свой счет. У него была молодость, если и оскверненная мерзостями, которыми ее забрасывают, то, надо сознаться, только в виде долгов и любовниц. Забывая малейшее снисхождение к его ошибкам, старик ла Ронсьер сказал сыну: «Если провинишься еще чем-нибудь, я отрекусь от тебя». Таким образом, юноша должен был погибнуть – все равно, правый или виноватый – при первой жалобе. Вспомните, с другой стороны, его характер, только что описанный мной, слабость духа и легкомыслие, преследовавшее его всюду. Тем не менее дуэль состоялась. Он клянется, что невиновен пред д’Эстульи, Амбертом, Берайлем, Жакемэном, но, однако, вынужден драться.
Как он вел себя на дуэли? Бесчестно? Нет, милостивые государи, сами враги его смыли это грязное предположение. Дрались честно, и д’Эстульи был ранен.
Ла Ронсьер кидается к нему со словами: «Ах, бедный д’Эстульи!», протягивает руку и перевязывает его рану платками, которые приготовил для себя самого. Еще раньше, отправляясь на поединок, он говорит Берайлю: «Я невиновен. Вот тетрадь моих рукописей; если я буду убит, сличите ее с подлинным письмом, из-за которого страдаю, и защитите мою память от ненавистной клеветы!». Таково было его завещание; ведь судьба оружия могла кончиться и его гибелью! Так говорил он пред боем. После, когда д’Эстульи, раненый и перевязанный его платками, держа его за руку, стал повторять: «Я считаю вас виноватым; сознайтесь, и все кончено!», он еще раз возражал: «Не могу я признать то, чего не делал, клянусь, что вы меня мучаете без основания»!
Но, говорят, он все-таки сознался, что письма, полученные д’Эстульи, изготовлены им. Мой противник – хотя я не понимаю такого довода в устах человека, привыкшего взвешивать слова, – настаивал перед вами, что свое сознание ла Ронсьер подписал твердой рукой, добровольно, сознательно и бесповоротно. Что вы говорите? Значит, из вашей памяти ускользнуло все предыдущее, весь гнет нравственного насилия, которому его подвергали. Он протестует, клянется, доказывает, а ему твердят: «Ваши товарищи, офицеры – сослуживцы по школе, собираются на суд чести; вы погибли: вас предадут суду присяжных; три эксперта уже признали вашу руку, пять лет каторжной работы уже готовы для вас!». Ясно, что еще минута, и его схватят; страшный, потрясающий взрыв уничтожит его; собственный отец неизбежно заклеймит и покинет на произвол врагов, а «сведущие люди» уже постановили приговор.
Упорное размышление обо всем этом гнетет и давит его; непрестанные угрозы бьют его наповал, а вы говорите о полном сознании обвиняемого?! Да разве не очевидно, что его голова не могла работать здраво, что он рыдает, волосы на себе рвет? Видя нечто чрезвычайное, даже его денщик, забыв чинопочитание, решился сказать: «Что с вами? Можно подумать, что вы с ума сошли!» – «Да!» – отвечает ла Ронсьер. В таком отчаянном положении хозяйка гостиницы не решалась оставить его одного. Человека, обыкновенно веселого и беззаботного, она с ужасом видит рыдающим горькими слезами, метающимся по земле, рвущим волосы на себе… А вы говорите, что он писал добровольно! Делая признание, не сам ли он отрицал его? Не повторял ли без перерыва: «Я невиновен и сознаюсь только потому, что не хочу оскорблять отца, позорить его седины… Клянусь пред богом – меня преследуют невинно!..».
Милостивые государи! Когда в иные времена истязуемый пытками, вздернутый на дыбу, изможденный страданиями, злополучный обвиняемый, моля о пощаде, взывал: «Ай, ой, умираю… Сознаюсь», – разве воспользовались бы вы таким сознанием против несчастного? А если позже, вырвавшись на свободу, он воскликнул бы: «Посмотрите на мое истерзанное тело, на руки и ноги, еще израненные и дрожащие; последние силы, самая жизнь покидали меня, и я сознался… Но пред всемогущим творцом заклинаю вас – верьте, я невиновен!», – что же, решились бы вы и тогда утверждать: «Нет, он признался, стало быть, виноват!».
Не забудьте же, что для некоторых людей нравственная пытка гораздо ужаснее. Презирая телесные муки, ее они выдержать не могут. Ведите их в застенок, раскаляйте орудия страданий – у них станет духа перенести боль физическую, но не пытайте их нравственно, здесь они бессильны. Ла Ронсьер не задумался бы пред увечьем и даже смертью, но он дрожит, будучи призван к суду товарищей, раз в основание решения этот суд заранее берет экспертизу против обвиняемого. Тогда храбрость покидает его, и, дабы избежать крушения, купить молчание, он восклицает: «Сознаюсь!». Но запомните твердо: написав и отправляя письмо, «Клянусь честью, – говорит он, – я не виновен! Хочу одного – признанием, которого домогаются от меня, избавить мою семью от позора».
Повторяю, если несчастному, сознавшемуся под гнетом телесных испытаний, не хватило бы у вас смелости бросить в глаза: «Ты виноват, сам признал, все равно, среди каких условий; сознался – умри!», – то, умоляю вас, не убивайте этими же словами ла Ронсьера; удалите прочь его признания, отнюдь не добровольные, а вырванные душевными муками; не спокойный разум, а дряблость характера – вот их прямой источник.