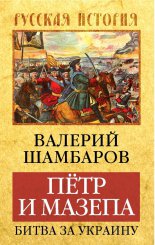Дети иллюзий Кетат Владислав

Отрываюсь от невесёлых мыслей и снова ныряю в книгу. Не закрывая глаз, вижу перед собой заснеженную Москву, монгольскую степь, высокого красного командира с перебинтованным мизинцем, коротко стриженую барышню холодной красоты, взрывающийся над моей головой стеклянный шар…
– Станция «ВДНХ», – слышится откуда-то сверху, – Следующая «Ботанический сад».
Еле успеваю выскочить из вагона.
Чтобы добраться до дома, мне теперь нужно, выстояв очередь, сесть в автобус № 392, или маршрутку аналогичного номера, доехать до города Королёва Московской области и выйти на остановке у библиотеки имени Н. К. Крупской, так называемой «Крупы». Время в пути в зависимости от пробок занимает от тридцати минут до часу, так что дома я буду, в лучшем случае, в половине двенадцатого. Есть и другой вариант исхода: доехать на метро до Ярославского вокзала и сесть там на электричку Монинского или Фрязинского направления, но много таким образом не выиграешь, можно даже серьёзно проиграть: маршрутки ходят гораздо чаще электричек. Вообще, дорога из дома на работу и с работы домой – это проклятье всех, кто живёт за МКАДом, а всё потому, что за этим самым МКАДом, то есть в области, нормальной работы нет, а Москве – есть, но до неё ещё надо доехать.
Очередь оказывается короткой, и я удачно впихиваюсь в первую же подошедшую маршрутку. Сажусь спиной к водителю. Место не особенно завидное – придётся передавать деньги за проезд, – но зато тут есть, куда девать ноги. Читать в маршрутке из-за тряски тяжело, поэтому в дороге обычно я слушаю плеер. Сегодня у меня там кассета «Несчастного случая» – «Это любовь». Сильная вещь. Слушаю её всю неделю, и она мне никак не надоест. Ярославское шоссе сейчас, скорее всего, свободно, так что одной стороны кассеты до дома должно хватить. Давлю на «Play» и, словно по моей команде, набитая под завязку «Газель» тяжело отваливает от остановки, а ко мне начинают тянуться руки, сжимающие по две десятки новыми.
Я живу отдельно от родителей совсем недавно, с тех пор, как окончил институт. Снимаю однокомнатную квартиру с мебелью, стиральной машиной «Эврика» и телефоном – за сто десять долларов в месяц. Обретя долгожданную свободу, я, тем не менее, далеко от них не ушёл – дом, в котором я обитаю, находится через дорогу от родительского. Думаю, это не самый плохой вариант отделения от родственников: вроде бы сам по себе, но всегда можно прийти к ним пообедать или отдать в стирку белье. И при этом довольны все: и я, и предки – а больше всего младший брат, занявший мою комнату.
Захожу в успевший стать родным слабо освещённый подъезд, по щербатым ступенькам поднимаюсь к лифту – и вдруг замечаю торчащий из-под перекошенной дверки почтового ящика с номером 89 белый уголок. Открываю ящик, и мне в руки падает тощий на ощупь конверт. Мой прежний, то есть родительский адрес в графе «Куда» выведен немного расхлябанным, но однозначно женским почерком. В графе «От кого» – заковыристая подпись. Светка, будь она неладна. Третье письмо за месяц.
Его, по-видимому, принёс кто-то из родителей, скорее всего, мать, добрая женщина. Странное дело: Светка ей никогда не нравилась, но после того, как мы разбежались, у матери проявилась в Светкином отношении малопонятная нежность: то она собрала все её фотографии в альбом и как бы невзначай подсунула мне, теперь вот носит её письма. Чудеса. Должно быть, схожий механизм заставляет любить почивших тиранов. Подавив в себе желание прочитать письмо прямо в подъезде, сую конверт в карман и пешком поднимаюсь на второй этаж.
Здравствуй, Лерик.
Можешь мне не верить, но я понятия не имею, зачем строчу тебе письма. Просто сажусь и пишу. Прямо мания какая-то.
Как ты там без меня, бедный Лерик? Говорят, квартиру снял. Один? Вообще-то я почти уверена, что один. Не могу представить, что ты сможешь с кем-нибудь жить, кроме своей мамы. Извини, конечно.
Что у меня? Сегодня год, как мы с Сержиком официально живём вместе, а праздновать не хочется, потому что нечего. Я где-то прочитала, что супружеская близость проходит три основных этапа: первый, когда супруги начинают друг перед другом без стеснения переодеваться, второй – ругаться матом, и третий, извини, пукать. Мы с Сержиком пока на втором.
Честно тебе признаюсь: основным приобретением от моей семейной жизни оказалось вовсе не так страстно желаемая «до» регулярная порция здорового секса, а ничем неконтролируемый поток мужских неудобств. Я хотела мужчину, а получила ребёнка, которого можно трахать. Кстати о трахе: раньше, сразу после свадьбы, мы делали «это» два раза в день, потом как-то незаметно перешли на один, потом на три в неделю, а сейчас совокупляемся (ненавижу это слово, но именно оно в полной мере отражает то, чем мы занимаемся) один – два раза в неделю, обычно по выходным. И чаще, честно тебе скажу, не хочется.
Что ещё? Сержик толстеет. Недавно загнала его на весы – сто пять кэгэ. Он аж присвистнул. Сказал: «Ни хрена себе», слез с весов и пошёл жрать. Времени было полдвенадцатого…
Вообще, чем дольше я с ним живу, тем чаще вспоминаю тебя. Ты только не подумай, что я хочу к тебе вернуться – не дождёшься – просто ты всплываешь в моей памяти как прямая его противоположность. Недавно я даже назвала Сержика твоим именем. Слава богу, тот ничего не заметил. Он последнее время вообще меня не очень замечает.
Ну, всё, писать больше не о чем. Ответа от тебя, я так понимаю, не дождусь никогда.
Не твоя Света.P.S. Надеюсь, у тебя всё так же плохо, как у меня.
Ещё раз перечитав две последние строчки, не спеша складываю из письма самолётик и иду с ним на кухню. Запускать лучше всего оттуда. Примёрзшая форточка открывается с костным хрустом. Морозный воздух врывается внутрь, попутно занося с собой эскадрилью снежинок-самоубийц. Беру самолётик в правую руку, зажигалку в левую; щелкаю колёсиком и подношу синий язычок к хвосту. Прикрываю пламя ладонью, пока оно медленно и нехотя перебирается на бумагу. Когда хвост основательно пылает и гарантированно не потухнет, плавно отпускаю самолётик в холодный прямоугольник, за которым чернота. Маленький факел почти сразу входит в штопор и после двух широких витков падает в снег. Какое-то время бумага горит, освещая кусочек сугроба вокруг, затем резко тухнет – от факела остаётся лишь одна ярко-красная точка. Через секунду гаснет и она.
Задраиваю форточку и сажусь на подоконник. Сигарета сама собой оказывается во рту, пальцы ещё раз щелкают колёсиком зажигалки. Сладковатый дым наполняет лёгкие, налетевшие мысли хватают меня под локти и волокут из кухни прочь, в моё не слишком-то давнее, но, надо полагать, навсегда ушедшее прошлое…
Я понял, что влюбился, когда в первый раз увидел её в домашней одежде: синей полосатой кофточке с коротким рукавом и облегающих трениках. Это было зимой девяносто первого. Не помню, зачем, мы зашли к ней домой с одной нашей одноклассницей, Танькой Васильевой. Я был посажен на диван в большой комнате перед телевизором, а Светка будто бы случайно прошла мимо, на секунду замерев, как раз на линии, соединяющей мои глаза и экран. Этой самой секунды оказалось достаточно, чтобы я зафиксировал её тонкую талию, обтянутые кофточкой острые груди и стройные ножки. Помню, в тот момент я подумал: «Какая же она тоненькая». Следующей мыслью было: «Хана, влюбился».
Со Светкой у нас развивалось так: мы начали встречаться в последнем классе школы, вскоре после описанного выше случая. Я ходил к ней домой, якобы для занятий английским. Мы запирались в её комнате и, ловя каждый шорох за дверью, обжимались на диване. На втором курсе института я её бросил (уже не помню, почему), на третьем вернулся (это было непросто), на четвёртом она бросила меня, потом мы на непродолжительное время сошлись на пятом, потом опять разошлись, потом, на шестом, она сделала робкую попытку начать всё сначала, но я тогда уже был с другой, поэтому взаимностью не ответил, а потом она как-то стремительно вышла замуж. И всё бы, как говориться, ничего, но только после окончательного разрыва стало понятно, что любил я её по-настоящему.
Как я ни старался, забыть Светку совсем или же вспоминать о ней редко, с лёгким апломбом первого владельца, не получалось. Я думал о ней постоянно и совсем в другом контексте. Есть такой кинематографический приём, когда необходимо одновременно показать, что происходит с героями ленты, находящимися в разных местах. В этом случае кадр делится пополам, и в каждой половине совершается некое действие: слева, например, едят, а слева, наоборот, пьют. Вот так мне и представлялась наша с ней несовместная жизнь. Слева она с кем-то спит, а справа с кем-то сплю я. Слева она одна, справа я сплю ещё с кем-то. Справа я один, слева она… ну, понятно. Я часами смотрел такое кино. Только не подумайте, что я специально наводил о ней справки или, прости господи, шпионил. Ни в коем случае. За меня всё делали общие знакомые. Эти добрые люди почему-то очень любят сообщать новости о бывших. Видимо, считают, что от таких рассказов становится легче. Встретишь такого, а он тебе: «Видел вчера Светку с мужем. Загорелые, с югов вернулись» – и стоит, довольный. Придурок. Или: «Светка недавно звонила, они с мужем квартиру сняли…» или: «Встретили в мебельном магазине Светку с Сержиком, мы там гардины выбирали, а они – кровать…» Короче, лучше любой разведки. А с недавних пор стали приходить ещё и письма.
Разумеется, я знаю, как от этого избавиться. Главное – определить проблему, а она в том, что я глобально и совершенно бесперспективно одинок, и ничего не могу с этим поделать. За последние четыре месяца у меня не было ни одного, даже самого пустякового романа. И, соответственно, секса. Вот если бы с головой окунуться в отношения, да так, чтобы разом забыть обо всём на свете: работе, курсе доллара, недописанном романе, Светке с её письмами, идиоте Сержике, Борисе Николаевиче, мать его за ногу… Но где раздобыть такие? Или вообще какие-нибудь…
Неожиданно мне вспоминается Зоя, её жаркие объятия и влажный, благоухающий «Монастырской избой» рот. Повинуясь мимолётному желанию, встаю, открываю скрипучие дверцы кухонного шкафа, где хранится всякий хозяйский хлам, и достаю оттуда оставшуюся с выходных недопитую бутылку «Каберне».
2
Считается, что творческих личностей тянет друг к другу. Правда, тянет. Но только когда личности молоды и ничего не достигли на творческой ниве. Это происходит оттого, что каждому нужна аудитория, а найти её проще всего в себе подобных. И ещё потому, что вместе всё-таки веселее. Позже такие союзы обычно распадаются, поскольку любая творческая личность по определению эгоистична.
Ваш покорный слуга в данном вопросе не исключение. Вот уже много лет мой круг общения состоит из поэта Коли Комарова по прозвищу «Дон Москито», актёра Серёжи Четверикова по прозвищу «Че» и сумасшедшего скульптора Олега Петрова, к фамилии которого, словно немецкое «фон», из-за того, что он на одном новом году пил шампанское из вантуза, приклеилось слово «Панк». Разумеется, у каждого из обозначенных товарищей есть и другие, вполне человеческие профессии, посредством которых те зарабатывают на жизнь, я лишь обозначил их направления в творчестве.
Дона Москито я знаю дольше всех, мы познакомились ещё в институте. Это произошло в курилке – небольшом помещении рядом со столовой – и, хотя там всегда толкалось с десятка два студентов, мы как-то вычислили друг друга среди толпы, и уже после первой раскуренной на двоих сигареты обменялись работами – я дал ему почитать свой рассказ «Локоть судьбы», а он мне – свою поэму «Муза», из которой я запомнил только начало: «Моя печальная муза – рыжая стерва в синих рейтузах»; с Че – самым старшим и самым мудрым из нас – мы сошлись на пьянке у общих знакомых; Панк Петров оказался соседом Че по подъезду и влился в коллектив последним.
Нас действительно тянет друг к другу. Мы довольно часто собираемся, не только чтобы обсудить произведения друг друга, но и ради самого дорогого – того, что в нашем возрасте ещё совершенно не ценится – ради общения. С приходом новых времён и некоторым улучшением материального благосостояния всех четверых места встреч постепенно перекочевали из подъездов (зимой и осенью) и скверов (весной и летом) в клубы и рестораны, коих в столице нашей родины к этим самым новым временам развелось до чёрта. Конечно, здесь нет той романтики и достаточно дорого, но зато тепло, сухо и почти всегда есть чем закусить.
Сегодня …-ое января, четверг. Мы сидим в клубе «Жёлтая кофта», что недалеко от театра имени Маяковского. Это поэтический клуб и одновременно ресторан с демократичными ценами на водку, где ошиваются не очень известные московские поэты и поэтессы, а также люди, не имеющие никакого отношения к поэзии, коих большинство. Разумеется, нам всем бы очень хотелось коротать вечера не здесь, а в «Ротонде[2]» или «Хромой собаке[3]», но так как существование подобных заведений в ельцинской Москве невозможно даже теоретически, приходится довольствоваться тем, что есть.
Хотя, если быть откровенным, «Жёлтая кофта» – не самый плохой вариант. Здесь гораздо приличнее, чем, скажем, в «Балаганчике», где есть шанс отравиться водкой, а за плохие стихи из зала может запросто прилететь пустая бутылка. Неверное по этому «Кофта» пустует редко. По четвергам здесь особенно многолюдно, поскольку по этим дням работает режим свободного микрофона. На практике это означает, что любой желающий, заранее предупредив конферансье, может выйти на сцену и в течение пяти минут насиловать слух всех присутствующих, включая официантов и гардеробщика, своими виршами. Собственно, поэтому мы сегодня здесь – Дон Москито на выходных накарябал, как он только что выразился, мини-поэму «Ушла!», и теперь ему необходимо зачитать её перед независимой аудиторией. На поэтической фене это называется приступом лирического эксгибиционизма. Время от времени все мы страдаем такими приступами (понятное дело, у каждого эксгибиционизм свой), поэтому с радостью откликнулись на приглашение друга прийти сегодня вечером к «Маяку».
Есть только одна проблема: Дон Москито от природы очень стеснителен, и выступать перед незнакомыми людьми для него сродни пытке, поэтому, чтобы набраться уверенности, ему необходимо прилично набраться, уж простите за каламбур. Так что наша задача – не только составить компанию нашему поэту в распитии спиртных напитков (что, в общем-то, несложно), но ещё и следить за тем, чтобы он к моменту выхода на сцену был во вменяемом состоянии. А вот с этим дело обстоит несколько тяжелее, поскольку Дон Москито после определённой дозы выпитого может стремительно отключиться. Однажды мы упустили этот момент и последствия были плачевны – наш поэт просто не смог подняться из-за стола, чтобы дойти до сцены. Это произошло месяц назад в «Балаганчике», куда нам теперь стыдно показываться. Но сегодня всё идёт хорошо, по крайней мере, пока; мы выпили по две кружки пива каждый и заказали ещё. Дон Москито умеренно навеселе, и по выражению его лица можно понять, что требуемое состояние им ещё не достигнуто, но приближение оного уже не за горами.
На сцене сейчас его коллега по цеху, который громко и отчётливо, словно выплёвывая, швыряет в зал строку за строкой. На коллеге надет длинный красный пиджак с фантастических размеров золотыми пуговицами и штаны от спортивного костюма «Adidas». Под пиджаком, видимо, ничего нет, поскольку из глубокого выреза торчат кудрявые рыжие волосы поэта, а в просвете между пуговицами угадывается пупок. Поэт стоит в позе самого известного обладателя жёлтой кофты – широко расставив не слишком длинные ноги и чуть наклонив вперёд квадратную голову; правая его рука душит микрофон, а левая – совершает загадочные ритмические пассы, будто бы её хозяин безуспешно пытается стряхнуть с рукава грязь.
Насколько мне удаётся понять по первым строфам, поэтическое произведение, которое поэт несёт со сцены, представляет собой зарифмованное описание неудачной коммерческой сделки, а его основная мысль умещается в одной фразе, которую поэт, будто песенный припев, повторяет после каждой строфы:
- …бабло упало,
- упало мало,
- и то, безналом…
Мне известна эта колоритная личность на сцене, я даже коротко с ней, точнее, с ним, знаком. Это некто Пётр Тарасов, довольно известный в узких кругах рекламщик, и по совместительству поэт-самоучка. Он знаменит тем, что по несколько раз в год публично меняет псевдоним заодно со стилем, в котором творит. Давным-давно, когда мы только с ним познакомились, он был футуристом и представлялся: «Питирим Тарантасов, поэт будущего», потом его качнуло в символизм и он стал Петром Дебелым, затем на короткое время примкнул к новым имажинистам под личиной Тарзана Нарзанова, и вот теперь, если верить объявившему его конферансье, он: «Просто Петька, поэт – универсал».
– Хорошо хоть имя осталось, – легонько толкает меня в бок Дон Москито, – интересно, куда его дальше шарахнет?
– Думаю, этого никто не знает, даже он сам, – сквозь на мгновенье закрывший его лицо табачный дым, отвечает Че, – но в каком стиле он сейчас творит? И что это вообще такое, поэт-универсал?
– Возможно, это означает его способность одинаково хорошо зарифмовывать муки истосковавшегося по женскому телу молодого самца и, например, детали финансовых операций, – предполагаю я.
Че смотрит на меня с подозрением, Дон Москито сосредоточенно трёт виски, а Панк Петров расплывается в непонятной по характеру улыбке.
– Ты считаешь, что это хорошо? – спрашивает Дон Москито, мотнув кудрявой головой в сторону сцены.
Я понимаю, что сморозил глупость, похвалив в его присутствии другого стихоложца.
– Ну, я же не сказал, что он пишет хорошие стихи, – оправдываюсь я, – я сказал, что он хорошо рифмует…
– Это одно и то же, – перебивает меня Панк Петров, – рифмовать и писать стихи, это синонимы.
– Ну, началось… – сокрушается Че.
Поясняю: Панк Петров публично презирает литературу вообще и поэзию в частности, а также тех, кто их обеих создаёт, то есть писателей и поэтов. Он, видите ли, воспринимает только осязаемые виды искусства, то есть живопись, ваяние и архитектуру. Не знаю, с чем связана его странная позиция, в которой, кстати, нет ни капли искренности: Олег много читает, и дома у него прекрасная библиотека. Дону Москито это хорошо известно, но он в сотый раз ведётся на дешёвые провокации.
– Нет, не синонимы! – резко заявляет он, раскрасневшийся от пива и клубной духоты. – «Спасибо нашим поварам – варили свиньям, дали нам» – это зарифмовка, а «Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты…» – это стихи. В них есть душа.
– Не вижу разницы, – отрывая ото рта пустую кружку, небрежно бросает Панк Петров, – а души, между прочим, не существует.
– Души не существует в беременных штангистках, которыми уставлена, не будем говорить чья, мастерская, – наносит ответный удар Дон Москито.
Я еле сдерживаю улыбку: уж больно точно Дон Москито определил внешний вид творений нашего скульптора. А вот Олегу не до смеха, он, похоже, тоже завёлся.
– Да что ты понимаешь в скульптуре, стихоплёт! – шипит он.
Услышав страшное для любого поэта слово, Дон Москито буквально взрывается:
– Ты кого стихоплётом назвал, скульптурщик?
Резкий хлопок ладони об стол заставляет спорщиков замолчать.
– Последний раз говорю вам, придурки, хватит валять дурака! – рявкает Че так, что мы втроём вздрагиваем. – Если не прекратите, оба будете лишены следующей кружки. Миритесь, несчастные!
Противники привстают и церемонно пожимают друг другу руки, но у самих в глазах пляшут костры и скачет монгольская конница. Или мне это просто кажется?
В это время поэт-универсал заканчивает выступление, вставляет микрофон в стойку, и под редкие хлопки, широкой пошатывающейся походкой удаляется со сцены. Проходя мимо нашего столика, он приподнимает руку в вялом приветствии, мы отвечаем ему точно такими же.
– Поаплодируем Просто Петьке, – гнусавит подскочивший к оставленному микрофону конферансье, одетый по моде начала прошлого века, – а теперь перед вами выступит мадемуазель Анна из поэтической коммуны «Убийцы Маяковского». Да-с, господа! Именно так-с! Прошу вас, мадемуазель!
Из-за спины конферансье появляется высокая худая девушка, стриженная под Ахматову. Она выше конферансье на полголовы и в два раза тоньше, потому рядом они выглядят весьма комично. У девушки вытянутое лицо с довольно широкими скулами и пронзительные карие глаза; нос с благородной горбинкой, длинные худые руки, и длинные, должно быть, также худые ноги. Обтягивающее чёрное платье без рукавов выдаёт почти полное отсутствие женских выпуклостей.
Откуда-то сзади слышится:
– Красота страшна…
После смешков с соседнего столика:
– Нос маловат, а так, ничего, похожа…
А девушка, которая, к своему счастью, всего этого не слышит, истерически заломив руки и выпятив вперёд острый подбородок, начинает:
- По улице Газгольдерной,
- Он к девушке совсем одной,
- Идёт…
- В его глазах расстёгнутых,
- Её портрет издёрганный,
- Стоит…
- А сердце серной горною,
- По улице Газгольдерной,
- Летит…
- Где девушка совсем одна,
- Любви своей, испив до дна,
- Лежит…[4]
Отступив от микрофона на шаг, поэтесса делает паузу, давая понять, что стихотворение окончено. На этот раз из зала не доносятся аплодисментов вообще, только редкие смешки. Девушка, кажется, не обратив на это никакого внимания, вновь подходит к микрофону и принимает позу «для чтения».
Теперь слова вырываются из неё с большим остервенением, чем в первый. Видимо, поэтесса вошла в образ, и не собирается его покидать. Меня всегда восхищали люди, способные вот так преображаться на публике, поэтому я испытываю мгновенный прилив уважения к странной девушке на сцене, который, впрочем, испаряется после фразы: «Офелия ли я…» – больно уж пафосно и ненатурально это звучит. Отворачиваюсь от сцены. Оказывается, друзья это уже сделали, и преспокойно общаются. Из разговора я понимаю, что они вернулись к первоначальной теме, от которой нас отвлёк знакомый нам многоимённый поэт. А обсуждали мы внешний вид Панка Петрова, а точнее, отцветающий «бланш» под его левым глазом, из-за которого, кстати, Олега не хотели пускать в клуб; его спасло лишь дипломатичное вмешательство Че и небольшая взятка администратору.
На резонный вопрос: «Откуда «фонарь»?» наш раненный друг поведал леденящую душу историю о том, как в понедельник на них с Марго напали хулиганы в количестве трёх рыл, и как он всех троих бесстрашно раскидал, получив при этом по репе лишь единожды.
– Один раз раскрылся – и на тебе! Пропустил! – сокрушался он. – Правый прямой. Хорошо, что я удар отлично держу, а то бы кранты…
Немного погодя, то есть после первой, Панк Петров пересказал ту же историю, но в существенно более точных подробностях, чем в первый раз. Неизвестные злодеи теперь обрели вполне ясные очертания: нам стали известны их возраст, черты лиц, детали одежды и даже имена и клички. Единственное, в чём не был уверен рассказчик, так это в цвете глаз нападавших. Панк Петров также продемонстрировал нам, как кричала Марго, чтобы он пожалел поверженных врагов, отчего соседи справа испуганно вздрогнули. Сейчас, после третьей, Панк Петров рассказывает нам всё сначала:
– А этот четвёртый, видно, боксёр был. Я от него и так, и так, – рассказчик показывает, как именно он ставил «блоки» и уворачивался, задевает при этом локтем свою кружку, но Че подхватывает её в последний момент и приводит в вертикальное положение.
– Четвёртый? – переспрашивает он, вытирая салфеткой руки. – Ты же сказал, что их трое было.
От неожиданности Панк Петров икает баритональным тенором, но быстро приходит в себя и, якобы не заметив, что его застукали, продолжает:
– Слава богу, я в детстве карате занимался, а то бы кранты…
Видимо, для большей убедительности рассказчик, воздев очи к люстре, размашисто крестится.
– Это очень убедительно, осенять себя крестным знамением, когда ни хрена в бога веришь, – меланхолично язвит Че.
Я улыбаюсь про себя: что верно, то верно – большего безбожника, чем Олег, ещё поискать.
Вообще-то Панк Петров – враль, каких мало. Мы это прекрасно знаем, и потому ничему не удивляемся. Наоборот, киваем, задаём наводящие вопросы, а сами терпеливо ждём, когда у него развяжется язык и он поведает нам, как же всё было на самом деле. Возможно, это не совсем по-товарищески, зато весело. Тем более что сам рассказчик на это не обижается. По большому счёту, его басни – не вранье вовсе, в привычном понимании слова, а неукротимый полёт фантазии, с которым он просто не в состоянии справиться. Ну не может человек просто сказать, что сходил, например, за хлебом – он непременно поведает, что в магазине произошло ограбление со стрельбой, или что продавщица ни с того ни с сего устроила стриптиз, или что перед ним в очереди стоял сильно постаревший Элвис Пресли в спецовке дорожного рабочего. С такими данными, как говориться, прямая дорога в писатели, но Панк Петров почему-то выбрал скульптуру. Он даже где-то этому делу учился, кажется, в Суриковке или Строгановке, но по какой-то причине бросил. Чтобы не попасть в армию, наш герой пошёл в Московский Лесотехнический институт, с горем пополам его закончил, и теперь работает озеленителем. Скульптура же осталась у него в ранге хобби, благо жилищные условия позволяют – от дослужившегося до красных лампасов деда ему досталась дача в подмосковной Валентиновке, с примыкающей к дому оранжереей, которую внук приспособил под мастерскую. Там он, собственно, и творит в свободное от основного занятия время. Основным мотивом его творчества, как было сказано, является женское тело. Полностью или частями воссоздаёт он его из доступных материалов: дерева, алебастра, гипса и какого-то сероватого камня. Моделью чаще всего служит его нынешняя девушка, вышеупомянутая Марго, которую он почему-то скрывает от родителей. Однажды, когда те в очередной раз попросили её им показать, Панк Петров немного подумав, сказал: «Сейчас», удалился в мастерскую, вынес оттуда скульптуру обнажённой размером с пенный огнетушитель и взгромоздил на стол.
Вот такой он у нас, Панк Петров. Единственный и неповторимый.
– Ну, так что там с четвертым? – осведомляется Че.
– С каким четвертым? – с деланым непониманием спрашивает Панк Петров и фальшиво кашляет.
– Ну, с тем, что был боксёром, – не без яда уточняет Дон Москито.
– Ах, четвёртый…
– Да, да, четвёртый!
– Тот, что боксёр?
– Он самый, Олеж, он самый!
Панк Петров озадаченно чешет сивый затылок. Долго чешет.
– Ну ладно, чёрт с вами, слушайте, – сдаётся он, наконец, – только, чур, не смеяться. И никому ни слова!
Мы показываем жестами, что скорее умрём, чем у нас развяжутся языки. И только после этого Панк Петров рассказывает, что же на самом деле случилось.
А всё, оказывается, было просто. Действительно, в понедельник он провожал Марго домой, но по дороге на них никто и не думал нападать. Панк Петров остался у её на ночь со всеми вытекающими, и когда доставлял ей оральное удовольствие (он так и сказал: «оральное удовольствие»), Марго лягнула его коленом. В самый кульминационный момент. Случайно.
– Прямо в глаз, представляете! – громким шёпотом сообщает нам Панк Петров. – Думал, рассосётся… утром глянул в зеркало, а там – капитанский фонарь…
Приступ хохота буквально валит нас под стол.
– Кончайте ржать, сволочи! – рычит на нас потерпевший.
Только мы и не думаем заканчивать. Слишком уж смешно вышло.
– Пива раненому на эротических фронтах! – сквозь смех кричит Че.
– Два пива! – поддерживает Дон Москито.
– Три! – кричу я.
– Гады, я же просил! – чуть не плачет Панк Петров.
Привлечённая криками, из другого конца зала к нам спешит полная, но весьма подвижная официантка.
Тем временем запас хохота во мне иссякает, и я замолкаю. В голову приходит неприятная мысль о том, что при всей комичности ситуации, Олег всё равно оказался на высоте, по крайней мере, относительно меня, поскольку у него есть кому доставлять оральное удовольствие, хотя бы и с такими последствиями. Внезапно мне становится грустно, как бывает, когда ты слегка пьян, и чтобы разбавить эту грусть, я припадаю к недопитой кружке.
– Клиент созрел, – тихо говорит мне Че, мотнув головой в сторону Дона Москито.
Смотрю на нашего друга, и действительно: клиент, то есть Дон Москито, и правда созрел – судя по блуждающей по его физиономии странноватой улыбке, он уже прилично пьян. «Как же мало ему надо, – думаю я, – три кружки всего».
– Коль, – обращаюсь я к Дону Москито, – а не пора ли нам прикоснуться к истинной поэзии?
Панк Петров снова громко икает, затем открывает рот, чтобы что-то сказать, но Че так выразительно на него зыркает, что тот захлопывает рот ладонями и зачем-то зажмуривает глаза.
– Я ещё не готов, – после паузы отвечает Дон Москито, – я бы выпил ещё… чего-нибудь покрепче… и в бой…
Я поворачиваюсь к Че, но тот делает успокаивающий жест рукой: мол, всё в порядке.
– Девушка! – щёлкает пальцами он. – А водочки можно нам?
Услышав заветное слово, официантка, которая до этого скучала у барной стойки, срывается с места и спешит к нам с подносом в руке, на котором стоит пузатый графинчик о четырёх рюмках. Вообще-то я не собирался сегодня пить водку, поскольку не очень приветствую так называемое «смешение жанров», короче говоря, не люблю ершить, но чего не сделаешь ради друзей.
Графинчик перекочёвывает с подноса на стол. Че, отблагодарив официантку улыбкой, начинает разливать.
– Что-то как-то очень быстро принесли, тебе не кажется? – спрашивает Панк Петров.
– Чему ты удивляешься, они на водке самые большие деньги делают, – отвечает Че, – графинчик-то, небось, о-го-го сколько стоит!
Я прикладываю ладонь к графину:
– Ледяной. И рюмки, видимо, тоже.
– Да, их в морозилке держат, я видел, – кивает Че, – это чтобы не заметили сивухи. Водка-то наверняка палёная.
Его слова заставляют меня поморщиться:
– Давайте не будем о грустном, вечер только начался. За что, кстати, пьём?
– За нас в искусстве! – бодро заявляет Панк Петров.
– Может, лучше за искусство в нас? – несмело предлагает Дон Москито.
– Давайте, просто за нас, – Че поднимается, держа на вытянутой руке рюмку, – мы лучшее, что есть за этим столом!
– Принимается, – говорю я, вставая.
– Не люблю пить стоя, вы же знаете, – ворчит Панк Петров, но тоже встаёт.
– Нескромно, ну и ладно… – Дон Москито присоединяется к компании, возвышаясь над нами, он среди нас самый длинный. – Сам себя не похвалишь…
Мы дружно чокаемся, и хотя желаемого звона наши рюмки не производят, на мгновение в окрестности нашего стола образуется атмосфера праздника, ради которой и затеваются все новые годы, дни рождения, юбилеи и просто рядовые пьянки. Ледяная водка пьётся легко, хотя в ней чувствуется нехороший привкус – Че был прав, она действительно палёная.
– Ну, я готов, – говорит Дон Москито, с характерным звуком ставя на стол пустую рюмку.
– Тогда иди, поэт! – хором отвечаем ему мы. Это уже своего рода традиция.
Дон Москито делает знак рукой подзаснувшему на сцене конферансье. Получив от того подтверждение в виде утвердительных кивков, он выходит из-за стола и направляется к сцене бодрым, почти строевым шагом, что внушает нам некоторую уверенность в том, что в этот раз всё обойдётся. На ходу Дон Москито извлекает из одного кармана листок с текстом и очки из другого.
– А теперь-с, – переходя на фальцет, объявляет подскочивший к микрофону конферансье, – вы будете иметь удовольствие прослушать новое сочинение нашего дорогого гостя, поэта, чьи произведения не раз и не два звучали в этом зале. Поприветствуем знаменитого Николая Комарова!
Из зала, а точнее, из-за нашего столика, доносятся энергичные аплодисменты и одобрительные возгласы. Объявленный подходит к микрофону и жестом просит нас помолчать. Мы подчиняемся и принимаем, наконец, сидячее положение. Лично я с удовольствием плюхаюсь на стул и вытягиваю под столом ноги. Дон Москито в это время безо всякого вступления начинает:
- Мне тут моя закатила истерику:
- «Мол, всё надоело, хочу в Америку!»
- «На кой ляд, – говорю, – ты там сдалась?»
- А она мне с размаху по морде – хрясь!
- Я ей: «Давай лучше в Питер на майские!»
- Она ни в какую, коза валдайская!
- «Тогда, может, с друзьями на дачу?»
- «Гопники, – говорит, – твои друзья, и алкаши в придачу!»
«Что бы это могло значить?» – думаю я, переваривая смысл услышанного. Додумать мысль мне не удаётся, поскольку мой взгляд, который был прикован к читающему Дону Москито, вдруг сам собой фокусируется на девушке, сидящей за столиком между нами и сценой. Оказывается, она смотрит, и, вероятно, смотрела раньше, в мою сторону. Наши взгляды встречаются, но девушка не отводит глаз, напротив, продолжает смотреть, чуть повернув голову влево, видимо, демонстрируя свой самый выгодный ракурс.
Честно скажу, в таких случаях я всегда чувствую себя неловко – не могу спокойно выдержать женский взгляд, особенно такой. Может, какие наглые красавцы на это и способны, но только не я. Поэтому после нескольких секунд гляделок я отвожу взгляд в сторону, то есть на Дона Москито.
Со сцены доносится:
- Вот так и живём – ни друзья, ни враги,
- Я ей: «Люблю!»; Она: «Купи сапоги!»
- Ведь женщина – очень капризный предмет:
- Кончились деньги – её сразу нет.
– Последнюю фразу я бы приказал высечь в камне, – шепчет мне на ухо Че.
Машинально киваю в ответ, а у самого не выходит из головы та, что с полминуты назад активно на меня таращилась. Бросаю якобы случайный взгляд в её сторону, но она занята разговором с тем, кто сидит рядом, и мне виден сейчас только её затылок.
«Может, она меня с кем-то спутала? – думаю я. – Или с одеждой что-нибудь не так?»
Критически осматриваю себя, и, ничего странного не обнаружив, снова смотрю на девушку, теперь всем телом повернувшуюся к сцене. В это время Дона Москито, сделав довольно длинную для декламации стихов паузу, неожиданно резко повышает тон:
- Без неё не могу, а с нею – никак!
- На сердце камень, в душе – бардак!
- Я знаю, есть средство, как мир простое:
- В петлю тот камень, на шею и в море…
«Что же ей всё-таки от меня было нужно? – вертится в голове. – И с чего это Коля так разорался?»
– Серёж, тебе никого не напоминает вон та девушка в сером свитере? – спрашиваю я Че, взглядом показав, кого я имею в виду.
– За тем столиком? – уточняет он, мотнув головой в её сторону.
– Угу, – подтверждаю я.
Че близоруко щурится и смешно вытягивает тощую шею из воротника рубашки в направлении объекта исследования.
– Не-а, – заключает он, – первый раз вижу. Только, знаешь, это ни фига не свитер, а вязаное платье. А почему ты, собственно…
Нас прерывают аплодисменты. Не жидкие хлопочки, сделанные из вежливости, а самые настоящие рукоплескания со свистом и топотом. Бросаю взгляд на сцену и – о ужас! – там, всё ещё сжимая в правой руке микрофон, а в левой – листок с бессмертными стихами, с опешившего конферансье мокрым комбинезоном свисает наш поэт.
Мы с Че вскакиваем с мест и что есть сил рвём на сцену. В три прыжка достигаем места крушения, хватаем нашего опавшего друга под руки и, словно раненого, уносим со сцены. К счастью, Дон Москито не сопротивляется, он лишь вяло сучит ногами по полу и что-то бормочет – видимо, ту часть своей мини-поэмы, которую не успел дочитать. Шум в зале, между тем, не утихает, напротив, становится громче.
– Уважаемый, успокойте народ! – шипит Че в сторону конферансье, который увязался за нами.
– Не могу-с! – отзывается из-за моей спины тот. – Не в силах-с! Вот сюда, пожалуйста, в уборную-с!
Проблема в том, что уборная-с находится в противоположном конце помещения, и чтобы в неё попасть, нам нужно протащить Дона Москито через весь зал.
Трудно передать, что творится за столиками. Издевательские аплодисменты – это полбеды, каждый, то есть, абсолютно каждый считает своим долгом крикнуть в наш адрес что-нибудь обидное. «Не вынесла душа поэта», «Сгорел на работе», «Опал, как озимый», «Обожратушки – перепрятушки» и тому подобное – всё это приходится нам выслушивать, пока мы совершаем проход по залу.
– Вот ведь гады, – говорю я на ходу, – ничего святого нет. Ну, напился человек, ну вырубился, чего орать-то?
– Они хотели зрелища, – бурчит Че, – они его получили, теперь наслаждаются. Подобные случаи лучше всего обнажают зловонные стороны гнилых душ.
– Да, вы, батенька, тоже поэт! – пытаюсь острить я, как всегда неуместно.
– Ты-то хоть помолчи! – огрызается он. – Без тебя тошно. Это я во всём виноват, не надо было водки ему давать! Теперь нас и сюда перестанут пускать…
– На сцену – это уж точно-с! – снова подаёт голос конферансье. – А в зал, пожалуйста! Бухайте-с!
– Вот ведь козёл, – говорю я негромко, но так, чтобы тот расслышал.
Наконец добираемся до вожделенного сортира. К счастью, он свободен – об этом позаботился Панк Петров, убедивший мужика в очереди пропустить нас вперёд.
– Только давайте, недолго, – говорит тот, – а то я ноги ошпарю.
Заносим тело в небольшую квадратную комнату с узким оконцем, из которого виден освещённый фонарём кусочек улицы Герцена, в смысле Большой Никитской. Че наклоняет поэта над раковиной, Панк Петров открывает кран, из которого после серии неприличных звуков на склонённую голову обрушивается ледяной водопад, и пшеничные кудри Дона Москито, которыми тот так гордится, мигом превращаются в мокрые крысиные хвостики.
Реанимация протекает успешно. Не проходит и минуты, как Николай начинает оживать – мотать головой и вяло материться, ещё через минуту он уже пытается вырваться и брыкается правой ногой, но друзья крепко удерживают его голову под краном. Неожиданно я замечаю, что в туалете оказывается невероятно тесно, он явно не рассчитан на единовременное присутствие четверых крупных мужчин.
– Думаю, я тут лишний, – говорю я.
– Да, иди за стол, последи за вещами, – не оборачиваясь, бросает мне Че, – не хватало ещё, чтобы у кого-нибудь шапку спёрли.
Выхожу из туалета с перекошенным от злости лицом, но, сделав всего пару шагов, меняю его на беззаботное – пусть думают, что мне тоже весело. Пробираюсь между столиками на место, но никто не смотрит в мою сторону – видимо, уже забыли. Около нашего нос к носу сталкиваюсь с девушкой, которой несколько минут назад проиграл в гляделки. Она, оказывается, почти с меня ростом и довольно широка в плечах, для девушки, разумеется. На её лице озабоченность.
– С вашим другом всё в порядке? – спрашивает она.
– Да, спасибо, – отвечаю я, – он просто перебрал.
– Видимо, не просто, раз так упал?
– Ну, не так уж он сильно и упал… и потом, быстро поднятый поэт упавшим не считается…
Улыбаюсь, чтобы обозначить шутку, но девушка не реагирует. Наступает неловкая пауза.
– Татьяна, – девушка довольно резко протягивает мне руку.
Слегка пожимаю прохладную ладонь:
– Валерий, можно Лерик.
– Лерик, как мило. А это, – Татьяна показывает отогнутым большим пальцем себе за спину, – Аня.
Из-за её спины появляется девица с густо накрашенным, но совершенно детским личиком, в которой я узнаю ту самую «Ахматову», то есть мадемуазель Анну. Она тоже подаёт мне руку, только, скорее, для поцелуя, нежели для рукопожатия. Мне не остаётся ничего другого, как, слегка нагнувшись, приложиться к ней губами.
– Так это вы – убийца Маяковского? – спрашиваю я, выпрямившись.
– Одна из, – отвечает мадемуазель Анна, – нас много.
– И чем же, простите, вам не угодил Владимир Владимирович?
– Он убил русскую поэзию, и за это мы должны убить его.
– Но он ведь уже, – быстро произвожу расчёт в уме, – шестьдесят восемь лет как мёртв.
На Анином скуластом лице появляется странное выражение – смесь гнева и удивления.
– Это, безусловно, делает вам честь, – медленно и отчётливо произносит она, – что вы знаете официальную дату кончины Маяковского, но на самом деле он ещё жив.
Трудно описать то, что происходит в моей голове.
– И сколько ему стукнуло? – должно быть, несколько эмоционально осведомляюсь я. – Пардон, запамятовал, когда Владимир Владимирович уродился.
– Не в прямом смысле, конечно, жив, – оговаривается Аня, – физически он, разумеется, мёртв. Его застрелила Вероника Полонская, но дух его мечется над нашей родиной, находя пристанища в неокрепших поэтических душах, например, в душе вашего друга. Наша задача – изгнать его оттуда…
– Ладно тебе, перестань, – перебивает её Татьяна, – может, лучше сядем?
Бегло осмотрев наши шмотки на предмет пропажи чего-либо, я принимаю приглашение, и вместе со стулом и недопитой кружкой перемещаюсь за столик к девушкам, на котором вижу два конусообразных бокала и тарелочку с орешками. Перехватив мой взгляд, Аня выдаёт:
– Абсент здесь не наливают. Наверное, поэтому тут читают такие дерьмовые стихи.
– Абсент? – не понимаю я.
– Напиток поэтов, – поясняет Татьяна.
– Ах да, «Зелёная фея»! Читали, читали… Только мне как-то ближе напиток не поэтов, а варваров.
– От абсента – стихи, а от пива – бодун и очередь в сортир, – презрительно роняет Анна.
И хотя её слова мне не особенно приятны, по сути, она права – очередь туда, откуда я только что вернулся, вызвана именно им.
– Как бы там ни было, – говорю я, поднимая кружку, – за наше случайное знакомство!
Девушки тоже поднимают бокалы и благосклонно со мной чокаются.
– А вы, Валерий, имеете какое-нибудь отношение к литературе? – спрашивает Аня, ловко закидывая в рот пару орешков.
– В некотором роде, – отвечаю я, – аз есмь писатель. Пишу роман.
– Тогда вам надо пить водку.
– А лучше всего, кальвадос, – поддакивает Татьяна, – без закуси.
– Не, кальвадос нельзя, – мотаю я головой из стороны в сторону, – «Триумфальная арка» получится.
Моя фраза почему-то вызывает у девушек необъяснимый восторг. Обе, как по команде, заливаются звонким, таким школьным смехом.
– Не получится! – сквозь него говорит Татьяна.
Я киваю в ответ: мол, понятное дело, не получится – какой из меня Ремарк. Наши с Татьяной взгляды встречаются, и в этот момент в моей голове проносится мысль о том, что передо мной сейчас не просто девушка, а «та самая», о которой я думал вчера на кухне.
«Так вот же она, – стучит у меня в голове, – вот она! Она! Она! Она…»
А девушка эта смотрит на меня с любопытством и хитринкой, которая так привлекает; во взгляде её – смесь кокетства, задора и интереса, будто она меня дразнит и одновременно изучает. Но я держусь, не отвожу взгляда от её серых, самую капельку раскосых глаз, в которых отражается огонёк коптящей на столе свечи, словно кто-то невидимый могучей пятерней держит меня за затылок, не давая малодушно уронить глаза в стол или отвернуться.
Откуда-то извне до меня доносится высокий Анин голос:
– Эй, про меня не забыли?
– Ну как про тебя забудешь! – на выдохе произносит Татьяна, и второй раунд гляделок заканчивается. Вничью.