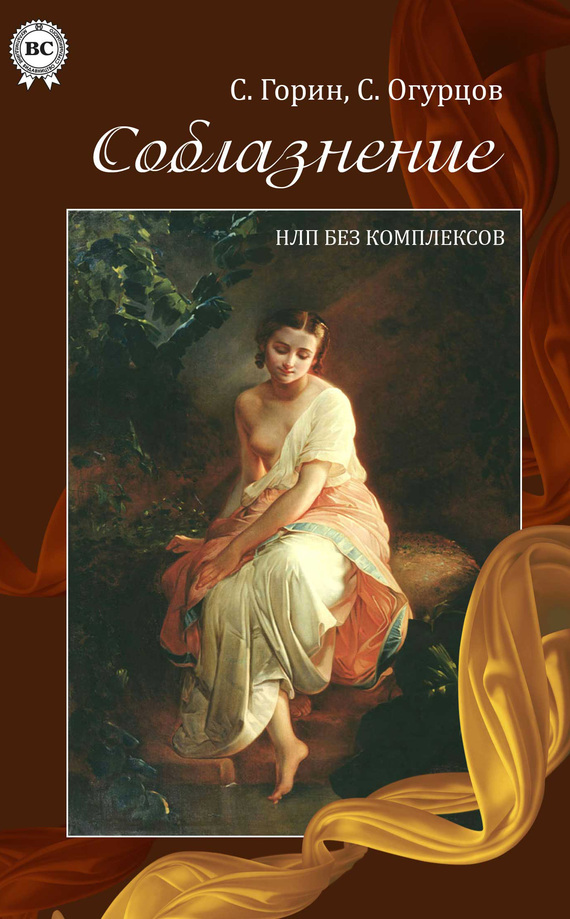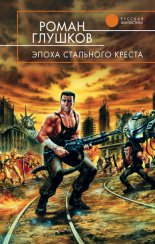Золотой империал Ерпылев Андрей

Каминский в трубке, прежде чем ответить, матерился с минуту длинно и заковыристо, артистически нанизывая одну непристойность на другую. Несмотря на раздражение, Николай невольно заслушался, ибо подполковник слыл одним из лучших матерщинников не только управления, но и всего города.
Наконец нецензурное вдохновение начальника иссякло, и он сухо бросил:
– Крестники твои вчерашние в камере чего-то не поделили. Один холодный уже, а другой – в реанимации…
Николай даже задохнулся:
– Как же они в одной камере оказались-то? Я же специально…
Подполковник помолчал и буркнул раздраженно:
– А я почем знаю? Оказались, и все тут! Ладно, пять минут на сборы. Машину за тобой я уже выслал…
Как оказалось, ночью срочно потребовалась камера для одной бабы, пардон, женщины, подрезавшей по пьянке своего благоверного, а так как подходящих помещений в старом тесноватом здании горотдела было всего два, осатаневший от недосыпа дежурный, ничтоже сумняшеся, велел перевести запертого в одиночестве Клеща в общую камеру. Старлей, состарившийся на службе без какой-либо перспективы на повышение, понадеялся на русский авось, и в результате капитан Александров сидел теперь над телом киргизского паренька, который, казалось, с большим интересом изучал своими непроницаемо-азиатскими глазенками лабиринт трещин на давно не ремонтированном потолке. Однако результатов своего исследования он уже, увы, не мог сообщить никому, кроме своего Аллаха, по причине располосованного от уха до уха горла…
Как показали срочно допрошенные еще до приезда Александрова сокамерники убитого – двое наперсточников, задержанных утром на автовокзале, и местный агрессивный бомж Ксенофонтыч – поначалу ничего не предвещало трагедии. Клеща подселили часов в двенадцать ночи, и он, пугнув по праву бывалого урки, старых обитателей камеры и перекинувшись с подельщиком парой-другой слов, завалился спать. За ним уснули и остальные обитатели камеры. Проснулся первым, оттого что на него хлынула какая-то теплая жидкость, Ксенофонтыч, занимавший место как раз под киргизом. Соскочив с нар с целью «урыть узкопленочного зассанца», он сам чуть не наделал в штаны при виде страшной картины: азиат бился в агонии, разбрызгивая вокруг темные в тусклом свете лампочки-сороковки, светившей под потолком камеры, струи крови.
Еще больше бомж, повидавший в своей длинной жизни многое, ошалел при виде второго парнишки, Клеща, который, уже глубоко распоров в двух местах левое запястье, обливаясь кровью, резал лезвием безопасной бритвы, неизвестно каким образом пронесенным в камеру, вены на правой руке. Опомнившись, бомж кинулся ему на помощь, но парень, уже переступивший зыбкую грань небытия, никак не давался в руки, умудрившись серьезно поранить доброжелателя. От шума борьбы проснулись остальные и, общими усилиями кое-как скрутив самоубийцу-неудачника, вызвали охрану.
Резался Клещ всерьез, не напоказ, как это обычно случается в КПЗ, и к тому моменту, когда подоспела настоящая подмога, потерял столько крови, что, несмотря на наложенные жгуты, быстро потерял сознание и впал в кому еще до приезда бригады «скорой помощи». Врачи ничего обнадеживающего сказать не смогли и увезли пострадавшего, наотрез отказавшись от Базарбаева, помочь которому мог бы теперь только Аллах, в которого, кстати, парень из степей, вероятнее всего, не верил…
Александрову ничего не оставалось, как дотошно допросить всю оставшуюся в камере троицу.
Наперсточники смогли сообщить мало путного, так как проснулись только под занавес скоротечной трагедии, а бомж к ранее сказанному (надо заметить, сказанному довольно связно), больше ничего существенного добавить не мог. Теперь он, белея замотанной свежим бинтом щекой (Клещ, вырываясь, наотмашь полоснул его лезвием так, что еще чуть-чуть, и наперсточники остались бы досыпать в одиночестве), сидел перед капитаном, сжимая в покрытых запекшейся чужой и своей кровью грязных трясущихся пальцах дымящийся окурок сигареты, и занудно твердил одно и то же: «Не помню я ничего, гражданин начальник, не помню я ничего…»
Внезапно он подскочил на табурете и заорал прямо в лицо Александрову, обдавая того вонью полусгнивших зубов и возбужденно брызгая слюной:
– Вспомнил, вспомнил, гражданин начальник! Сначала он только орал да матерился, а как скрутили мы его, говорит, да тоскливо так говорит: «Будьте людьми, дайте сдохнуть, козлы! Все равно мне не жить. Князь меня достанет…»
– Кто-кто?
– Князь, говорит, достанет.
– Князь, это что – кличка?
В ответ Ксенофонтыч пожал плечами.
– Погоняло наверняка. У нас на зоне, когда я срок тянул, Граф один был. Манеры, как у настоящего графа, я в киношке видел. В законе был Граф… А тут Князь. Одна хрень! Настоящих-то князей почитай восемьдесят лет нету, повывели всех…
– А еще что он говорил?
– Да ничего он больше не говорил, стонал только. А как вертухаи набежали, вообще замолк напрочь. По-моему, он уже тогда ничего не петрил, кровищи-то из него вышло – ужас! Как водица бежала кровянка… Мы ему раны-то прижимаем, а она все одно бежит сквозь пальцы, кровушка-то… Красная-красная…
Бомж снова затрясся, и Александров, по-человечески пожалев этого нелепого и по-своему несчастного человека, сунул ему в руку мятую пачку «Примы» с парой-тройкой сигарет, валявшуюся с незапамятных пор в столе, и отпустил с богом в камеру.
На часах значилось восемь утра. Пора было наведаться в больницу. На звонок в реанимацию Николаю ответили, что, хотя поступивший ночью после попытки суицида пациент потерял очень много крови, он пребывает в сознании и может говорить. Жизни его уже ничего не угрожает.
Накинув на плечи тесный, некогда белый, а теперь имеющий довольно-таки неопределенный цвет халат, Александров быстро шагал по коридору реанимационного отделения городской больницы, едва поспевая за бородатым здоровяком-врачом в зеленом хирургическом балахоне с развевающейся за плечом, словно знамя газавата, повязкой. Завидев чернобородого великана, попадающиеся навстречу ходячие больные и медсестры почтительно липли к стенам, уступая дорогу местному «царю, богу и воинскому начальнику» в одном лице.
– Только прошу вас, товарищ капитан, – гудел диаконским басом хирург, фирменным жестом (с помощью никелированного пинцета устрашающих размеров) выхватывая из суетливо предложенной Александровым пачки «Космоса» сигарету, – недолго. Парня едва вытащили, вы понимаете откуда, и он еще очень слаб…
Перед дверью палаты сидел, держа на коленях тупорылый «АКСУ» молоденький сержант. Видимо, проштрафившийся дежурный решил перестраховаться, не дожидаясь распоряжения сверху. Завидев капитана, охранник вскочил и вытянулся, выдавая себя неистребимой повадкой вчерашнего солдата срочной службы.
– Товарищ капитан, за время…
Николай жестом осадил рьяного служаку и, кивнув хирургу, прошел в палату.
Клещ с закрытыми глазами лежал на стоящей у дальней стены крохотной, узкой как пенал койке укрытый сероватой простыней до самого горла. Под ткань уходили трубки установленной рядом капельницы и какие-то провода от малопонятных приборов. На синевато-белой левой щеке парнишки выделялся тускло-серой полоской старый шрам. Сначала Александрову показалось, что Клещ без сознания или спит, но веки глубоко запавших глаз дрогнули, и голова медленно повернулась на звук скрипнувшей двери.
Капитан поразился, как переменился за короткое время еще вчера цветущий и наглый парень. Лицо его приняло действительно какой-то мертвенный, даже не восковой, а стеариновый оттенок, под запавшими глазами залегли глубокие тени, схожие по цвету с честно заслуженными вчера синяками на лбу и скуле, на бледной коже казавшимися черными.
– Здравствуй, Леша! – Александров попытался придать своему голосу максимум теплоты, но, как ни старался, никакого сострадания к этому подонку, сажавшему на иглу подростков, а теперь вот хладнокровно прирезавшему, словно барана, своего сообщника, с которым вчера еще делил водку, постель и бабу, вызвать не смог.
– А… это вы…– чуть слышно прошелестел Клещ, разлепив сухие бескровные губы.
Глаза его опасно затуманились, зрачки плыли. Видно было, что Грушко балансирует на грани забытья и готов провалиться в беспамятство в любую секунду. Николай решил ковать железо, пока горячо, иначе могло оказаться поздно.
– Алексей, зачем ты сделал это?
В глазах Клеща мелькнуло непонимание, и Александров, вспомнив, что парня только что откачали и он вполне мог «заспать» недавние события, с досадой уточнил:
– Зачем ты убил Базарбаева?
Грушко приоткрыл рот и издал сиплый звук, похожий на придыхание. Николай вдруг с ужасом понял, что тот смеется .
– Чурка был слякоть, начальник. Он бы сдал всех, – неожиданно твердо, хотя и очень тихо, проговорил парень. – Князь бы тогда…
Капитан непроизвольно подался вперед, но Клещ, поняв, что проговорился, прервался на полуслове.
Выматерив себя мысленно за неосмотрительность, Александров снова начал:
– А себя зачем порезал?
Алексей с трудом повернул голову и снова упер глаза в потолок. Николай Ильич помолчал, не очень надеясь на продолжение, но Грушко неожиданно облизнул губы и прошептал, не глядя на собеседника:
– Слышь, капитан, раскрутись на дозу, а? Ломает всего… А я тебе все выложу, гадом буду, все равно мне хана!
Николай только открыл рот, чтобы ответить, как у Грушко закатились под веки зрачки водянисто-серых глаз и он весь как-то сразу осел на койке. Испугавшись, что Клещ умер, капитан откинул простыню, чтобы найти пульс. Под простыней оказались ремни, которыми пациент был профессионально пристегнут к раме. Видимо, врачи знали свое дело.
Александров нажал кнопку срочного вызова, и через секунду в палату влетела толстуха-медсестра со шприцем на изготовку. Капитана мгновенно и не слишком почтительно вытурили…
Капитан Александров сидел, запершись в собственном кабинете, и остывал после начальственного «фитиля».
Разборка велась долго, умело и со вкусом. Непосредственный начальник Николая умыл руки, мудро посчитав, что заступаться за проштрафившегося подчиненного сейчас бесполезно – все равно капитана «дальше фронта не пошлют», – но положение усугублялось тем, что утром из Ферганы за своим земляком срочно прибыла целая делегация узбекских милиционеров, предъявить которым оказалось нечего… Если не считать бездыханного тела. Скандал набирал обороты, помаленьку выходя за пределы провинциального Хоревска.
Николай прервал грустные думы, плюнул и, махнув рукой на все и вся, поднялся и подошел к сейфу. Выговор обратно не вернешь, как ни крути – это из серии «мама, роди меня обратно», а с Жоркой они вчера все-таки перебрали изрядно. Затылок наливался тупой болью, руки противно подрагивали, а желудок время от времени, видимо, ревниво считая, что хозяин постоянно про него забывает, и совершая игривые кульбиты, напоминал о своем существовании.
Александров вынул из облезлого железного ящика початую бутылку «андроповки», тщательно сохраняемую на подобный случай, и мутный граненый стакан. Закуска, естественно, отсутствовала напрочь. Разве что сжевать хилый, медленно угасавший на северном окне кактус…
Николай в красках представил себе, как он тщательно очищает ни в чем не повинное тропическое растение, и так оплакивающее свое незавидное положение, от колючек, и нарезает его ломтиками. Не удержавшись, капитан фыркнул, забыв на секунду о неприятностях. Ни фига! Водичкой запьем, видывали и не такое. «С утра выпил – весь день свободен!» – ни к селу ни к городу вспомнился один из афоризмов покойного отца, практически не пившего, но подобных шуток-прибауток помнившего массу.
Процесс тушения горящих букс, к сожалению, был прерван в самом начале (вернее, еще до его начала), противным, как всегда в подобных ситуациях, телефонным звонком. Матюгнувшись не хуже подполковника Каминского – с трехэтажным заворотом и точным адресом того самого места, куда следовало спешно направляться звонившему, – Николай отставил в сторону сосуд с вожделенной жидкостью и поднял трубку.
– Капитан Александров! – рявкнул он, постаравшись придать своему голосу максимум неприязни, чтобы невидимый собеседник сразу понял, что попал не ко времени.
В трубке испуганно пискнуло, и прорезался срывающийся девичий голос:
– Здравствуйте… Это Аня…
Слышимость была такая, будто неведомая Аня говорила минимум из Австралии.
– Какая еще Аня?!
В трубке озадаченно помолчали.
– Алехина…– наконец осмелилась произнести девушка.
В ноющей от боли голове капитана со скрежетом провернулись несмазанные шестеренки, с некоторой заминкой выбросив на поверхность памяти, мутной от так и незагашенного похмелья, информацию об Алехиной Анне Петровне, 1980 года рождения, русской… Стоп! Николай весь подобрался:
– Что у тебя, Алехина?
– Товарищ милиционер, – зачастила Аня. – Я только что узнала, что Леша мой…
В трубке раздалось всхлипывание. Похоже, девица настраивалась на длительный рев.
– Короче.
– Леша в больнице, а ко мне вчера этот человек приходил.
Александров напрягся:
– Кто приходил?
– Он и раньше бывал у нас. Леша его очень боялся. Он вообще-то никого не боится, но этот…
– Как его зовут?
– Леша не говорил, но я слышала, что он его князем называл. Я еще подумала: «Какой еще князь? Князья же при царе были».
Николай перебил девчонку:
– Ты где сейчас?
– Дома. Я от соседки звоню. Меня в больницу не пустили-и-и…– зарыдала в голос Алехина Анна Петровна. – Мо-о-жет, вы…
– Сиди дома, запрись и никуда не выходи. Я у тебя буду через десять минут.
Капитан положил трубку и в недоумении уставился на пустой стакан, зажатый в левой руке. Мыслями он уже был далеко от кабинета и еще далее – от бутылки, стоявшей на краю служебного стола.
На город опускались ранние сумерки. Капитан Александров второй раз за сегодняшний сумасшедший день приближался к городской больнице. Несмотря на оставленный Жоркиным пойлом солидный выхлоп, могущий сшибить с ног любого неподготовленного гаишника, пришлось все-таки брать машину.
Слава богу, Анюта была дома, причем жива и здорова. Несмотря на волнение за своего ненаглядного Лешеньку, девица явно ждала капитана, так как приоделась и накрасилась. Из-за кричащей, не слишком умело наложенной косметики она теперь казалась гораздо старше и уже мало чем походила на вчерашнюю зареванную соплюшку. К слову сказать, сегодня она была не в пример разговорчивее и толковее.
После нескольких пресеченных, впрочем, Николаем в зародыше попыток перевести разговор на судьбу злосчастного Клеща, Алехина довольно внятно описала загадочного Князя, его внешность и манеры. Подробно пересказала она и содержание недавнего разговора с ним. Особенно насторожил капитана тот момент, что, едва узнав о плачевном состоянии Грушко, Князь сразу же потерял к девушке всяческий интерес и мгновенно исчез, даже не подумав проститься.
Николай кинулся к соседке, но той уже не было дома. Как назло, больше ни у кого в подъезде телефона не оказалось. Помянув мысленно всех соседкиных предков до седьмого колена, а также заодно весь старый район города, где аппараты были редки, как жемчужины в известном месте, капитан кубарем скатился по лестнице и прыгнул за руль.
Везение сегодня окончательно отвернулось от Александрова: выворачивая с улицы Куйбышева на Строителей, он едва не протаранил сияющий черным лаком борт чьей-то (но явно не простой) «волги». Хотя между ободранным бортом «жигулей» и сверкающей высокопоставленной тачкой явно имелся солидный просвет, Николаю пришлось волей-неволей вылезать из-за руля и сбивать пыл разъяренного водилы синими корочками. Одним словом, к больнице он подъехал уже затемно, ибо мартовский день короток, а природа не расположена нарушать свои законы даже для работников правоохранительных органов.
Отмахнувшись тем же удостоверением от вахтерши, встревоженной клушей пытавшейся загородить проход в храм Гиппократа, капитан на одном дыхании взлетел на хирургический этаж и еще с лестницы убедился в наличии в конце пустынного коридора постового, по-прежнему безмятежно сидевшего у дверей палаты, где обретался Клещ. Николай прислонился к выкрашенной веселенькой серо-голубой казенной краской стене и перевел дух, стараясь унять сердце, явно пытавшееся покинуть опостылевшую за три с увесистым хвостиком десятка лет александровскую грудную клетку. «Да, капитан, – попытался иронизировать над собой милиционер, – нервишки-то лечить надо, да-а-а. И моторчик пошаливает… Придется, наверное, пореже к Жорке-то бегать, а?..»
Дыхание постепенно восстанавливалось, и Николай, оправив одежду, уже обычным шагом направился к реанимации. Сержант снова вскочил со стула, проклиная, видимо, в душе настырного капитана. «Забыл чего, что ли?» – так и читалось в укоризненных глазах парня.
Клещ находился на месте, то есть спал, отвернувшись к стене и укрывшись одеялом чуть ли не с головой. От двери Александров видел стриженый затылок со счастливой, по полузабытому детскому поверью, двойной макушкой. «А ведь и впрямь счастливчик, – подумал Николай. – И вены себе резал, и Князь этот страшненький к нему направлялся, а спит, засранец, как сурок».
Капитан вышел и, прикрыв за собой дверь, строго-настрого приказал постовому никого, кроме врачей и прочих медицинских работников, к арестованному не пускать. Он уже совсем направлялся к лестнице, когда от макушки (одинарной, то есть несчастливой, как и у подавляющего большинства) до пят его пронзила мысль: а каким таким образом Клещ сумел отвернуться к стене? Ведь он, капитан, отлично помнил, что Грушко был надежно прикреплен ремнями к раме койки. Неужели раззявы-врачи отвязали его? Это же…
Чуть не сшибив с ног сержанта, так и не успевшего усесться на свой табурет, Николай ворвался в палату и кинулся к койке. Мгновение – и казенное одеяло отлетело в сторону.
Арестованный Грушко Алексей Федорович, 1979 года рождения лежал по-прежнему на спине, так же как и раньше крепко пристегнутый ремнями к кровати. Однако широко открытые глаза его теперь уставились в грязно-голубую стену, будто любуясь похожим на старинную географическую карту узором трещин на бугристой краске. Клещ был давно и безнадежно мертв, тонкая его шея безжалостно свернута…
4
Князь каким-то шестым чувством почувствовал чужое присутствие за спиной.
Он еще не понял, кто именно за ним идет, профессионально или нет пасет, представляет ли угрозу вообще, но сразу интуитивно начал отрабатывать хвост и уже через несколько минут точно знал, что двое преследователей – настоящие дилетанты, никакие не филеры, а совсем даже наоборот… Они не следили за ним, то есть не производили, говоря на профессиональном жаргоне топтунов, наружного наблюдения, а попросту ломились нагло и тупо, скорее всего стремясь загнать куда-то, где ждет засада из таких же тупиц, и «опустить», по привычке дворовой шпаны, неумностью и жестокостью своей одинаковой во всех мирах и временах.
Князь скупо улыбнулся. Если бы эта парочка, висящая у него на хвосте, знала, в какой именно карамболь влипает…
Но, как ни крути, просвещение придурков никогда не входило в число его любимых занятий, а альтруизмом он, увы, не страдал вообще. Как и приступами жалости.
Серепан, вожак шайки молодых парней, едва-едва достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность, срисовал жертву еще в центре города. Башка трещала после вчерашнего (хотя вчерашнего ли, если едва смогли очухаться в шесть вечера) перепоя, а хилых «бабулек», которые удалось наскрести по карманам у всех четверых, едва хватило на бутылку какой-то бормоты с гордым названием «Узбекистон портвейна», что по-русски означало более привычное: «Портвейн узбекский», и поэтому настроение было довольно сумрачным.
Заплутавший себе на горе лох был прикинут с нездешней элегантностью (собственно, и слова-то такого Серепан, он же Сальников Сергей Николаевич, девятнадцати лет от роду, с грехом пополам окончивший восьмилетку в Адляне, об уральской колонии для малолетних понятия не имел, но определил интуитивно) и к тому же совсем не производил впечатления богатыря. «Опустить» такое чмо для четверки экрановских, то есть живших в районе кинотеатра «Экран», парней, младшему из которых скоро исполнялось четырнадцать, а старшим был Серепан, не составляло никакого труда. Главным вырисовывалось одно соображение: где?
Вожак быстро принял решение вести мужика до старого района, где в это время суток почти безлюдно, благо тот вроде бы именно туда и направлялся. Посовещавшись, парни быстро разделились. Двое пошли за жертвой, а Серепан с Акулой – здоровым, туповатым увальнем (чуть ли не дауном), представлявшим для главаря интерес только своей физической мощью, рванули дворами вперед.
Оставалось только надеяться на то, что интеллигент не свернет куда-нибудь. Согласно плану, в этом случае «хвост» должен был поднять шум и задержать его до подхода главных сил. Процедура грабежа, то есть действия, подпадающего под сто сорок пятую статью УК, чтимого «великолепной четверкой» не слишком свято, была отработана до мелочей, и проколов практически не случалось.
В томительном ожидании прошло минут пять. Наконец из-за поворота донесся стеклянный хруст подтаявшего за день, но прихваченного вечерним морозцем снега, многократно усиленный отражением эха от стен сталинских двухэтажек, теплившихся редкими и плотно зашторенными окнами. Неразбитый фонарь здесь был только один, да и тот тускло светил метрах в ста пятидесяти от места, где в густой тени притаились двое.
Завидев спокойно шагавшую жертву, Серепан и Акула не торопясь вышли на свет, если полутьму позднего мартовского вечера можно было так назвать. Судя по участившемуся хрусту шагов за спиной мужика, двое преследователей-загонщиков заторопились. Кольцо вокруг ничего не подозревавшего прохожего сжималось.
Серепана несколько насторожило то, что мужчина совершенно не испугался на первый взгляд внезапно возникшего препятствия и остановился, только вплотную подойдя к парням.
– В чем дело, молодые люди? – вежливо начал он. – Чем могу служить?
Повисла неловкая тишина, нарушаемая только скрипом ледышек под ногами подошедших сзади Коши и Лаптя, переминающихся в нерешительности с ноги на ногу. Вожак, считавший себя матерым уголовником, решил форсировать события и, мастерски сплюнув под ноги интеллигенту, заявил:
– Не бухти, козел. Гони башли!
– Что-что?
– Бабки гони, не понял, что ли? Деньжата! – Костлявый кулак главаря оказался прямо под носом жертвы, демонстрируя неумелую наколку.
– Зачем же так грубо? – Прохожий полез в карман пальто левой рукой, на которой тускло блеснул металлический браслет часов. – Я и так отдам все, что вы пожелаете.
От демонстративной покорности жертвы Серепан моментально обнаглел и шагнул еще ближе.
– Котлы [5] тоже снимай, петух!
Мужик пожал плечами и сунул свободную правую руку за обшлаг рукава. Все налетчики столпились вокруг, вытягивая шеи. Такого легкого дела, без шума и напряга, у них еще не случалось!
Дальнейшего развития событий никто из грабителей не предвидел.
Жертва вдруг каким-то кошачьим движением отшатнулась, одновременно совершив широкое размашистое движение правой рукой, в которой тускло блеснуло что-то стремительное…
Коша, а попросту Кошкин Паша, самый младший в компании, изумленно увидел, как интеллигент, который еще мгновение назад казался подавленным и покорным, резко взмахнул правой рукой и тут же рухнул сверху на почему-то упавшего Лаптя. Самым страшным было то, что отделилось от плеч Серепана и темным мячом запрыгало прямо к ногам оцепеневшего парнишки.
Теряя сознание от мертвящего ужаса, Паша внезапно понял, что этот непонятный темный предмет – голова.
Он завизжал на невыносимо высокой ноте, повернулся и на ватных, подгибающихся ногах кинулся бежать, не обращая внимания на что-то горячее, струившееся по ногам…
«Это сон! Это сон! Это все мне снится…– перепуганным воробьем колотилось в его голове. – Сейчас мама разбудит, и все…»
Князь пружинисто, как дикий кот, вскочил с тела своей жертвы, привычно вытирая дымящийся на морозе клинок об ее одежду. Двое нападавших лежали чуть в стороне, еще конвульсивно подергиваясь, причем у того, который повыше (Князь с удовлетворением отметил, что еще не потерял сноровки) отсутствовала голова. Третий без движения (потребовался всего лишь один точный, анатомически выверенный удар) скорчился у ног, а четвертый, визжа от ужаса, удалялся, пьяно раскачиваясь из стороны в сторону. Князь еще раз усмехнулся, подкинув, перехватил нож за лезвие и, хладнокровно отпустив жертву на оптимальное расстояние, широко размахнулся…
Паша, спотыкаясь ставшими вдруг непослушными ногами, успел пробежать, завывая, еще несколько метров, пока что-то твердое не швырнуло его страшным ударом между лопаток вперед, на жесткий, обдирающий лицо до крови наст, напрочь вышибая дыхание и саму жизнь.
Князь, словно пасьянс, раскладывал перед собой на дрянной, давно потерявшей первоначальную расцветку и прорезанной в сотне мест кухонной клеенке добычу.
Собственно, добычей это все можно было назвать с большой натяжкой, скорее, сувенирами – потрепанная бордового цвета книжица с разлапистым, похожим на краба, гербом на обложке, гордо именуемая здесь паспортом, мало отличающаяся по внешнему виду от записной, содержание которой составляли в основном блатные стихи и чьи-то телефоны, складной нож, годный только для открывания бутылок и консервных банок, финка примерно такого же качества (из бочечного обода ее сделали, что ли, – лезвие гнется, как… как не знаю что!) да кастет, легонький, грубый, явно на руку подростка. И с таким вот барахлом эти недоумки пошли на гоп-стоп? Да их бы любой калека без рук без ног разогнал!
Самого-то главного, местных денег, которые были сейчас ох как необходимы Князю, в карманах налетчиков, сейчас уже, наверное, остывших, не оказалось ни гроша. В том смысле, что вообще не было. Ни одной паршивой копейки, на которую здесь, правда, даже коробка спичек не купишь. Конечно, именно от безденежья местная шпана и пошла на дело, чего он хотел? Но чтобы вот так…
Князь в сердцах сгреб весь мусор в ящик стола и прошелся по комнате, прикуривая от спички паршивого вкуса сигарету без фильтра или даже мундштука из мятой ржаво-красной бумажной пачки, найденной в кармане главаря. Надо же, «Прима»! Ну и самомнение у местных табачников! Еще бы каким-нибудь «Люксом» назвали или «Абсолютом»!
Все складывалось как-то наперекосяк, не так, как думалось вначале, в эйфории от удачного избавления из лап ищеек. Слишком поздно, уже разделавшись с этим недоумком Клещом, сообразил Князь, что это последний из тех, к кому он мог здесь обратиться за помощью. Пасечник, кому Клещ толкал золотишко, ценящееся тут необычайно высоко и, как ни странно, запрещенное к обращению в любом виде, кроме ювелирных изделий, давно мертв, на местный криминал выходить опасно – вряд ли они любят чужаков, пасущихся на их территории, – либо сдадут властям, либо… Колун, изучивший тут все ходы-выходы, далеко, за проклятой дверью, никак не желающей отворяться скоро уже месяц… А все проклятый шпик, просочившийся следом за Князем сюда, на эту сторону. Видимо, он каким-то образом и расстроил не понятный никому механизм этой двери..
Князь оперся на холодный (Из мрамора они их тут делают, что ли? Дерева не хватает?) подоконник, уставясь в темноту ночи. Снег, заставший его еще на улице, теперь валил густо, крупными хлопьями, будто стремясь наверстать отыгранные весной очки. Это ему и на руку: к утру покойников, если на них какой-нибудь остолоп еще не наткнулся, заметет так, что ни одна ищейка не найдет. Оттают, когда снег полностью сойдет, а тогда, возможно, его вообще здесь не будет…
Нет, на дверь надеяться нечего. Можно год тут просидеть и ничего не дождаться, а может быть, и больше… Валить нужно из города, добыть денег и валить. Неужели он, Георгий Кавардовский, не найдет чем заняться в этом мире, столь непохожем на прежний? В мире, где нет ни полиции, ни жандармов (местная милиция– сосунки по сравнению с волкодавами с «того света»!), где золото – запретная и вожделенная ценность, а наркотики можно найти чуть ли не на каждом шагу… Где в ходу – а это главное – такие вот паспорта…
Князь еще раз презрительно перелистал темно-красную книжечку. Никаких скрытых систем защиты, никакой специальной краски, никаких магнитных вставок. Обычная печать, черно-белая фотография, приклеенная каким-то паршивым клейстером, уже, кстати, наполовину отошедшая, металлические скрепки (не поверите – ржавые!), элементарный водяной знак… Качество даже хуже, чем у местных денег, которые даже сами аборигены презрительно называют деревянными. Что же должно было произойти в этой России, если рубль – крепчайшая валюта мира – выродился до такой степени, что ему предпочитают любые другие цветные бумажки, вплоть до презренных североамериканских долларов и совсем уж невероятных финских марок? Хотя политика-то Князя никогда по-настоящему не интересовала.
Паспорт все не давал покоя. Вспомнить, что ли, прошлое? Рука вроде пока твердая… А краски, а бумага? Нет, до того, как будут установлены необходимые связи, и браться нечего. А пока сойдет и этот, если над ним пару вечеров поколдовать…
Подцепив ногтем отошедший край фотографии, Князь осторожно отодрал квадратик плотной глянцевой бумаги и с усмешкой провел ногтем по тонкой шейке коротко стриженного паренька, испуганно выпучившего глазенки в объектив. Да, удар был все же неплохой!
Куда же подевался этот сыщик? Словно сквозь землю провалился. Это не есть гут, как говаривал один знакомый немчик. Не вернулся же он тогда в родной мир? Он и дороги-то к тому дому не нашел бы – разве чудом каким-то. Не мог жандарм, реалист до мозга костей, как здесь выражаются, въехать в ситуацию, поверить разом в то, что очутился совсем в ином мире. Он, Георгий Кавардовский, в безоблачном детстве зачитывавшийся всякими фантастическими приключениями, и сам-то долго не мог поверить, когда Колун, каторжная шестерка, божась через слово, рассказывал про это чудо. Поверил, лишь увидев самолично и испытав…
В лучшем случае, поди, прячется где-нибудь, а в худшем… В худшем-то получается совсем плохо. Попади он в руки местным – не важно, блатным или легавым, – ниточка может потянуться к нему, Князю. Ну легаши-то, конечно, не поверят – такие же твердолобые, как и везде, – в желтый дом упекут, и все, а урки? Колун-то кое с кем тут связывался и кроме Клеща с Пасечником покойным, упокой, Господи, его еврейскую душу… Да и за Клещом-то кто-то наверняка стоял. Не мог пацан сопливый такие дела проворачивать, никак не мог, не та масть… Надо девку его пощупать. Как там ее – Анютка, что ли? Не в прямом, конечно, смысле – щупать-то там нечего, соплячка худосочная, а вот знать тут кого-нибудь из блатных может вполне… Да вообще-то и как баба сгодится. Он же Князь, а не монах – третью неделю без женщины… Скоро, как Колун, на пацанов начнет заглядываться…
Кстати, о легавых: прикормить бы какого-нибудь пожаднее, смотришь – наладилось бы и с документами, и с деньжатами. Надо это обмозговать на досуге. А пока – спать!
5
Какое-то царство серого цвета…
Редкие автомобили невзрачной расцветки, ковыляющие по дрянной мостовой – старомодные, заставляющие вспомнить о золотых семидесятых; малолюдные днем улицы, оживающие только два раза в сутки: утром около восьми и вечером около шести. В эти часы их заполняют огромные толпы серых, однообразно одетых людей. Поутру людской поток понуро бредущих словно на эшафот одинаковых, как близнецы, жителей стремится в одну сторону, туда, где за невысокими кирпичными стенами с колючей проволокой поверху скрываются заводы (прошагав однажды в общем потоке до того места, где толпа вливалась в одноэтажный домик со стеклянными дверями, прилепившийся к кирпичному забору, Петр Андреевич разглядел лаконичную вывеску под стеклом: «Ремонтный завод, г.Хоревск»), вечером, заметно повеселев, – обратно домой… Все как в запрещенных на территории Империи книгах англичанина Оруэлла, читанных еще во время учебы, по специальному допуску. Город всеобщего счастья…
Черт, что же это за край такой? Слава богу, люди вроде бы одеты так же, как и в России, не выделяешься на их фоне… Ерунда, это ведь и есть Россия, вот только какая?
Городок, конечно, еще более съежился, стал как-то ниже, грязнее, неухоженнее, что ли, если можно так выразиться. Но вот электростанция – на прежнем месте, даже труб у нее столько же. Нонсенс. Больше – никакого сходства!
Где многоэтажные дома новостроек? Где вычурные, «Алексеевский ренессанс», особнячки нуворишей, фарфоровых и мучных королей, занимавшие целый квартал? Где наконец монументальное, позапрошлого века, здание городского Дворянского собрания – первая достопримечательность Хоревска? Где на центральной площади перед Городской думой памятник благодетелю города Алексею Второму, при котором он и расцвел? Там и Думы-то нет… Только какое-то невзрачное трехэтажное зданьице с фасадом, украшенным огромным мозаичным портретом лысоватого лобастого мужчины с плутовским прищуром и интеллигентной бородкой а-ля Чехов, выдержанным в красно-багряных тонах. А еще– громадный, метров десять высотой, серый бетонный памятник той же вроде бы личности на кирпичном пьедестале, выполненном в виде длинной трибуны. И всюду эти выцветшие и ярко-красные флаги разной степени ветхости: где с синей полосой по древку, где просто красные с золотистой эмблемой вверху… Серое и красное…
Петр Андреевич разглядел эту эмблему подробно в центре какого-то значка варварской формы, отдаленно напоминающего привычные полковые, изображенного возле названия пожелтевшей газеты, найденной в новом убежище.
Знак, – что-то вроде венка из колосьев, наложенного на зубчатое колесо и увенчанного знаменем с литерами СССР, – помещался рядом с другим, похожим, но с профилем того же лысоватого субъекта и надписью на знамени ЛЕНИН. Скрещенные серп и молоток – масонская эмблема, не иначе, особенно если учесть пятиконечные звезды-пентаграммы, щедро рассыпанные везде и всюду – от фасадов домов и решеток оград до обложек журналов и почтовых карточек, выставленных в газетных витринах. Даже на пустом спичечном коробке, который ротмистр, оглянувшись, подобрал на снегу, была изображена красная звезда с той же эмблемой в центре под лаконичной надписью: «23 февраля».
Да и сами-то газеты: упомянутый уже «Челябинский рабочий», «Правда», какая-то еще «Комсомольская правда», «Ленинское знамя», «Труд», «Советский спорт» с теми же и другими знаками перед заглавиями… Даже «Красная Звезда», посвященная, видимо, будням местных военных, но, увы, Чебрикову попал в руки только ее обрывок… Единственное знакомое название – «Сельская жизнь», да и то не знакомый глянцевый журнал о жизни поместного дворянства, а черно-белая газетенка на плохой бумаге все с теми же знаками. А заголовки статей и рубрик? «Вести с полей», «Человек труда», «Международная панорама», «Трудящиеся всего мира встречают юбилей…» А совершенно дикая орфография? Неужели он не болен, не бредит, а попал в самую настоящую утопию Томаса Мора, Томазо Кампанеллы, Роберта Оуэна или Карла Маркса? У руководства страной – рабочие и крестьяне, дворянства и купечества нет и в помине, страшно подумать– сам Государь…
– Под ноги смотри, козел! – Вырвал Чебрикова из задумчивости визгливый голос какой-то женщины с огромными кошелками. – Зальют зенки с утра пораньше и шляются, тунеядцы.
Совершенно плебейский тип: одутловатая темно-красная в синеву физиономия, какое-то невообразимое серо-буро-малиновое пальтецо, раздутое на необъятных бедрах и не менее обширном бюсте, бесформенная вязаная шапочка-берет, кожаные сапоги на каблуке… Не иначе – представительница пролетариата, управляющего страной. Неудивительно, что страна выглядит настолько убого.
А цены? Вы бы только видели цены в магазинах с почти пустыми витринами! И везде таблички: «По талонам». Какие талоны? Что это такое? Пресловутый коммунизм по этому еврейскому экономисту Марксу? Или коммуна по Оуэну? А может, «Город Солнца» по Кампанелле?
Чебриков вздохнул и длинно сглотнул голодную слюну, глядя на витрину очередной продуктовой лавки с лаконичным названием «ХЛЕБ». Хоть бы вон тот сероватый рогалик или страшную с виду буханку хлеба – вторая неделя как иссяк скудный сухой паек, обнаруженный в одном из карманов куртки-самобранки. Дней восемь как вообще не ел человеческой пищи, только какие-то полусгнившие овощи, выкопанные из-под снега в огороде, терпкую рябину и вяжущие во рту мелкие яблочки-ранетки, забытые на деревьях в окрестных садах… Страшно сказать: на кота-Шаляпина поглядывал уже не только с эстетическим, но и с гастрономическим интересом! Обойму патронов из «вальтера» извел на голубей, благо глушитель имеется, но охота не оправдывает себя: патронов маловато, а с чем он еще здесь столкнется – неизвестно. Или оставить всего один – напоследок…
«Прекрати, тряпка! – скомандовал себе ротмистр, решительно отходя от заманчивой витрины. – Не на необитаемом же острове в самом деле! Вспомни ту операцию в Виргинии: там небось круче приходилось!»
«Круче не круче, а там все было понятно: тут мы – тут янки! – встрял какой-то посторонний голос. – И никаких там политесов: что видишь – твое, по вечному закону войны… А здесь? Тоже по закону войны поступать? Как Кавардовский?»
«Ни в коем случае!..»
Ну все – начал спорить сам с собой – считай, поплыл… Как же есть-то хочется! Полный карман денег– в том, привычном, Хоревске автомобиль мог бы купить запросто, и не дешевый, а здесь… Хоть бы внешне походили имеющиеся в наличии монеты и бумажки на здешние! Так нет: все не так – и размеры и цвета.
Петр Андреевич выудил из кармана подобранную на улице (обронил, видать, кто-то) тускло-серую монетку, явно не серебряную, а из какого-то белого сплава. «15 копеек 2001» – видимо, год выпуска. Размером походит на привычный пятиалтынный, но лишь размером, а изображения совсем не те… Вместо двуглавого орла – разлапистый, напоминающий краба герб в виде земного шара, окруженного венком из колосьев, густо переплетенных лентами, и та же загадочная аббревиатура СССР внизу. Не стоит и упоминать, что поверх земного шара распластался тот же символ – скрещенные серп и молоток. Эх, еще бы купить можно было что-нибудь на эту денежку!
В голове сам собой начал складываться список продуктов, которые на пятнадцать копеек ротмистр Чебриков мог бы приобрести в настоящем Хоревске: хлеб, молоко, шоколад или что-нибудь мясное, сто граммов водки… Тягучая слюна переполнила рот и, оглянувшись, не видит ли кто, граф точным плевком отправил излишки в замусоренную железную урну. Слава богу, хоть на этом ржавом ящике на шарнирном креплении свою эмблему не приварили!
От неожиданно раздавшегося над головой рева мощных двигателей ротмистр присел и привычно завертел головой: а ну как шарахнет ракетой…
Самолет, пронесшийся почти над самыми крышами, ничем не шарахнул… Мощный реактивный истребитель типа «Горыныча» самолето-строительного концерна «Дукс», хищный, с двумя высокими килями, произвел на пробудившегося в Петре Андреевиче военного гораздо больше, чем виденные на улицах автомобили.
Не вяжется как-то: самые современные самолеты и пустые прилавки. Может быть, какая-нибудь иностранная оккупация? Нет, на крыльях и фюзеляже те же звезды.
Видение, почти фантастическое на фоне окружающей убогости, слегка притупило голод, но, как только летающая квинтэссенция передовой инженерной мысли скрылась за домами, желудок сразу напомнил о себе.
Хотя бы банальный бутерброд: ломтик черного хлеба, намазанный маслом и украшенный…
Все, хватит о съестном! Где же взять местных денег? Банк ограбить, что ли? Так не встречал ведь еще ни одного… Может быть, пройтись на рынок?
Рынок в здешнем, потустороннем Хоревске располагался на месте церкви. Рынком в прямом понимании назвать его было трудно: невысокий, красного кирпича забор с башенками а-ля Кремль по углам, навевающий мысли о каком-то фортификационном сооружении (подобными заборами здесь, как оказалось, были окружены все промышленные предприятия, что-то обширное, но невысокое, невидимое из-за ограды, с интригующим и лаконичным названием «База», и даже электростанция), металлические решетчатые ворота… Казалось, местные купцы… тьфу, нет ведь здесь никаких купцов, готовились от кого-то держать оборону. От степных кочевников к примеру. А что? Ротмистр нисколько не удивился бы, если бы здесь кроме утопическо-масонского государства отыскалась бы степная орда, регулярно совершающая набеги на города. Тогда население, организованно укрывшись за кирпичными стенами… Нет, не клеится! В этом случае должна существовать стена и вокруг всего города… К тому же самолеты… Да и невысоки стенки-то. Умелый всадник легко перемахнет, если скакун привычный, не деревенская кляча.
Глаза ротмистра слегка затуманились при одном воспоминании о верном Хазаре, ахалтекинце чистых кровей, оставленном в Петербурге. Как он там сейчас?..
На вывеске местного рынка красовались те же серп с молотком и звездой и надпись «Хоревский колхозный рынок». Второе слово было, мягко выражаясь, странным, но что делать? Подобными несуразицами здесь наполнено все. Петр Андреевич решительно ступил под гостеприимную арку…
Торговля была удручающе скудной: всего несколько рядов грубо сколоченных прилавков из потемневшего от непогоды дерева с такими же грубыми навесами, заполненные торговцами едва ли на треть, причем товары были не менее убоги, чем окружающий пейзаж… Пробовать продукты, куркули деревенские, тоже не давали, исподлобья наблюдая за странноватым покупателем, с унылой миной разгуливающим между рядами.
Урчание в животе от вида недоступного съестного только усилилось, и тогда Петр Андреевич, чтобы не бередить себя, испытывая танталовы муки, решил навестить вещевые ряды.
Здесь торговля кипела: были заняты не только все прилавки, точно такие же как и продуктовые, только без навесов (интересно, а дождь их что – не мочит?), но и грязный снег вокруг, застеленный тряпьем всевозможных цветов так, чтобы оставить только узкие проходы для покупателей, которых было чуть ли не в десять раз больше, чем продавцов. Продавалось и покупалось все, начиная от совершенно новой одежды с неоторванными еще фабричными ярлыками, довольно красивой фарфоровой, фаянсовой и керамической посуды и запчастей, по виду автомобильных, до сущего барахла типа старых помятых чайников и явно отвернутых где-то в подъездах видавших виды дверных ручек. Всякого рода электродетали, лампочки, аляповатые шкатулки, шестеренки и подшипники, копилки в виде кошек и поросят рядом с живыми, едва прозревшими пискливыми котятами сомнительной родословной в старой меховой шапке, разномастные непарные туфли, слесарный, устрашающего вида и навевающий мысли о средневековой инквизиции инструмент… Какой-то чернявый смуглолицый паренек в вязаной шапочке, натянутой по самые глаза, толкнув будто невзначай плечом, вполголоса, глядя куда-то в сторону, предложил «шмаль»… Похоже, здесь ротмистру Чебрикову делать было вообще нечего. Пора домой, нагулялся…
И вдруг граф замер с поднятой ногой. Что-то знакомое почудилось ему на прилавке перед только что пройденным продавцом. Вот оно!
На грязно-зеленой холстинке, похоже, лоскуте от какой-то военной одежки, дослужившей до обтирочного материала, среди разнообразных значков и монет, разложенных рядками и насыпанных в круглую жестянку вроде коробки из-под леденцов-монпансье, выделялся большой серебряный рубль с двуглавым коронованным орлом…
Не чуя под собой ног, Петр Андреевич летел домой, сжимая в руках два наполненных под завязку пластиковых пакета с ручками (а удобно, кстати, придумано, нужно будет запомнить!), украшенных какими-то аляповатыми рисунками, причем на одном – та же красная пятиконечная звезда с серпом и молотком и еще одна непонятная аббревиатура ДОСААФ.
В пакетах была самая разнообразная снедь: куриные яйца, поштучно завернутые в клочки газеты, и сметана в закрытой бумажной крышкой стеклянной банке, сырая ощипанная курица (нужно будет запечь в золе!) и полведра замечательной картошки, домашний творог и баночка с медом… Не забыть про бутылку какой-то непонятной «Столичной» водки (продавец клялся-божился, что она почему-то «не паленая»), купленную из-под полы у какого-то разбитного небритого мужичка в плоской кожаной кепке, когда-то синей стеганой куртке, распахнутой на голой груди, защитного цвета брюках-галифе, заправленных, правда, не в сапоги, а в какие-то обрезанные чуть ли не по щиколотку валенки… Только хлеб и соль пришлось купить в магазине у скучающей толстой продавщицы, равнодушно читающей за прилавком какую-то растрепанную книжицу, на мягкой обложке которой полуобнаженную красотку страстно обнимал жгучий латиноамериканский мачо.
И все это богатство – за обычный серебряный полтинник! Нужно было видеть, как загорелись глаза у пожилого очкастого торговца, только что дремавшего с открытыми глазами – у его прилавка покупателей что-то не наблюдалось вообще, – едва он завидел шлепнувшуюся перед ним на тряпку монету. Каким-то шестым чувством Чебриков вмиг уловил, что это – коллекционер из завзятых и его уже просто так не отпустит. Услышав цену и сопоставив ее с цифрами, только что виденными на ценниках, граф, словно заправский биржевой маклер, смело поднял ее впятеро и тут же понял, что продешевил: нумизмат – так, вроде бы, называют сдвинутых на всякого рода медяках – тут же вытащил из-за пазухи ворох мятых купюр, отсчитывая требуемую сумму…
Теперь жить стало веселее, особенно если принять во внимание еще не менее четырех-пяти десятков кругляков разного достоинства, побрякивающих в кармане! Там даже памятный рублевик есть – к десятилетию правления его императорского величества Николая Александровича. Наверняка еще дороже обойдется. Это если не считать двести пятьдесят рублей золотыми пятерками и десятками в бумажнике. Эх, жизнь моя жестянка, как говорят блатные! А еще стреляться хотел не далее чем утром, идиот малахольный!
А это что? Книжная лавка? Может, найдется что-нибудь по истории этого проклятого, перевернутого вверх тормашками мира?
Пенсионер Колосков тоже летел домой словно на крыльях, едва дождавшись ухода странного прохожего, продавшего странную монету буквально за копейки, чтобы покидать в видавшую виды сумку свое барахлишко.
Егор Кузьмич считался в городе нумизматом со стажем, хотя в последнее время был вынужден потихоньку распродавать свою коллекцию по причине черных времен, наступивших после кончины дражайшей половины, Елизаветы Александровны, прошлой осенью, да и вообще… По мерзости жизни, не располагающей к занятию нумизматикой и прочими возвышенными материями… Продавал на барахолке он, конечно, всякую ерунду: сердце кровью обливалось трогать самое ценное, собранное с огромным трудом и напряжением всего семейного бюджета в относительно сытые доперестроечные годы. Жорка Конькевич, Борода, давно уже зуб точит и на рубль Иоанна Антоновича, и на сибирский пятак 1763 года с гуртовой надписью, и на пробный никелевый пятнадцатикопеечник 1916-го… Нет, пока с голоду еще не помирает, шиш ему, шустрому!
Что же за невидаль сегодня с неба свалилась? Серебро – это точно, не обманка какая! Серебряный полтинник. Никакой это не новодел, это просто так, чтобы лоха провести, Кузьмич плел странному мужику околесицу. Не на коленках делан, видно качество за версту. Для специалиста, конечно… Эмигрантский выпуск? Похоже на то. Откуда в России мог взяться Александр IV, да еще бритый, похожий на актера Броневого, Мюллера из «Семнадцати мгновений»? Да и дата «1989»! Только эмигранты на такое могли отважиться… Уж не знаю, как в Союз попала такая вещь. Вещь «тяжелая»… Надо будет к Жорке наведаться.. Как там его телефон рабочий: 34-45 или 45-34? А, ладно, спрошу, язык не отвалится…
6
Телефонный звонок оторвал Николая от листа дрянной серой бумаги, девственную чистоту которого он, покрывая строчками насквозь казенного содержания, с переменным успехом пытался нарушить уже целый час. Нельзя сказать, чтобы на этот раз капитан не был рад перерыву в работе. Писал-то он вовсе не сочинение на тему: «Где я провел лето», а рапорт по поводу безвременной, причем явно насильственной, кончины уже второго фигуранта по «опиумному делу».
– А не ты ли сам ему шейку-то цыплячью свернул, Александров? – спросил с нехорошей такой усмешечкой Каминский, когда, выплеснув все имеющиеся запасы сквернословия на то краснеющего, то бледнеющего опера, отпустил было его восвояси.
Именно эта усмешечка и не давала покоя Николаю. «Опиумное дело», естественно, забирали в область, а то и выше, а капитана Александрова, как оказавшегося неспособным обеспечить безопасность фигурантов и тем самым практически заведшего следствие в тупик, от него соответственно отстраняли. Что ж, не впервой. Осталось лишь формальности соблюсти.
Формальности как раз сегодня давались с трудом. Что-то мешало закончить, как обычно, казенную отписку, что-то грызло, словно червячок-древоточец, по ошибке природы забравшийся в вовсе не ему предназначенную среду. Никак не давала покоя кличка Князь, не слышанная еще ни разу… Чем-то веяло от нее странным и непонятным. Ну Крест какой-нибудь, ну еще что-нибудь короткое и увесистое, но Князь… Положим, от фамилии Князев или Княжко происходит – это возможно. Но, товарищи, маловероятно, чтобы уголовники, люди не без юмора и здравого смысла, дали такую, мягко выражаясь, громко звучащую кличку какому-нибудь обычному гопнику… Судя по погонялу, зверек обрисовался не из мелких… Причем с зубками отнюдь не маленькими. Головенку-то засранцу свернул одним движением, не откручивал: судмедэксперт сказал, как отрубил, без вариантов. Что-то нехорошее здесь вырисовывается.
Занятый своими мыслями, капитан совсем забыл про рапорт и поэтому, услышав телефонный зуммер, с готовностью, если не сказать с радостью, отложил шариковую ручку, хоть и новую, но с уже погрызенным от литературных потуг полистироловым колпачком, и поднял трубку.
– Александров.
– Привет, Коля, как дела? – затараторил в мембране знакомый захлебывающийся голос. – Ты вечером свободен сегодня? У меня тут…
Жорка, зараза. Опять, поди, какой-нибудь сабантуй намечается с присутствием прекрасного пола, а от Александрова, как обычно, требуется «горючее» в первую очередь, а во вторую, естественно, это самое… Ну, понятно что…
– Вполне…– рассеянно ответил Николай, но тут же спохватился: – Но предупреждаю сразу…
– Да ты не понял, Коля! Ты, это…– снова зачастил Конькевич. – Ты просто так приходи…
«Про мои проблемы узнал, что ли? – подумал Александров. – Откуда?»
– Зайду, конечно. Уговорил. С собой-то взять что-нибудь?
– Как хочешь… Главное – приходи, не забудь, я жду.
Николая словно обожгло: за вчерашний день, наполненный треволнениями, и сегодняшнее хмурое во всех отношениях и ракурсах утро он совсем позабыл о загадочном червонце, тьфу, империале этом. Видимо, Жорка уже что-то надыбал, однако не говорит напрямую, конспиратор хренов, стережется. Хотя вообще-то правильно стережется: телефоны вполне могут прослушиваться – не в бане, чай, установлены!
– Ладно-ладно, жди после восьми. Закуску готовь! – как можно жизнерадостнее закончил он. – Все, отбой, дела поджимают.
Осторожно опустив треснутую и замотанную синей изолентой трубку на рычаги своего старенького городского, Николай еще долго смотрел на него, не торопясь возвращаться к писанине. Дела, конечно, не поджимали…
Телефон, стоящий рядом с городским, в свою очередь взорвался длинной трелью. Господи, ну не сейчас…
– Александ…
– Сидишь, Александров, пишешь, писатель х…? – ехидный, как обычно, голос Каминского сейчас прямо-таки источал яд. – Живо вниз, машина тебя ждет… Пять секунд тебе!
– А что…
– Убийство на Парковой. Групповое. Все в загоне – один ты у нас свободен… Словом, даю тебе шанс реабилитироваться. Живо, живо…
Под утро выпал обильный снег, поэтому трупы обнаружили далеко не сразу. Неизвестно сколько народу озабоченно пробежало утром на работу по ведущей к электростанции улице, совершенно не обратив внимания на небольшой сугроб, наметенный за ночь.
Внимательнее всех оказалась, как ей и полагалось, собака – старенький пуделек, принадлежавший одной из жительниц соседнего дома, жавшийся теперь к ногам насмерть перепуганной старушки. Хозяйка имела явное сходство с капустным кочаном из-за напяленного по причине утреннего морозца целого вороха каких-то ветхих поддергаечек и поверх них облезлой шубы, давно потерявшей всякое сходство с роскошной зимней одеждой, обычно называемой этим словом.
– Мурзик, вот он, утром на двор захотел, я его и вывела, – вещала пенсионерка, оказавшаяся Кораблевой Марией Владимировной, 1932 года рождения. – Он побегал, побегал, отметился по своим углам, да и сюда вот меня потащил…
Песик с таким несобачьим именем, обратив к Александрову мордочку с то ли гноящимися, то ли плачущими глазками, тихонько завыл с подвизгиванием, словно подтверждая слова хозяйки.
– Подбежал и давай снег копать. Я думала сначала, что он косточку какую нашел, хотела его оттащить… Он, знаете, с полмесяца назад гадость тоже какую-то в сугробе раскопал, слопал – потом дня три животом маялся. И тошнило его, и поносил, миленький мой…
– Пожалуйста, не отвлекайтесь, Мария Владимировна, – попросил капитан, пытаясь отогреть дыханием замерзшую на не по-мартовски жгучем морозце пасту в шариковой ручке.
– Вот я и говорю… Подбежал и давай снег копать. Я его тяну, а он – ни в какую. Вцепился во что-то, рычит. Думаю: отберу, нагнулась – глядь, а там рукав кожаный от куртки… Вещь хорошая. Я за него – а там рука, белая-белая…
Мария Владимировна сама вдруг побелела, несмотря на мороз, только что румянивший ее щеки, видимо, до нее запоздало дошел весь ужас происшедшего.
В сугробе обнаружились тела трех молодых людей, вернее, сначала идентифицировали возраст только двоих из трех убитых, так как у третьего, с украшенными татуировками кистями, начисто отсутствовала голова, срезанная точно бритвой. Голова одного из целых покойников тоже держалась лишь на лоскуте кожи и части мышц и связок, а гортань и межпозвоночный хрящ были разрублены таким же хирургически выверенным ударом идеально острого орудия. Третий, лет четырнадцати-пятнадцати на вид, лежал ничком, скрючившись, со сквозной колото-резаной раной в спине. Снег под всей троицей на большом протяжении был насквозь пропитан кровью, вероятно, обильно хлеставшей из жутких ран, без всяких сомнений, изначально «не совместимых с жизнью»…