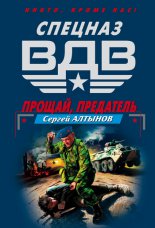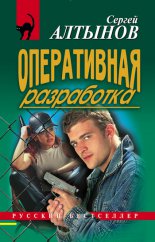Downшифтер Нарышкин Макс

Я терпеть не могу такие взгляды. Мне кажется, что они оставляют на моей одежде ласы.
– Человек.
– Человек… – повторил он со вздохом и наклонил голову, чувствуя явное свое превосходство в возрасте, а следовательно, и в умении жить. – Это звучит, хочу заметить, не очень-то и гордо. Людям свойственно называть себя человеками, но откуда ты знаешь, что человек? Что есть такое вообще – человек? Человек – существо биологическое, на восемьдесят процентов состоящее из воды, а потому суть его – вода. Прежде чем называть себя человеком, следует убедить в этом окружающих, ибо не вода есть главенствующее начало в существе полезном, а то, что прячется в оставшихся двадцати процентах.
– В двадцати оставшихся процентах прячутся кости, кожа, фекалии, подготавливаемые к выходу, а также содержащие их кишки – механизмы для нормального обеспечения жизни главенствующих восьмидесяти процентов. – Если он решил поговорить со мной о философии, то я тоже не прочь узнать, где он прячет свою душу.
Такой прыти от пьющего с ним на равных водку представителя нового поколения он не ожидал, однако виду не подал. Ему по-прежнему хотелось убедить меня в том, что я есть вода и ничего больше. Мама между тем собрала ребенка, улыбнулась мне и сказала, что уйдет в соседний вагон поболтать с женщиной, с которой познакомилась на вокзале.
– Важно ковырнуть в себе утрамбованный дерн, обнажить суть и убедить не только себя, но и весь мир, что ты человек.
– А ты, понятно, уже ковырнул? – предположил я.
– Понимаешь ли, в чем дело… – Он поднес свой стаканчик к насосу. – Жизнь человека – борьба за существование. Мы обязаны трудиться, чтобы приносить пользу, обязаны зарабатывать, чтобы кормить семью. И чем выше мы поднимаемся, тем крепче в нас вера в собственную полезность. Вот, к примеру, я. Инженер, каких немало. Нас роится в НИИ страны тысячи, если не сотни тысяч. Но выпади из строя хотя бы один винтик, и механизм разладится. Я несу в себе неповторимую в природе информацию, уникальность, позволяющую использовать меня по назначению. Два часа назад мне было неинтересно, кто ты. Но сейчас, когда в силу определенных причин мы вынуждены с приятностью осознавать общение друг с другом, мне не так уж безразлично, с кем я пью.
Первые триста граммов водки – я чувствовал – смыли с языка налет приличия. Дело не в том, что мне вдруг захотелось запеть или начать ругаться матом, просто теперь можно было говорить правильные вещи.
– Два часа назад, не подозревая, человек ли я, ты предложил мне выпить, – сказал я. – Минуту назад ты назвал себя винтом, заявляя при этом, что ты есть человек, существо с уникальным генокодом. А две минуты назад сообщил, что тебя можно использовать по чужому усмотрению. Не слишком ли много противоречий для организма, свидетельствующего о главенстве в нем не восьмидесяти процентов воды, а души?
Ему не понравилось то, что я сказал, потому что из сказанного мною бесспорно следовало, что он мудак. Но сдаваться без боя он не собирался, поскольку пил мою водку и уже только за это меня ненавидел и презирал. А еще за то, что я через два часа после знакомства сообщил ему же о главной трагедии его бытия, тайне, которую он прятал даже от себя во глубине своей души или где-то во глубине другого места, которое он считает своей душой.
– Скажи мне, у тебя есть образование?
– Я историк, если речь о картонной книжке красного цвета с гербом.
– Ты преподаешь?
Мне вдруг подумалось, что этот зашитый в мешок обстоятельств, приговоренный жизнью к смерти человек только что подсказал мне неплохую идею.
– Нет, я вице-президент крупной компании.
Инженер уважительно кивнул, но вскоре по маслено заблестевшим глазам я сообразил, что это не что иное, как пьяная ирония.
– Почему же ты едешь в загаженном поезде, а не летишь самолетом?
Поезд не был загажен. Я повидал всякие, и сейчас могу с уверенностью заявить, что поезд ухожен и чист. При этом я убежден, что мой сосед это знает, поскольку уж кому-кому, а ему-то должно быть хорошо известно, что такое загаженный состав, похожий больше на товарняк.
– Мне нравится, как за окном меняется природа, – ответил я, и мне вдруг показалось, что это правда.
– Командировка?
– Нет. Я бросил работу, дела личные и теперь хочу поселиться там, где меня не достанет шелест цивилизации: вбивание свай, визг тормозов, насвистывание принтера и поддельный стон проституток.
Он долго думал. Уверен, что он ничего не понял.
– И сколько ты зарабатывал?
Я посмотрел на него самым лучистым из всех имеющихся у меня в запасе взглядов:
– Порядка ста тысяч в месяц. Без премиальных.
Им овладела злоба.
– В четыре раза больше, чем я, – проронил инженер, явно бастуя против того, что сосунки типа меня, плохо разбирающиеся в предназначении «человеков», зарабатывают в четыре раза больше него.
– Ты, верно, в крупном НИИ за винта, коль скоро тебе платят двадцать пять тысяч долларов в месяц?
– Долларов?..
Этот вопрос убедил меня в том, что ему стало еще хуже.
Мало-помалу разговор вошел как раз в ту плоскость, какую я хотел миновать. Желание разузнать, отчего придурок типа меня бросает должность за сто тысяч и валит куда-то к барсукам и рысям, тревожило его и гневило, мне же удовлетворять его любопытство было неинтересно.
Через двадцать минут вернулась мама с дитем, и наш разговор продолжился уже в полумраке, потому что дитю следовало спать, а маме участвовать в нашем разговоре было ни к чему. Девушка сама предложила нам остаться внизу, поскольку ребенок ее, как и она сама, любит путешествовать на верхних полках. Я не возражал. Инженеру было до лампочки. Соблюдая неписаные железнодорожные правила, мы вышли в тамбур покурить, чтобы соседи улеглись.
Глава 4
Он не понимал, почему человек, имеющий все, от этого всего уезжает, а у меня наконец-то появилась возможность озвучить для себя недосказанные наитием мысли об отъезде. На том мы и сошлись, хотя и не договаривались. Все получилось само собой, как и уход из купе, чтобы женщина могла переодеться.
– Если твоя поездка не связана с бегством из компании в связи с растратой, то я тебя не понимаю, – выдавил, задыхаясь дымом, но все равно жадно глотая его, инженер.
Мне стало жаль его. Передо мной был несчастный человек, доведенный жизнью как раз до того состояния, когда восемьдесят процентов начинают преобладать и диктовать свои условия.
Еще мне не очень улыбалось, что свидетелем разговора являются посторонние люди. Тот же обладатель серого свитера снова курил, тоскливо поглядывал в окно, за которым ничего, кроме темноты, не было, и пускал медленный дымок из носа. Однако собеседнику моему посторонние не мешали. Он находился в том состоянии донельзя пьяного мужика, который стоит на остановке и беззастенчиво мочится в урну на глазах пятидесяти разнополых свидетелей. То есть он-то хорошо понимает, что делает, а вот другие понять его не могут ни при каких обстоятельствах. Он справляет нужду в урну, заметьте, что не может свидетельствовать о нем как о человеке непорядочном, поскольку мочится он не на асфальт. Что-то подобное из области культуры я видел в Алматы, когда она называлась еще Алма-Атой. Там вдоль всей улицы Курмангазы стоят урны. Приехав в город, я диву дался, сколько там урн. И мне сразу стало неловко за нас, проживающих в городах центральной части России, где в то время на каждую сухопутную милю городской улицы приходилось не более одной, лежащей на боку, урны. Однако, приглядевшись, я оцепенел. Дело в том, что у этих алма-атинских урн не было дна. Люди кидают фантик или сигарету в жерло урны, и предмет тотчас падает на землю, но ПОД УРНУ! Это облегчает работу уборщиков.
И сегодня каждое слово этого инженера, равно как и каждую штампованную фразу бывших моих сослуживцев, я воспринимал как окурок, брошенный в урну без дна. Тот же вакуум в мыслях, та же безнадежная уверенность в том, что они занимаются действительно нужным, приличным делом. Но чего стоят все эти фразы и дела, если один после первого же провала и непризнания мылит веревку, а этот, с красными глазами, утверждающий, что служит обществу, плюет на пол и стряхивает пепел себе на рубашку?
Там, откуда я уехал, в офисе компании есть менеджер отдела кадров Лариса. Она всем говорит «о’кей», «олл райт» и «как бы», очерчивая тем свои познания в английском. Второй год она говорит о «Солярисе» Тарковского, держит на рабочем столе томик Достоевского (однажды я раскрыл его, и он треснул, как вобла), и, несмотря на эти интеллектуальные выпады, однажды я застал ее на складе, случайно заглянув туда в поисках Бронислава. Грузчик, имени его, естественно, не знаю, порол замужнюю кадровичку Ларису, уперев ее для удобства лбом в штабель коробок с растворимой кашей. Англоязычная беби приводила в негодность своими перламутровыми коготками упаковку, кричала: «Еще, бля, еще, хорошо», и на пальчике ее сияло обручальное колечко. Незамеченный, я ушел, а потом из чистого любопытства зашел в кадры с пустяшным вопросом. Лариса сидела перед каким-то кандидатом-идиотом, отправившим свое убогое резюме по факсу, и беби Лара говорила ему: «Я хочу, чтобы вы поняли… Здравствуйте, Артур Иванович… Наша компания – как бы одна большая семья, подчиненная единой корпоративной дисциплине… Зарплата, на которую вы сейчас как бы можете рассчитывать, это пятьсот долларов… О’кей? Со временем, через три месяца, когда закончится испытательный срок, вы сможете получать от двух тысяч…» Отправители резюме по факсу не знают одной маленькой тайны, которую хранят компании, подобные моей. Через три месяца, спалив физические и интеллектуальные возможности идиота дотла, его вышвырнут, придравшись к мелочи. И он уйдет, заработав за три месяца 1500, хотя в объявлении «Крупной международной компании требуются…» стоит – $ 2000 в месяц. На его место придет другой идиот, поверивший в то, что сможет стать членом крупной международной семьи.
А сколько таких Ларисок занимаются творческим бизнесом в других компаниях? Это замкнутый корпоративный круг согласившихся на добровольное сумасшествие единомышленников с одними и теми же правилами поведения. И от одной только мысли, что занимаюсь с этими Ларисками одним делом, у меня начинает трястись ливер. Я – та же Лариска, только разница между мною и ею лишь в том, что ее упирают в коробки с кашей, а меня – с баксами, и потеет за моей спиной не грузчик, а хор совета директоров.
– У тебя есть машина? – спросил я, сообразив, как продолжить разговор с человеком, у которого отъезд москвича из столицы может ассоциироваться только с хищением социалистической собственности.
– Есть, – с вызовом ответил он, и я знаю почему.
– Представь, что дорога – это состояние твоего видения жизни. И вот сейчас она ровна, как зеркало. У тебя возникают какие-либо желания, когда ты находишь такую дорогу?
– Безусловное желание утопить в пол педаль газа.
– Но вот на дороге появляются ухабы, и конца им не видно, и ты знаешь наверняка, что ремонт подвески стоит дорого и что это твоя, а не чужая голова будет биться о потолок…
– Ну, что дальше, дальше-то что? – засуетился он.
– Что делать будешь – вот резонный вопрос, должный подсказать тебе правильное решение.
– Я сброшу скорость, – не думая, ответил он.
– Уже хорошо. А если не сбросишь?
– У меня пятнадцать лет водительского стажа, молодой человек, – зло произнес он, – хотя дураков на дороге много, преимущественно молодых, все больше на «Мерседесах»…
Я был доволен. Дурак на «Мерседесе», конечно, я, но я все равно был доволен. Он просто не знает, что «Мерседесы» я презираю.
– А вот дорогу круто повело вверх, – снова изменил я обстановку, провоцируя ответ.
– И я переключаюсь на низшую передачу, иначе мотор не потянет. – Он пьяно присмотрелся ко мне: – Это что, водка?
– Нет, это правда жизни. О тебе и обо мне, – сказал я. – Когда твоя жизнь превращается в дорогу с ухабами и ее постоянно тянет вверх, приходится сбрасывать скорость и переключаться даже «Мерседесам». Хотя дураков на дороге, ты прав, много…
– И ты переключился? – с пьяным сарказмом уточнил инженер. – Со ста тысяч долларов в месяц, с успеха в жизни, с понимания важности своего существования – ты соскочил только потому, что захотелось тишины и покоя?
– Я просто не вижу причин, которые заставили бы меня, преуспевающего бизнесмена, находиться в одном вагоне и разговаривать с измученным судьбой и не имеющим никаких перспектив человеком, который о важности своего существования говорит лишь после пятисот граммов водки и только в отсутствие своей жены.
– Если я пил твою водку, то это не значит, что меня можно оскорблять, – надулся, словно индюк, мой инженер.
Перейдя на соответствующий его аристократическим поползновениям тон, я похлопал его по плечу и сказал, что хочу спать. Эта дрянь мне порядком наскучила. Точно такое же ощущение я испытывал последние три месяца работы в компании.
Мужик в сером свитере молчаливо согласился с той мыслью, что два часа ночи – самое время для сна. Вмяв окурок в консервную банку, прикрученную к окну посредством крышки и играющую роль пепельницы, он вышел из тамбура последним.
В этом поезде тоже одна большая семья, чьи интересы и корпоративная дисциплина подчинены неписаным правилам. Накурился – вали спать. Проснулся – вали жрать. Пожрал – вали курить, читать и спать.
Как жизнь? – Жизнь проходит.
Через полчаса мой новый друг растянулся на своей полке и заснул сном человека, которого анестезировали перед предстоящим коронарным шунтированием.
Я по причине совершенства здоровья лишь потеплел. Пару раз в откинувшуюся дверь заглядывали «каталы», но, не обнаружив в купе никого, кто, по их разумению, мог, имея крупную сумму денег, сыграть в карты, удалялись. Пришел проводник, сообщил, что есть чай (в три часа ночи). Сам он, судя по его трепещущим губам, пил другой напиток. Ближе к утру проводник пришел еще раз, поинтересовался, не видел ли я его дерматиновое портмоне с кармашками для билетов пассажиров. Получив отрицательный ответ, постоял еще с минуту, глядя на мелькающие за окном столбы, и вышел. В следующий раз я увидел его только ближе к обеду следующего дня. К тому же времени проснулся и инженер.
Словом, если не считать погони какого-то лопуха за одним из картежных дел мастером, закончившейся дракой в соседнем вагоне, дорога до Омска показалась скучной и однообразной. Мама с малышом сошли, и дальше до Павловска я ехал с инженером в полупустом купе.
Инженер по имени, которое я позабыл тотчас, как мы познакомились, с похмелья выглядел беспомощным ребенком. Выражение непрощаемой вины застыло на его лице резиновой маской и сохранялось на нем до тех пор, пока я снова не вынул свою бутыль. Две порции водки освежили глаза моего спутника, и – невероятно! – какое перевоплощение случилось с ним за пять минут! Он снова превратился в рыцаря без страха и упрека, пил, куражился, ходил в ресторан высматривать одиноких женщин. Впрочем, в полной мере ему удавались лишь первые два начала. Женщин же он в своих трико с вытянутыми коленями не интересовал, а очки его в роговой оправе на высоте полутора метров от земли женщин не столько интересовали, сколько раздражали. Через два часа он окончательно утратил со мною связь, чему я был очень рад.
Под Карасуком неожиданно выяснилось, что у инженера закончились деньги. Это стало очевидным, когда он за полчаса до прибытия направился было приобретать у проводника, который к тому времени уже находился в состоянии анабиоза от возлияний, очередную бутылку сибирской водки. Сие открытие настолько взволновало человека, знающего свое место в жизни, что у него обвисло лицо, после чего он стал думать. Мысли его далеко, как видно, не зашли, и он уставился на меня долгим взглядом. Взгляд был такой подозрительный, что им впору было затягивать узел галстука под воротником рубашки.
– Денег нет, – сказал он мне. – Сюда никто не входил?
Встретив на оба вопроса молчание, он решил прощупать меня еще одним способом:
– Милицию вызвать, что ли…
Никого вызывать он не стал. На вокзале его встречала жена. Радостным для женщины был только первый поцелуй. Но даже он выглядел каким-то сдержанным, поскольку супруга инженера была из тех женщин, что улавливают запах алкоголя изо рта любимого на расстоянии прямого выстрела.
Через пять часов я вышел на вокзале крошечного, наверное даже не обозначенного на карте городка. Народу со мной выбралось немного, и все с кладью. Две бабки, подросток с рюкзаком и мужик в сером свитере. Кажется, он всю ночь не спал. Иначе объяснить синеву под глазами и изнеможенный вид невозможно.
Главная примета таких городков – рынок у вокзала. Туда-то я и направился, сгорая от нетерпения узнать, чем тут кормят рабочий класс и приезжающую ему на помощь трудовую интеллигенцию.
Но сначала трудовая интеллигенция в моем лице направилась в привокзальный сортир, за посещение которого требовалось отдать пять рублей бабке с бородавкой на носу. Лицо старухи было изъедено рытвинами, бородавка свисала с носа, как сопля, один глаз был мутным, второй смотрел в сторону. Я мысленно похвалил за находчивость владельца этого туалета и еще месяц назад без тени сомнений предложил бы ему место начальника региональных продаж в компании. Желание сохранить пять рублей перед желанием обосраться от ужаса при виде этой бабки испарялось как-то само собой.
Стоя перед писсуаром, я смотрел в зеркало (еще один брайтный кейс президента этого толчка) и думал о том, сколько лиц оно помнит. Не исключено, что вот здесь же, вот так же, с легким равнодушием и без претензий, смотрели на себя «Братья Грим», шаманы, вызванные для семинаров в Москву, члены коллектива «Аншлаг»… да мало ли кто. Все приехали, посмотрели и уехали. А я остался.
Терзаясь любопытством, ради интереса я открыл дверцу одной из кабинок и на уровне пояса, то есть на уровне лица, если бы старуха напугала меня так, как задумывалось, обнаружил такое же зеркало. Этот президент был настырный малый со своей философией. Всех посетителей своего заведения он уверяет в том, что стоит подумать и о душе тоже. И теперь я точно знаю, в какой момент и где именно Цветаевой пришли в голову эти строки:
- Хочу у зеркала, где муть
- И сон туманящий,
- Я выпытать – куда вам путь
- И где пристанище.
Глава 5
Я шел по улице с чемоданом, колотившим меня по ноге при каждом шаге, и с удивлением кивал каждому, кто со мной здоровался. Хотелось бы посмотреть, как такое возможно в Москве. Вот я иду по Кутузовскому, а мне все кивают: негры, китайцы, проститутки украинские, олигархи, их шлюхи, армяне, ремонтирующие проезжую часть, таджики, у которых проверяют документы менты… Чудная картина. Здесь же все было просто до безобразия. Идет по улице провинциального городка молодой человек высокого роста, надежный в плечах и с осторожностью во взгляде, а всем безразлично, кто он. Главное, что с чемоданом, главное, что приехал… Добро пожаловать, Артур Бережной!
К концу дня оставалось решить два вопроса. Первый: работа. Второй: жилье.
С работой я определился без проблем. Дипломированные историки в таких местах с целью устроиться в школу появляются редко, чтобы не сказать – вообще не появляются. Директор встретила меня как родного. Разговаривая с ней и слушая незамысловатую лекцию о величии и благородстве учительского труда, я вспоминал допросы наших кадровиков при приеме на работу новых сотрудников. С лиц людей, оказавшихся в цепких лапах штучек из отдела кадров, капал пот. Их грузили теорией об ответственности «каждого винтика» за деятельность всего механизма, убеждали, что работа почетна, трудна и нет ничего лучше для прибывшего, чем стать частью одной большой семьи, называемой «компания». На самом деле новичку по большому счету ничего не нужно было делать. Его роль сводится к постоянному передвижению и повторению главных заповедей компании. Таких людей используют как проституток во время «субботника», выбивая разумное начало и пичкая информацией, которая не пригодится им в жизни больше нигде, разве что в другой компании.
Здесь же все выглядело убедительно. Учителей не хватает, и мы рады, что вы один из тех, кого не смущает удаление городка от федерального центра. Однако, конечно, удивительно, что молодой человек с красным дипломом, такой энергичный и красивый…
– У вас нет проблем с законом?
– Почему вы так решили? – не столько удивился, сколько растерялся я. Одно дело услышать это от бухого фрика, сорвавшегося с цепи как бешеная собака сразу, едва к тому стали располагать обстоятельства, и совсем другое – от дамы в летах, преподающей русский язык.
– Я слушаю вас, и мне кажется, что вы могли бы преподавать в вузе. В Москве или, ну… если не в Москве, то в Алтайском университете – точно.
Говорить о том, что меня не интересуют деньги, я не стал. Выглядеть идиотом мне не улыбалось. Меня действительно деньги не интересовали, но вряд ли здесь это кто-то поймет.
Я слушал директрису, и голову мою напрягала мысль о том, что, быть может, я приехал не туда. Не исключено, что стоило удалиться еще дальше, туда, где вопросы о деньгах не встают так остро. К примеру, в тайгу. Однако воздух, этот воздух, врывающийся в открытое окно кабинета директора и пьянящий мой мозг, убеждал своего хозяина в том, что такого воздуха нет нигде.
Вопрос с жильем решился еще быстрее.
– Вам нечего тратить деньги на съемные квартиры, – заявила понимающая толк в учительских проблемах директриса. – К школе примыкает пристройка, в помещении две комнаты. Я прикажу убрать оттуда парты и навести порядок. Добро пожаловать в мир знаний, учитель Бережной…
Вот так.
И через час я обзавелся новым знакомым, и близость с ним в будущем будет иметь знаковое для меня значение. А тогда все получилось случайно, как случаются все великие в мире открытия. При подобных же нелепых обстоятельствах яблоко треснуло Ньютона, Оппенгеймер по пьяни нечаянно расщепил атом, а английские операторы ВВС, заплутав, открыли в Восточном полушарии неизвестный мир.
Зайдя в магазин, чтобы купить лимонаду, – после ночной оргии у меня сильно першило в горле от губ до прямой кишки, я замешкался в дверях с чемоданом и получил мощнейший удар по носу дверью. Накопившаяся после «Смирновской» кровь радостно хлынула из обеих ноздрей, и конца этому ручью не было видно. Окровавленный, как трехсотый спартанец, я выволок чемодан на улицу и стал лапать себя по карманам в поисках платка. Остановить кровавый поток матом не получалось, платок не находился, и неизвестно, какой вид я имел бы в первый же день своего появления в городке, если бы меня сзади не схватила чья-то сильная рука и не повалила на скамейку.
– Лежи и не трепыхайся! – услышал я над головой, и мне почему-то захотелось подчиниться этому голосу.
Мужчина лет тридцати завис надо мной, как фонарный столб, надавил на переносицу и, вынув из кармана свой платок, быстро скрутил его в трубку. Через мгновение я с ужасом ощущал, как в обе ноздри мои вползает ткань. Однажды я читал у Чехова, как молодой человек, оказавшийся в чужом городе, улегся спать в постоялом дворе, а ночью пришла старуха и поставила ему клизму. Молодой человек, полагая, что здесь так принято, не протестовал, а поутру выяснилось, что старуха просто ошиблась. И я лежал, чувствовал, как мой нос набивается материей, и на всякий случай не протестовал. Не исключено, что здесь так принято.
Повторно велев не трепыхаться, мой почти что сверстник куда-то исчез, но вскоре появился с бутылкой «Бонаквы». Через пять минут он шел по улице, а я, умытый разрекламированной водопроводной водицей, плелся позади него с чемоданом. Мой спаситель оказался главврачом местной больнички. Следуя в ранний час на работу (я вспомнил майора), он увидел истекающее кровью неизвестное ему лицо и, вспомнив полную версию клятвы Гиппократа, решил принять в моей жизни активное участие.
В больнице я рассказал ему, ничего не тая, кто я, откуда и почему здесь. Он поморщился (я потом понял отчего), достал спирт, и вскоре я чувствовал себя еще лучше, чем по выходе из вагона. Больных не было, в провинциальных городках болеют только тогда, когда весь городок выпьет осетинской водки или подвергнется нашествию энцефалитных клещей, и вскоре мы почувствовали, что могли бы быть гораздо ближе, чем пациент и лекарь. Переодевшись у него в соответствующие моему внутреннему состоянию белые брюки и рубашку, я вышел из больницы чуть веселый и гордый тем, что новатором в части бегства из столицы не являюсь. Игорь Костомаров, главврач, тоже когда-то кипел в Питере и даже докипел до звания кандидата наук. Но потом вдруг решил, что лучше быть Авиценной здесь, чем медбратом там, и теперь вместо пластических операций питерскому бомонду вправляет выбитые на Масленице провинциальные челюсти и полощет фурацилином периферийные глотки. Сейчас у него другое мнение. Он хочет обратно.
– Ты не представляешь, до какой степени здесь раздражает местный колорит, – сказал он. – И днем и ночью одни и те же рожи…
– А ты думаешь, в Москве не одни и те же рожи? – расхохотался я. – Это только так кажется, что Москва огромный город! На самом деле там днем и ночью – одни и те же рожи…
– Да ты не понял, – огорчился Костомаров. – В театр хочу. На улице нужду малую справить хочу не на завалинку чужого дома, а в экологическом туалете. Сапоги резиновые осточертели. Костюм висит, словно на похороны берегу…
Понятно… Его мучит идея, полярная по смыслу моей.
Разговевшись до неприличия, я выдал ему историю о спрятанной в лесу выручке с «Кайена». Он расхохотался и предложил отнести часть в храм, чтобы господь приметил мои благие намерения.
Минуту я сидел неподвижно, а потом нетрезвая благодарность за мудрый совет стала разливаться по моему телу, как истома.
– А что, я так и сделаю! – решительно пообещал я. – Сегодня же!
В первые дни дела у меня обстояли неважно. Оказывается, управлять коллективом в несколько тысяч человек и даже на расстоянии в несколько тысяч километров куда легче, чем классом учеников в двадцать голов в непосредственной близости. Бестолковая, бродящая по школе с затычками в ушах от CD-проигрывателей поросль уже через неделю напоминала мне свору щенков, находящихся в пубертатном периоде. Налицо были все признаки поведения альфа-существа в замкнутом помещении: неповиновение, баррикадирование отношений. Учителя говорят, что проигрыватели – это полбеды. В райцентре, где существует такое понятие, как «роуминг», учителя сходят с ума от рингтонов от Трахтенберга. Что касается девочек, то, по моим подсчетам, шесть или семь оказались в меня влюблены. Последнее причиняло мне массу хлопот в связи с тем, что это были самые красивые девочки городка. Ненависть тех, кто был, в свою очередь, влюблен в них, не знала границ, и меня разве что не вызывали на дуэль. Шестнадцатилетние отроки, страдающие по утрам поллюциями, в мечтах своих, верно, не раз били меня в подворотне, однако наяву никто из них не решался даже бросить в мою сторону косого взгляда. Восемь лет вынужденного бодибилдинга в качестве примера для сотрудников фирмы превратили когда-то просто стройного молодого человека в молотобойца с распирающими ворот рубашки трапециевидными мышцами, и я уверен: молодые люди, ненавидя мою персону, всеми силами старались быть на меня похожими.
До моего прихода просвещением по части истории занимался один пожилой человек, имени которого я сейчас не припомню даже под пытками. Старичку пора было идти на пенсию, и, судя по тому, с каким оживлением его туда спроваживали, он пользовался не слишком-то большим расположением среди педагогического состава. Его постоянные письма с рационализаторскими предложениями изводили не только директора, но и всех учителей. Изобретать что-то в семьдесят лет дело рискованное, и, может быть, к его самомоющимся доскам и электрическим указкам относились бы более благосклонно, если бы на уроках, начав параграф о столыпинских реформах, он не продолжал бы абзац по этой теме абзацем из темы об опричнине Ивана Грозного. При этом выходило у него весьма складно, и даже приезжавшая, как говорят, комиссия из роно этот переход не сразу улавливала. Словом, человеку пора было на пенсию. Для той же Москвы семьдесят лет – не возраст, Москва привыкла, что почти всех из государственного комсостава выносят из служебных кабинетов вперед ногами и в более преклонных годах. То есть человек в голове уже держит чертежи электрических указок, но продолжает руководить районным или даже областным правосудием или Думой.
Словом, со старичком, говорят, пришлось повозиться. Его торжественно проводили, вручив положенные по этому случаю часы. Его предложение вести внеклассные занятия с минимумом часов понимания в роно не нашло.
Я рассказываю об этом так подробно, потому что в диковинку мне были и эти немудреные, лишенные всякой предприимчивости отношения, и – удивительное дело – я вдруг почувствовал, что занял место этого уважаемого старичка, отдавшего пятьдесят лет школе, и чувствовал от этого неудобство. Мне думалось, что оно никогда не пройдет, так же как любовь Анны Ильиничны, Анечки, как ее звали в школе, но мои необоснованные душевные терзания по поводу того, что подсидел ветерана, закончились сразу после одного случая. На второй день своей службы в школе я встретил бывшего учителя истории, поздоровался, а он вместо приветствия похлопал меня по плечу и сказал приблизительно следующее: «Ничего, ничего, пройдет время, и поймешь». Сказано это было с той стариковской снисходительностью, с какой прощается молодым и необразованным идиотам курение в подъезде. С этого момента мое неудобство исчезло, и рассказы старика в клубе о том, как ему пообещали подарить по выходе на пенсию палатку и не подарили, я воспринимал уже с провинциальным спокойствием.
С первых же дней в меня влюбилась учительница биологии Анна Ильинична. Застенчивая девушка, краснеющая от одного только моего взгляда в ее сторону, она была влюблена в меня безответной любовью, и я не без огорчения становился свидетелем тому, как она страдала и сохла. Но в ту пору мне казалось, что любовь истинная приходит сама, а потому, если сердце при виде этой хрупкой и невероятно стыдливой девушки не дрожит (я не понимаю, как с такой застенчивостью она преподавала биологию), значит, это не любовь. И ставим на этом точку. Прости, Анечка, что я не упомяну о тебе более ни разу и что вспомнил о тебе только для нанесения последнего мазка на пасторальный лубок моего пребывания в городке.
Как я был предупрежден заранее, все классы, в которых я преподавал, тотчас разбились на две приблизительно равные по своему количественному составу аудитории. Первая старалась очаровать меня, вторая все свои силы тратила на то, чтобы вогнать меня в гроб. В этой борьбе за социальную справедливость и в уравнивании тех и других до обычного уважения я чувствовал, как оттаивает моя замерзшая в столице душа и как по-новому раскрывается для меня суть такого простого явления, как существование на земле.
Подчинять себе классы удавалось легко по той причине, что я никогда не говорил по так любимым в учительской среде конспектам. С удивлением обнаруживая, как университетские лекции сами собой всплывают у меня в голове, стоит только задать им тему, я даже улыбался на уроках от радости познания. Больше всех мне нравился сын завхоза администрации Жорка. Тринадцатилетнее существо, с лицом, усеянным веснушками, и вечно растрепанной рыжей головой ходило на уроки как на каторжные работы. Если бы не порки, регулярно устраиваемые отцом, он бы, верно, вообще не ходил в школу. По причине того, что Жорка собирался стать космонавтом, а в случае неудачи – шпионом, он учил только астрономию, а поскольку астрономию в седьмом классе, где он учился, не преподавали из-за промашек в школьной программе – недогадливые методисты роно не подозревали, что Жорка собирается стать космонавтом, – то можно смело свидетельствовать о том, что Жорка не учил ничего из того, что преподавали. Однако уже через два дня, то есть ко второму нашему уроку, он выразил свой интерес и даже несколько раз приходил ко мне в пристройку, чтобы выяснить те или иные непонятные для него моменты Смутного времени правления Лжедмитрия. Историю он полюбил, но все остальное время Жорка проводил за более важными занятиями. За школой он крутился на турнике (готовил себя к центрифуге в Звездном городке) или пилил рашпилем куски магния, смешивая затем опилки с марганцовкой и взрывая эту смесь под окнами директорского кабинета. За отсутствием в городке стадиона и других спортивных сооружений Жорку всегда можно было найти за школой на полосе препятствий.
После уроков я возвращался домой, и ощущение того, что из тела моего выходит смог столицы, только усиливалось. Я был предоставлен самому себе, я ни за кого не отвечал, и никто не отвечал за меня – замечательная концепция будущего для человека, отказавшегося от столичных пробок и совещаний. Несмотря на то что я жил в городке всего неделю, я все реже вспоминал Бронислава с его непрекращающимися идеями покорения рынка, и с каждым днем исчезало по черточке из его портрета, поднимаемого мною из глубины памяти, и вскоре, когда я припоминал президента могущественной компании, передо мной являлся лишь двойной подбородок, сочные губы и прическа. Глаза этого человека – глаза, зеркало души! – я позабыл точно так же, как и нос, и голос. Ни за какие красоты мира я не поменял бы сейчас пахнущий полынью ветерок Алтая на ежемесячные посиделки в актовом зале, когда все исходят потом и дурным запахом в ожидании суммы, которая окажется в премиальном конверте. Этот замаскированный под любовь скорострельный нетрезвый секс на корпоративных вечеринках, походы в кино на новые творения Бондарчука, командировки по обмену опытом… Все это, вместе взятое, не стоит одного вечера у реки, когда солнце, пресытившись днем, опускается за край земли.
Я вспоминаю свой последний разговор с Брониславом, когда я еще не думал о вечерах у реки, а он не предполагал, что я когда-нибудь о них задумаюсь.
– Нам нужен этот контракт, Артур. Нужен как воздух. Предоплата в четыре с половиной лимона зеленых – кто еще спустит нам такие деньги? – Он поглядел на меня с нескрываемой президентской любовью, точно зная, кому говорить спасибо за такую предоплату. – Я не понимаю, как ты их окрутил, клянусь богом. Заставить питерских предоплатить пятнадцатимиллионный контракт четырьмя с половиной – это нечто! Артур, мы возьмем пятьсот и расколем пополам. По бухгалтерии я все проведу правильно… Но как ты их окрутил?
Восторг от того, что от четырех с половиной миллионов можно отсечь пятьсот тысяч и поделить на двоих, замыв следы в бухгалтерской чаще непроходимых формул, – вот предел истинного счастья для лучшего из тех, с кем я прожег шесть последних лет в самом дорогом городе мира.
Мне почему-то кажется, что Бронислав, случись так, что он присядет рядом со мной на этот берег в десятом часу вечера, будет говорить не о том, как тает в воде солнце, а о планах компании на октябрь. У него есть на примете поднимающаяся фирма, которая готова взять на консигнацию сто тысяч единиц каш…
Кажется, я нашел ту сотню очков, что добили Журова. Именно сейчас, сидя на берегу реки и швыряя в расплывающийся по воде кровавый блин солнца камни, я понял и успокоился. Долгие годы этот человек занимался не своим делом и не хотел этого понимать. Он хотел стать начальником отдела, полагая, что тогда наступит рай. Но уже через полгода свою цель он видел бы в виде кресла вице-президента. И все эти годы, что он двигался к нему, он убивал бы своих детей, не замечал уходящих от него жен, и рано или поздно на него накинулся бы Черный пес.
Водители-дальнобойщики утверждают, что на дорогах живет Черный пес. Когда силы шофера на исходе, когда от усталости чувствуешь на голове волосы, когда дождь хлещет по трассе под одним и тем же углом, Черный пес бросается с дороги на водителя и впивается клыками в горло. И водитель уже не принадлежит себе, он во власти дороги, и она делает с ним что хочет…
На меня бросилось кое-что похлеще пса, но и должность у меня, согласитесь, не топ-менеджера, а вице-президента. По Сеньке шапка…
Журов умер, потому что должен был умереть. Так рано или поздно случается с теми, кто, презрев свои правила жизни, пытается облагородить своим смирением корпоративные. Но это невозможно. Штекер Журова подойдет к материнскому разъему любой компании, но это будет штекер менеджера. У начальников отделов разъемы другие, и мне очень жаль, что Журов не понял простой истины: на всякого Журова всегда отыщется свой Бережной.
Мы должны были уйти оба. Сюда, на берег далекой алтайской реки. И он не думал бы о своем ребенке как о пачке масла и не велел бы жене вырезать его и выбросить в урну. Он плакал бы от счастья, поднимая его над своей головой.
Жаль, что я не прихватил с собой водки. Глядя на почти утонувшее в водоеме солнце, я помянул бы всех детей, погибших в этой войне.
Глава 6
Спрятанная в лесу выручка за «Кайен» мною была сознательно позабыта, мне доставляло недюжинное удовольствие жить на свой счет. Единственная крупная трата, которую я себе позволил, произошла через два часа после знакомства с Костомаровым. Вернувшись домой, я раздвинул в своем логове шторы и, к удивлению своему, обнаружил, что прямо из окон моей пристройки видны золотистые купола…
Я не помню, когда в последний раз был в храме. Я никогда не видел в этом нужды. Но сейчас, опьяненный российской глубинкой, я шел мимо крепко стоящей на улице Осенней церквушки и решил зайти. Не знаю, что на меня нашло, но я подошел к старушке и тихо заговорил о том, кому нужно молиться страннику. «Вообще Троеручице… Но нужно перестилать пол, – пожаловалась она, подсказав заодно и о Николае Чудотворце. – Стены красить надо, – сказала. – Крыша худая, а денег нет».
Я ушел и через час вернулся. Ровно час мне потребовалось для того, чтобы раскопать схрон и вынуть три из одиннадцати пачек. Все они были новенькие, и купюры такие острые, что ими можно было бриться. Выдавая мне в банке один миллион и сто тысяч, кассирша с удовольствием бросала их мне в лоток. Я благодарно принимал и наблюдал за тем, как увеличиваются в правильной последовательности порядковые номера купюр. Ни одной старой, все только что с печатного двора… Вот и сейчас, вынув три, что лежали сверху, я удивился тому, с каким безразличием взял их в руки. Для меня это были уже не деньги, а эхо вчерашнего дня, стихания которого я никак не мог дождаться.
«Прямо беда с этим ремонтом», – увидев меня снова, пожаловалась служка. И тут я вынул из кармана сверток и отдал старушке. И ушел. Она говорила, что пятьдесят тысяч взять неоткуда. И сразу после этого церковь в забытом богом городке получила триста. Старушка не знала меня, я не знал батюшку, возможно, это и явилось причиной того, что меня никто не благодарил.
А вечером того же дня я совершил прямо противоположный, алогичный поступок. Прогуливаясь по городку, я вдруг понял, что думаю о компании. Поразивший меня вирус жил и продолжал точить мою только что спасенную душу. Не знаю, что на меня нашло, но я вдруг наехал на шлифующую подошвами асфальт старуху, которая, по моим подсчетам, видела царя, да не одного, я тихо поздоровался и спросил, не знает ли она какой бабушки, которая заговаривает хворобу. И тотчас мне был показан дом с потемневшей от старости, но еще крепкой крышей, выглядывающей из-за труб домов соседней улицы.
Бабушка Евдокия оказалась энергичной восьмидесятилетней женщиной. Я рассказал ей о компании, о своем капитале, о мыслях, тревожащих меня, о внезапно посетившем меня озарении и посетовал на невозможность отречься до конца от старого и вдохнуть новое. Она слушала меня около получаса, а потом попросила руку и, сжав ее, закрыла глаза.
Клянусь богом, которому, впрочем, не доверяю, такого страха я не испытывал даже в тот день, когда на меня с небес бросилось нечто. Старуха поджала нижнюю губу, минуту не дышала, а потом завыла, как собака. Клянусь, как собака! Я хотел вырвать руку, но она держала ее стальной хваткой. Откинувшись назад, она тяжело дышала и постанывала. Продолжалось это секунд сто, и каждая из них показалась мне минутой.
– Милый ты мой… – прошептала она, разжимая влажные веки. – Откуда в тебе столько?
– Душа у тебя мечется, – продолжила она в ответ на мое предложение закончить дело вторым сеансом после восьми. – В узлах она у тебя, детка… Ищут тебя, за спиною ходють… Грозу над тобой вижу, касатик, молнии яркие, небо суровится, но не от господа сие… Не отпущают тебя силы, возвратить хочут…
– Да кто хочет-то?
Старуха прикрыла глаза и ослабила хватку.
– Повстречается тебе человек скоро… или уже повстречался… Не верь ему. Откажи. Отрежь. Душа твоя истощена, слаба… Куды повести ея, туда и побредет…
После того как я полчаса излагал бабке свою биографию, нетрудно было предположить, что привели меня сюда не хорошая жизнь и не берега зефирные. Я всегда изумлялся простоватости светских нимф, посещающих таких вот ясновидящих. Расскажут о себе все, начиная с пеленок, заканчивая вчерашним неудавшимся сексом, а потом ходят под впечатлением рецензии, выданной при свече. И секс у них скоро наладится, и за деньгами их альфонсы гоняются, и верить можно второму мужчине во вторник, а первому и третьему по средам давать никак нельзя.
– Бойся, касатик, – попросила меня на прощание старушка, – оглядывайся… Возьми иконку в храме и повесь над кроватью… Да не в этом бери, а в дальнем… Серые люди с темными лицами тебя пасут, агнца, аки волки…
«Люди в сером, – подумал я, усмехнувшись. – Третья часть с Томми Ли Джонсом и Уиллом Смитом».