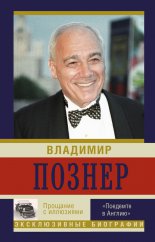Встречи на перекрестках Примаков Евгений
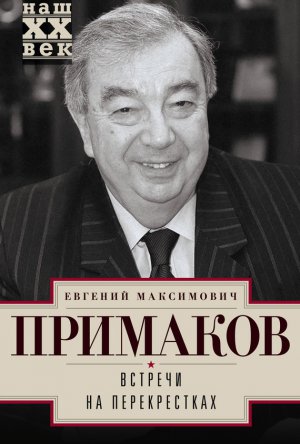
Мы стоим перед дилеммой: или заморозить связи между двумя странами на долгий-долгий период, что противоречит и нашим и вашим интересам, или, отойдя от крайностей – мы в своем непризнании существования территориальной проблемы (как же нет проблемы, если они претендуют на острова, а мы не принимаем их претензий), а японцы в требовании передачи островов в качестве обязательного условия развития двусторонних связей, – начнем шаг за шагом взаимодействовать, особенно в экономической области. Это постепенно укрепит доверие и создаст основу для решения самых трудных вопросов.
К немалому удивлению, Накасонэ с такой логикой сразу согласился. Позже он разделил и вынашиваемую нами идею совместной хозяйственной деятельности на островах.
Накасонэ выдающийся политик. Я думаю, что равных ему нет в современной Японии. Может быть, именно поэтому мы и продирались без него (несмотря на несомненные успехи в середине и в конце 90-х годов) сквозь «дебри» наших отношений.
В немалой степени это происходило еще и потому, что в Японии очень трудно рассчитывать на конфиденциальность переговоров, особенно с представителями МИДа. Все тут же попадает в прессу. И что особенно неприятно, японская пресса очень вольготно обращается с такой информацией, зачастую переиначивая ее и даже придавая ей совершенно противоположный смысл. В последнее время, возможно, этого стало меньше, но тогда, когда диалог шел по линии «Ампокен», Суэцугу и другие японские участники, бывало, негодовали и извинялись за такие «казусы».
Так было, например, когда, по просьбе Суэцугу, я, находясь в Токио, в конце декабря 1985 года встретился с директором департамента Европы и Океании МИДа Японии Нисиямой. Во время непринужденной беседы за ланчем спросил – меня это действительно интересовало, – почему японское правительство упоминает только о заявлении Танаки и Брежнева в 1973 году. Что стоит за этим? Этот вопрос был весьма своеобразно интерпретирован в японских газетах. «Асахи», «Санкэй», «Иомиури» 27 и 28 декабря на первых полосах со ссылкой на японский МИД приписали мне призыв вернуться к совместной японо-советской декларации 1956 года. Тут же был сделан вывод, что СССР предлагает урегулировать «территориальный вопрос», передав Японии два острова – Хабомаи и Шикотан (как известно, в названном заявлении с большими оговорками такая возможность не исключалась, но в дальнейшем мы от этой позиции отошли). Этот вывод, как следовало из «комментариев МИДа», приводимых в газетах, был сделан для того, чтобы не согласиться на «частичное решение» и возобновить требование о «возвращении» всех четырех островов.
В нашем посольстве подтвердили мою мысль, что вся эта дезинформация была затеяна ради того, чтобы показать твердую позицию МИДа и воспрепятствовать расколу японского общественного мнения – там просчитывали варианты и не исключали того, что в Москве может появиться идея возврата к заявлению 1956 года, кстати единственному из всех советско-японских документов к тому времени ратифицированному парламентом Японии.
Просматривая свои записи контактов с японскими коллегами тех лет, я и сейчас убежден в том, что единственное решение – совместная хозяйственная деятельность на островах, которая постепенно сгладит прямую постановку вопроса о суверенитете. Этому будет способствовать, конечно, давно перезревшее подписание договора между двумя странами.
Переводил наши беседы и переговоры с японцами по линии «Ампокен» прекрасный специалист, свободно владеющий русским, японским и корейским, Рю Хаку, или, как мы его называли, Юрий Михайлович. Я был дружен с ним. По его просьбе взял его с собой сначала из ИМЭМО в Институт востоковедения, а затем снова в ИМЭМО. Рю Хаку прошел удивительную жизнь. Был солдатом в японской армии. Попал к нам в плен. Остался в Советском Союзе. Женился на русской. Защитил диссертацию. Во время одной из первых поездок в Японию он обратился ко мне с ошеломляющей просьбой разрешить ему позвонить в Южную Корею и поговорить с матерью, которая уже тридцать лет не знала, что он живой. Представляю счастье матери, услышавшей голос сына, которого считала давно погибшим. Об этом телефонном разговоре, естественно, мы в Москве не распространялись – была середина 70-х.
Потеряв жену, Рю уехал в Сеул, где снова женился, и опять на русской, преподававшей «по обмену» язык в местном университете. Уже в 90-х он переводил мою беседу с южнокорейским президентом, став гражданином Южной Кореи, но навсегда оставшись нашим другом.
Все большему сближению ИМЭМО с практической деятельностью способствовало то, что мы начали развивать абсолютно новое направление исследовательской работы с прямым выходом на политику – ситуационные анализы. Я возглавил разработку методики «мозговой атаки». Особую роль здесь сыграли В.И. Любченко и В.И. Гантман. Методика включала целый комплекс: подбор «совместимых» экспертов – ученых и практиков, выступающих от собственного имени; сценарий обсуждения, состоящий из ряда взаимосвязанных блоков; «домашние задания» экспертам; правила дискуссии; виды формализации; подготовка документа «на выход».
Обычно ситанализ проводился в течение всего дня; помимо выступавшего, по заранее определенному вопросу имели право в течение нескольких минут высказаться только те, кто были с ним не согласны. Три момента приобретали особое значение: подготовка сценария, что могло быть осуществлено только профессионалами, глубоко разбирающимися в теме обсуждения (при этом имело большое значение определение системы «переменных» и их иерархическое расположение), само «дирижирование» при проведении ситанализа и подготовка документа с выводами.
Мне довелось руководить большинством таких обсуждений. Назову лишь несколько результатов: мы спрогнозировали бомбардировки американской авиацией Камбоджи во время вьетнамской войны за четыре месяца до их начала; после смерти Насера – поворот Садата в сторону Запада и отход от тесных отношений с СССР; наконец, после победы «исламской революции» в Иране – неизбежность войны между этой страной и Ираком, она началась через десять месяцев после проведения ситуационного анализа. Этот список можно было продолжить. Не последнее место в нем заняли сбывшиеся прогнозы экономических результатов энергетического кризиса, начало которому положил последовавший за войной в 1973 году на Ближнем Востоке резкий подъем цен на нефть.
За разработку и осуществление ситуационных анализов группа ученых под моим руководством получила в 1980 году Государственную премию СССР. Проходили мы вместе с оборонщиками по закрытому списку. Когда каждому из нас торжественно вручали значки лауреатов и дипломы, мы удивились тому, что в зале было не меньше награжденных, чем тех, которые становились лауреатами по открытому списку. Вручавшие награды – секретарь ЦК, заместитель председателя Совмина и заведующий оборонным отделом ЦК – отреагировали без тени юмора на мой вопрос, следует ли значок лауреата носить с обратной стороны лацкана пиджака. «Вы можете носить его открыто», – последовал ответ.
Отказ от догм в контактах с США
«Новое политическое мышление» в СССР связывают в основном с «эрой Горбачева». Действительно, в это время было сделано много. Разрабатывались эти новые подходы на государственной даче в Лидзаве (Абхазия) в 1987 году. Главным автором был Александр Николаевич Яковлев.
Что действительно нового было предложено к осмыслению? Прежде всего идея о взаимозависимости двух противоположных систем и сохраняющемся при этом единстве мира. Такое единство рассматривалось в двух плоскостях: с точки зрения научнотехнической революции, охватывающей в той или иной степени весь мир, и общечеловеческих ценностей и интересов, выражающихся в стремлении всех избежать термоядерной войны. Проблема выживания теперь справедливо оценивалась как проблема выживания всей человеческой цивилизации.
Вместе с тем единство мира интерпретировалось как часть общей формулы: единство и борьба противоположностей. Акцент впервые стал делаться на первой части этой формулы, а второй давалось ограниченное толкование, исключающее ядерное столкновение. Это уже было большим достижением, но, как представляется, гораздо устойчивее, органичнее и более последовательно выглядел бы вывод о единстве мира, если бы он базировался на признании конвергенции. Но этого тогда не сделали.
Новые подходы к международным делам проявились прежде всего в решении задач безопасности СССР. При сохранении оборонного потенциала страны на первый план были выдвинуты политические средства обеспечения безопасности нашего государства. Именно в это время было осознано – и не просто осознано, а легло в основу политики, – что при накоплении такого количества и такого качества средств массового поражения в случае термоядерной войны не может быть победителя.
В период после 1985 года мы пришли к важнейшему выводу: военные меры сдерживания – равновесие страха – ненадежны, особенно в условиях «подъема паритета» с вовлечением в сдерживание новых сфер и средств: космоса, «экзотического оружия». Не исключено, что в таких условиях принятие важнейших военных решений становится прерогативой техники.
Именно этот вывод подтолкнул к идее сохранения паритета, но на возможно более низком уровне.
Известно, что с 1979 года не было советско-американских встреч в верхах, а М.С. Горбачев встречался с президентом Р. Рейганом пять раз. Мне довелось в составе группы экспертов находиться в Женеве, Рейкьявике, Вашингтоне, был в этой группе и в Москве. Видел, можно сказать, с близкого расстояния, как трудно начинался диалог и каких усилий с советской стороны стоило отвести мир от опаснейшей черты.
В Женеву президент Рейган приехал со словами: сначала добиться доверия через решение проблем защиты прав человека, урегулирование региональных конфликтов и лишь затем приступить к сокращению вооружений. В конце концов после острой полемики согласились с тем, чтобы идти по всем направлениям одновременно. Но это, по сути, были лишь наметки на будущее.
В Женеве по-настоящему не были оценены американцами некоторые «домашние заготовки» советской делегации. Горбачев дал понять, что целью СССР является непрерывность движения к сокращению вооружений. При этом мы отбрасывали ту формулу, которой пользовались в прошлом, – «или все, или ничего». В такой постановке не было учтено реально существующее на Западе убеждение, что без сохранения какого-то количества ядерных боеголовок у Советского Союза и Соединенных Штатов не обойтись в обозримом будущем – с учетом и накопившегося недоверия между СССР и США, и отсутствия гарантии нераспространения ядерного оружия, и даже возможности овладения им террористическими группами. Бывший министр обороны США Макнамара называл число таких «гарантирующих» боеголовок – 400, то есть на порядок меньше имевшихся на вооружении каждой из двух стран. У нас некоторые эксперты спорили с такими доводами, но в любом случае надо было считаться с распространенными на Западе взглядами.
Вообще нужно сказать, что мы впервые начали соизмерять свои внешнеполитические инициативы с общественным мнением на Западе – не отдельной его части, близкой нам по идеологическим убеждениям, а с господствующими, доминирующими в нем представлениями, в том числе и нелицеприятными. Еще одна внешнеполитическая догма, от которой мы отказывались, заключалась в том, что общественное мнение на Западе, «где у власти находятся представители монополистического капитала», не играет сколько-нибудь важной роли в выработке решений. Однозначно уверовав в это, мы в прошлом как-то не задавались вопросом: а почему в таком случае руководящие круги на Западе тратят так много энергии и средств, чтобы создавать общественное мнение в поддержку своей политики?
Наш новый подход с учетом общественного мнения проявился – что особенно важно – в отношении проблем контроля. Раньше мы соглашались на контроль за процессом сокращения вооружений только с помощью национальных средств. Помню встречу Горбачева с экспертами в Женеве. Нас неожиданно пригласили в «защищенный кабинет»[9], где, помимо Горбачева, присутствовали Шеварднадзе, первый заместитель министра иностранных дел Корниенко и другие. И должен сказать, для нас, людей, профессионально занимающихся международными проблемами, но в общем «детей своего времени», довольно неожиданно прозвучали слова: нет, очевидно, смысла упорно держаться за прежнюю позицию по контролю. Дело даже не только в том, что национальные средства, как считают на Западе, не при всех случаях надежны, а в том, что своим отказом от других средств мы подыгрываем тем, кто говорит, будто наше общество закрытое, результаты соглашений непроверяемы и поэтому, дескать, с нами не стоит договариваться.
Известно, насколько мы выиграли в общественном мнении, как только приняли новую философию контроля: если подписываем соответствующее соглашение, то готовы на самый что ни на есть жесткий контроль, в том числе международный или инспекцию на месте, включая открытие лабораторий.
Услышав эти слова Горбачева, присутствовавший в «защищенном кабинете» академик Е.П. Велихов тут же спросил, относится ли все это к нашим оппонентам. Здесь мы все были единодушны – никто не собирался открываться в одностороннем порядке. К сожалению, время показало, что обе стороны сохранили стремление уж во всяком случае не открывать своих лабораторий. Не знаю, как для американцев, но для наших разработчиков – в этом я твердо уверен, общаясь с ними, – такое «затворничество» во многом было и остается продиктованным настойчивым стремлением их зарубежных коллег в целом ряде случаев прибегать к двойному стандарту: «Мы хотим знать, к чему готовитесь вы, что у вас делается, но это отнюдь не означает нашу готовность пустить вас к себе на «кухню».
Крайне неожиданно для западных политиков мы не исключали обсуждение вопроса о правах человека, но тоже на «обоюдоострой» основе. Это дало нам возможность превратиться из «подсудимого» в этой области, в чем не без успеха многие уверяли мировое общественное мнение, в равноправного партнера, обсуждающего один из самых животрепещущих вопросов современности. И не просто обсуждающего, но и серьезно озабоченного необходимостью найти соответствующие решения.
В общем, накапливался позитивный материал для перелома в лучшую сторону в советско-американских отношениях. Так мы подошли к октябрю 1986 года, когда состоялась встреча на высшем уровне в столице Исландии Рейкьявике. Могу засвидетельствовать, что это была уже совсем иная атмосфера: широкий диапазон обсуждаемых вопросов, интенсивные переговоры, во время которых не исключались компромиссы. Впервые Горбачев пошел на то, чтобы несколько «разбавить» мидовцев непосредственно в переговорных рабочих группах. Этому не сопротивлялся, во всяком случае в открытую, Шеварднадзе – наверное, потому, что сам еще полностью не контролировал свой аппарат, но в дальнейшем престиж МИДа для него играл подчас самодовлеющую роль.
Я с советской стороны возглавлял подгруппу по конфликтным ситуациям. Моим партнером с американской стороны была заместитель госсекретаря Розалин Риджуэй – женщина с сильным характером и прекрасно подготовленная в профессиональном плане. И было вдвойне важно, что мы пришли к взаимопониманию по целому ряду проблем, согласовали многие формулировки совместного документа. Правда, на это понадобилось почти тридцать шесть часов непрерывной работы. Но все в конце концов зависело от того, договорятся ли в основной – разоруженческой группе. Не договорились, хотя были близки к этому. Поэтому не был подписан и наш документ.
Горбачев очень стремился к результативности встречи. Когда он вышел провожать Рейгана, то даже при открытой дверце лимузина президента США предложил ему вернуться и подписать соглашение о сокращении вооружений. Рейган не проявил готовности к этому.
Но тем не менее сближение сторон продолжалось, чему в немалой степени способствовало то, что мы впервые стали признавать свои ошибки. Одна из них, очевидно, заключалась в размещении в Европе наших ракет средней дальности (по американской маркировке, СС-20). США в ответ решили размещать в Западной Европе «Першинги-2» с подлетным временем до Москвы 6–8 минут. Если наши СС-20 не могли рассматриваться для США как стратегическое оружие, так как не достигали их территории, то «Першинги-2» именно таковым для СССР и стали. Специалисты-ученые, среди которых были люди моего поколения, например О.Н. Быков, и молодые – А.Г. Арбатов, С.А. Караганов и другие, писали об этом, резко критикуя тех, кто подсчитывал чисто арифметически и выражал свое неудовлетворение, что мы уничтожаем боеголовок больше, нежели американцы по договору, подписанному в Вашингтоне в 1987 году, о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
В этом еще раз проявился наш устоявшийся менталитет. Значительная, если не большая часть специалистов, занимавшихся военно-политическими вопросами, главным образом изыскивала аргументы в поддержку принимаемых решений на высшем уровне в СССР – некоторые это делали более рьяно, другие менее. Конечно, далеко не все такие внешнеполитические решения были со знаком «минус» или ущербными по своей сути. Многие из них не могли не учитывать шаги, которые делались или предполагались с другой стороны. Но главное в том, что процесс предварительного осмысления перед принятием решения с привлечением специалистов со стороны, а не просто сотрудников аппарата, да и то лишь в лучшем случае тех, кто профессионально знал проблему, как правило, был довольно редким.
В этой связи особое значение имело решение в 1980 году о вводе советских войск в Афганистан. Вывод наших солдат из этой страны был поддержан преобладающим большинством населения СССР. Может быть, лишь небольшая горстка людей сетовала по поводу того, что мы «бросаем своих друзей на произвол судьбы». Этот мотив, как мне кажется, имел право на существование, но только в том плане, что следовало бы больше сделать для укрепления позиций группы, возглавляемой Наджибуллой, которая имела потенциал, чтобы в союзе с другими оставаться одной из влиятельных сил в стране. Может быть, это предотвратило бы трагическое развитие событий в Афганистане, погруженном в многолетнюю перманентную войну. Но тогда в Москве все сосредоточились на главном для нас – исправлении исторической ошибки, стоившей жизни и здоровья многим тысячам наших ребят.
Так уж ли все сразу прозрели, или решение о вводе «ограниченного военного контингента в Афганистан» с самого начала резко осуждалось внутрисистемными диссидентами? Ни то и ни другое. Нужно сказать, что журналисты, ученые (к их числу принадлежал и автор этих строк), поставленные перед фактом ввода войск, не выступали публично против этого, что не относится к небольшому числу закрытых обсуждений, об одном из которых пишу ниже. Руководствовались главным образом устоявшейся привычкой безоговорочно поддерживать все принятые наверху решения. Сказывался и привычный для того времени образ мышления, сформировавшийся в условиях жесткой конфронтации с Соединенными Штатами, осложнением отношений с Китаем.
Это все было характерно для реакции на ввод войск. И я не знаю исключений, несмотря на ретроспективные «пассажи» некоторых авторов, утверждавших, что с самого начала боролись против направления наших ребят в Афганистан. Такую борьбу – это нужно признать – вели те, кто порвал с советской системой, а не те, кто ощущал себя ее частью. Но реакция на афганские события все-таки стала меняться даже среди «аппаратчиков», когда «временная мера пребывания ограниченного контингента» растягивалась на годы, да к тому же привела к негативным последствиям. Незабываем героический подвиг наших ребят, сражавшихся в Афганистане. Но это не должно уводить от трезвого анализа решения о вводе войск, и того, как они там застряли на долгое-долгое время, и деятельности наших многочисленных советников, подчас далеких от понимания реальной обстановки в этой стране.
Признавая все это, вместе с тем нельзя закрывать глаза на действия Соединенных Штатов и их союзников, направленные на изоляцию СССР, создание для нас труднейших ситуаций в различных регионах мира. Поэтому иногда даже американские оппоненты – я имею в виду, конечно, наиболее объективных и, если хотите, интеллигентных из них – удивляются, когда некоторые наши участники многочисленных встреч за круглым столом, дискуссий на симпозиумах, семинарах так сосредоточенно посыпают голову пеплом, что забывают об оценке действий противоположной стороны. Позже, работая во внешней разведке, я знакомился с тем, что делалось по линии спецслужб США для «удержания» нас в Афганистане. Так мы знали и о поставках наисовременнейшего оружия, «стингеров», афганским моджахедам для нанесения максимального урона советским вооруженным силам в Афганистане. Такие уж были «правила поведения» во время холодной войны.
Кстати, скорее не по инерции, а в ведомственных или даже «общеглобальных» интересах американская поддержка отдельных групп в Афганистане продолжалась и после вывода наших войск. Когда Кабул захватили и установили контроль над большей частью территории Афганистана талибаны, или талибы (мы хорошо знали, что это движение создавалось пакистанскими военными и спецслужбами, да и американцы, особенно на первых порах, не остались безучастными), я говорил госсекретарю США Мадлен Олбрайт: если вы хотите мира и стабильности в Афганистане, то достичь этого можно лишь на коалиционной основе. Одна какая-то сила, этническая или политическая, а талибаны – только пуштуны, не сможет контролировать ситуацию во всей стране. Думаю, что Вашингтон убедился в этом, и не только в этом, – Афганистан превратился в место подготовки террористических групп, протягивающих свои щупальца в другие страны и даже на другие континенты.
Думаю, что не все пакистанцы были вдохновлены деятельностью «Талибана». Во всяком случае, в середине 90-х годов премьер-министр Бхутто в разговоре со мной сетовала на то, что трудно, если вообще возможно, «загнать назад джинна, вылезшего из бутылки».
Но вернемся к концу 80-х. Когда в Белый дом пришел новый президент, наши надежды на то, что Буш в гораздо меньшей степени, чем Рейган, «идеалист» и в гораздо большей «прагматик», в целом оправдались. Немалое значение имел и тот факт, что за спиной Буша уже был накопленный в результате обоюдных советско-американских усилий потенциал стабилизации международной обстановки. Прагматик Буш, как представляется, оказался больше, чем Рейган, восприимчивым к процессу деидеологизации межгосударственных отношений, несколько отошел от типичных для американских политиков представлений: если мы, дескать, выходим в своих внешнеполитических акциях за советско-американские рамки, сосредоточиваемся на улучшении отношений со странами Западной Европы, с Китаем, то мы делаем это для того, чтобы расколоть НАТО или «разыграть» против США какую-нибудь очередную «карту».
Индийская и китайская «карты»?
Между тем накануне прихода к власти президента Буша состоялся визит М.С. Горбачева в Индию, а после – в Китай. Оба визита имели первостепенное значение.
К этому времени в практику поездок главы государства за рубеж стала внедряться новая форма подготовки визитов: за несколько дней до их начала в страну направлялась группа экспертов, состоявшая из ученых, практиков-международников. Участники группы встречались с коллегами, давали интервью, выступали перед серьезными аудиториями. Все это создавало отличную «пищу» для «свежего» восприятия обстановки и ложилось в основу тех рекомендаций, которые высказывались Горбачеву. Все начиналось с мимолетных реплик еще на аэродроме, где по прибытии он, здороваясь с нами, часто задавал вопросы, а затем все мы – а я принимал участие практически в каждой из таких экспертных групп – собирались в посольстве и в присутствии главы и членов делегации делились своими наблюдениями и соображениями.
Такая «подзарядка» до начала переговоров, очевидно, была небесполезной. Нужно сказать, что в практику Горбачева плотно вошел обмен мнениями с экспертами и в ходе переговоров, а некоторых из нас он включал в группу, сопровождавшую его при встречах с руководителями посещаемой страны.
Большое впечатление произвела на нас Индия. Естественно, поразили и древнейшие памятники культуры, зодчества, масштабы страны. Но, пожалуй, главное, что для некоторых членов советской делегации, ранее незнакомых с Индией, было полной неожиданностью, – это высокий уровень научно-технического прогресса. В условиях, благоприятствующих политическому сближению, развитию многосторонних экономических связей СССР с Индией, обоюдной заинтересованности в военно-техническом сотрудничестве, это создавало абсолютно новую перспективу взаимодействия двух стран. Об этом мы говорили в резиденции Горбачева в посольстве, но без наших дипломатов, работающих на месте.
На встречу мы ехали в машине, за рулем которой сидел советник нашего посольства. Разговорились. Он – я думаю, что это не было характерным для нашего посольства в целом – очень неуклюже высказался в адрес индийцев. Я резко прервал его: «Да как вы можете здесь работать, если так неуважительно говорите о людях этой страны?» Он что-то вяло промямлил в ответ. Когда пошел разговор в присутствии Горбачева и Шеварднадзе о перспективах наших взаимоотношений с Индией, я сказал, что для этого здесь в основном должны находиться другие люди. Меня поддержали, напирая на то, что представители СССР в Индии должны по-настоящему понимать стратегическую ценность наших отношений с этой страной. Я рассказываю об этом так подробно, потому что произошедший разговор чуть не повлиял на мою судьбу. Но об этом потом.
Визит в Китай был не менее важен. Горбачев с «сопровождающими лицами», как они назывались во всех официальных документах, прибыл туда в то время, когда КНР была на распутье. С одной стороны, под патронажем Дэн Сяопина начались экономические преобразования – основательные, переводящие из ресурсного потенциала в реальность огромные возможности этого великого народа. С другой – китайское руководство было максимально заинтересовано в сохранении политической надстройки, в том числе партии, способной обеспечить стабильность и активно руководить преобразованиями в экономике. Конечно, в какой-то степени это создавало своеобразное раздвоение: определенная и ощутимая демократизация в экономической сфере не подкреплялась сразу столь же действенной демократизацией в политической области.
Я не берусь судить сегодня о том, была ли заложена «житейская правота» в таком дисбалансе, продиктованная, кроме прочего, учетом исторического опыта и традиционной специфики Китая. Но такая двойственность сложилась и по отношению к визиту Горбачева. Его принимали как лидера обновления социализма, вставшего на путь, ведущий к рыночным отношениям, к новым нормам, которые могут, как считали тогда мы, да и в Китае, наконец-то показать преимущества социалистического способа производства. В то же время китайское руководство опасалось, как бы этот визит не «раскачал» страну, не подпитал ту часть населения, главным образом интеллигенцию и особенно студентов, которых явно вдохновлял советский пример внедрения гласности.
Студенты обратились к Горбачеву с просьбой выступить перед ними на митинге. Мы – я был среди самых активных в этом отношении – категорически не советовали ему делать этого. И может быть, оказались правы.
При любых обстоятельствах, выступи Горбачев перед студентами, навряд ли оказалась бы столь дружественной и плодотворной встреча с Дэн Сяопином, на которой я присутствовал. Дэн всячески демонстрировал свое уважение к СССР, подчеркивал громадное значение для Китая оказанной ему в прошлом советской помощи и поддержки. Он говорил о чрезвычайной важности не только для наших двух стран, но для всего мира в целом развития китайско-советского сотрудничества.
Дэн сидел в большом кресле рядом с восседавшим в таком же большом кресле Горбачевым. Обращался к нему по-дружески, как мне показалось, демонстрируя свое уважительное отношение. Горбачев тоже был максимально дружелюбен. Нашел формулу, которая, по его словам, показывает наши различия, но не разделяет СССР и КНР: «Мы начали перестраиваться с политики, а вы с экономики, но придем к одним результатам». Дэн в ответ молча кивал.
Даже по этой беседе, длившейся более часа, можно было представить, насколько светлым умом обладал этот уже очень пожилой человек и с каким огромным уважением относились к нему все присутствовавшие.
А «на дворе» бушевали страсти. Студенты демонстрировали на площади Тяньаньмэнь и блокировали «правительственный островок», где на многих гектарах располагались дома руководящего состава Китая и гостевые дачи. «Островок» этот был живописнейшим местом: лужайки, пруды с причудливыми мостиками, деревья и кусты, заботливо пересаженные чуть ли не из всех концов Китая, и прекрасные, построенные в старокитайском стиле, но вполне комфортабельные дома с вышколенной, улыбчивой и доброжелательной прислугой. Когда каждый из нас подъезжал к выделенному ему для проживания дому, обслуживающий персонал – молодые ребята и девушки (на мой вопрос ответили, что их набирают из провинции и они здесь проходят хорошую школу) выстраивались в шеренгу в красивой китайской одежде и в обязательных белых перчатках и все разом кланялись. Это же повторилось при нашем отъезде.
Как-то Михаил Сергеевич пригласил меня прогуляться с ним по территории резиденции. Говорили обо всем, и, конечно, о чрезвычайной важности отношений с КНР. Это выходит далеко за двусторонние рамки. Сила нашей внешней политики, заметил я, в максимальном охвате различных государств, и особенно в развитии отношений с азиатскими странами. При такой конфигурации нам будет легче иметь дело и с Западом. Горбачев соглашался и неожиданно сказал, что у него связаны со мной некоторые планы.
Визит прошел хорошо, хотя обстановка была нелегкой. Сотрудник посольства Миша Медведев, который впоследствии работал в моих секретариатах и в Министерстве иностранных дел и в правительстве, решил прокатить меня по городу. И как раз в это время разгорелись студенческие демонстрации. Возгласы: «Горби!» – и на русском языке: «Дружба!», «Товарищ!», машину со всех сторон обступила толпа. Мы проехали один километр в течение часа – так трудно было пробиться сквозь людскую массу, несомненно доброжелательную, более того, восторженно-дружескую. Узнавая нас, обращались к нам и по-русски. Было удивительно, как многие молодые, уже не те, которые учились или работали у нас, произносили русские слова, изливая свои чувства.
Результаты визитов в Индию и Китай сказались и в том, что мы переставали рассматривать советско-американские отношения изолированно.
Но означало ли это, что мы разыгрываем так называемые китайскую и индийскую «карты»? Я уже писал, что подобное мнение было широко распространено в США. Оно – просто примитивно, так как исходит из незыблемости «американоцентризма» (все прочее «вращается» вокруг США, и только). Такие суждения примитивны вдвойне, так как не учитывают заинтересованности СССР, а затем России в активном развитии отношений с этими быстро растущими азиатскими гигантами, население которых составляет половину всего человечества. Вместе с тем мы не могли и не можем не учитывать, что диверсификация связей, безусловно, укрепляет нашу роль как великой мировой державы, в том числе и в отношениях с США.
Но главным образом советско-американское будущее зависело – и это стало совершенно ясно – от способности или неспособности нового президента Буша или американского истеблишмента в целом отказаться от разговора с нами с «позиции силы». Не открыто, предъявляя ультимативные требования – мы понимали, что опытный Буш, по-видимому, осознает непродуктивность этого, – а наращивая опережающими темпами вооружения.
Две наибольшие опасности в этом плане виделись в следующем: во-первых, даже при договоренностях о сокращении вооружений – в тенденции на «компенсацию» таких их видов, которые выбывают из арсенала (например, модернизация тактических ракет после подписания договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности), и, во-вторых, в упорном нежелании вводить даже в сферу переговоров некоторые из вооружений, создающих асимметрию в пользу США. Такой «священной коровой» для Соединенных Штатов является военно-морской флот. Американские политики утверждали, что это диктуется особым положением «сверхморской» державы, которым якобы обладают исключительно США. Даже не споря с этим аргументом, можно было бы по той же логике утверждать, что СССР, будучи «сверхсухопутной» державой, имеет право на сохранение асимметрии в области сухопутных сил. Как известно, мы на этот путь не встали.
Превратности судьбы
Вслед за поездкой в Нью-Дели меня пригласили выступить перед сотрудниками отдела загранкадров ЦК. После выступления заведующий отделом С. Червоненко проявил ко мне особое внимание: он даже проводил меня до лифта, что было не принято в те времена. Его заместитель, с которым у меня сложились хорошие отношения, позвонил мне в институт и сказал: «Вы на меня не ссылайтесь, но уже в принципе решено – Горбачев это одобрил, – вы едете послом в Индию». Я встревожился не на шутку. Я знал, насколько важен пост посла в этой стране, но дело в том, что уже тогда резко ухудшилось здоровье моей жены, и я понимал, что индийский климат, очевидно, не пойдет ей на пользу. Позвонил А.Н. Яковлеву. Он находился в Завидове.
– Но ты ведь сам говорил, что нужны новые люди в Дели? Ну хорошо, – заключил Яковлев. – Ты позвони обязательно Шеварднадзе, и не откладывай.
Эдуард Амвросиевич в ответ на мои разъяснения причин отказа от «столь заманчивого предложения», как-то сразу потеплев, сказал: «Я не знал, что Лаура Васильевна больна; не волнуйтесь, конечно, не будем настаивать». Так я не стал послом в Индии. А вскоре я был избран кандидатом в члены ЦК КПСС, затем членом ЦК. Так что индийский «трамплин» не понадобился. Но жену потерял – она скончалась в 1987 году, и кто знает, может быть, индийский климат и был бы не столь уж плохим для ее больного сердца?
Потерю жены я переживал очень тяжело. Она была частью моей жизни. Прожили вместе 36 лет. До сих пор ловлю себя на мысли о том, что она принесла в жертву мне, детям свой разносторонний, незаурядный талант. Широко эрудированная, прекрасно разбирающаяся в искусстве, сама блестящий пианист, а по образованию инженер-электрохимик, прямолинейная, никогда не кривящая душой, неспособная соглашаться с ложью или лицемерием, в том числе и в официальной политике, интернационалист по своим убеждениям, но в то же время искренне восхищавшаяся Россией и Грузией, очаровательная женщина – именно такой видели мою жену и я, и все те, кто был рядом со мной и с ней.
Публикация в «Новом мире» солженицынского «Одного дня Ивана Денисовича», а затем «Матренина двора» была огромным событием для всей нашей семьи. Но жена восхищалась ими особенно, по-своему агрессивно, не терпя и не пропуская ни одного критического замечания, которые кое-кем инициировались в то время.
Когда умер Твардовский, то один из моих знакомых, работавших в КГБ, сказал мне, что похороны, несомненно, приобретут политический характер и будут зафиксированы все, кто примет в них участие. Об этом я не рассказал Лауре, зная заранее, что она обязательно пойдет на похороны. И не потому, что была знакома с Твардовским, – нет, но присутствие на проводах в последний путь этого выдающегося человека считала своим долгом. И уверен, что ее ничто не могло остановить. Чувства гражданственности и справедливости были у нее неистребимы, и, что очень важно, она руководствовалась этими чувствами сугубо «для себя», а не демонстрируя их другим, – смотрите, мол, какая я.
Лаура прекрасно писала. У нее был обостренно зоркий взгляд. Она могла достичь определенных высот в творчестве, но посчитала меня главной фигурой в семье. В этом, конечно, заключалось мое счастье, однако, как я понял «с высоты прожитых лет», счастье с эгоистическим оттенком.
Мы любили друг друга, но это не мешало нам нередко спорить до хрипоты. Я всегда знал и ценил ее неспособность приспосабливаться. Домой, например, не мог пригласить людей, которых она внутренне заслуженно не принимала. Я знал, что, поступив иначе, мог бы остаться в какой-то момент беседы с ними без «гостеприимной хозяйки», которой срочно вдруг нужно будет куда-то уйти. Вместе с тем хорошо знал и не раз убеждался в том, что она буквально «глотку перегрызет» тому, кто отзовется обо мне дурно. Здесь Лаура становилась бескомпромиссной, даже с близкими подругами.