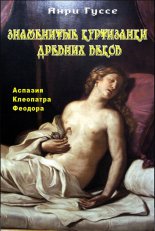Красная Луна Крюкова Елена

И Ефим прижал ладонь ко рту. Вдавил ладонь в зубы, чтобы не закричать.
У парня не было лица.
Вместо лица у него была страшная маска. Раззявленный до ушей рот. Бугристые, рваные, грубые сине-лиловые шрамы вдоль и поперек щек. Сбитый, свороченный чудовищным ударом кулака на сторону, сломанный нос – хрящ вдавился внутрь, в череп, как у сифилитика. Рваные, будто их насильно отрывали от головы, терзали щипцами, резали ножницами, уши – не уши, а кожные лохмотья вместо ушей. Через весь лоб шел страшный белый рубец, будто по голове парню заехали казацкой саблей или маханули острой бандитской финкой. Зубы во рту виднелись – половина была повыбита, черная скалящаяся пасть ужасала.
И только глаза на том, что когда-то было лицом, глядели умно, бешено, ясно.
Он не помнил, когда и как попал в лапы бандитов. Бандиты собирали, сколачивали маленький отряд бесплатных рабов-нищих, уличных попрошаек; при всем кажущемся грязном примитиве этот промысел давал, как ни странно, неплохой доход, – и отловленного пацана, вчерашнего несмышленыша, молокососа, хорошенько, беспощадно измастырили, изуродовали раскаленными щипцами, бритвой, пучком горящей пакли да и просто кулаками, чтобы рожа калеки смогла вызывать жалость и ему больше бы, щедрее подавали. Этот прием был известен века назад – во многих странах, в Англии и во Франции, в Германии и Италии, разбойники нарочно уродовали детей, чтобы уродец мог разжалобить своего созерцателя. Но в средневековой Европе уродцев еще и продавали задорого в богатые дома, уродливые карлики и страшные, как смертный грех, кретины с успехом играли роль шутов, забавляли и потешали почтеннейшую аристократическую публику, а в нынешнее время… Нынче урод был сугубо уличной принадлежностью – так же, как и вонючий бездомный бродяга, как побирушка у хлебного ларька.
Мальчонку звали Чек. Он не знал, прозвище это было или имя; его всегда окликали так, и он привык. Чтобы избавиться от побоев и подневольного труда, он убежал из большого города, имени которого он не знал, далеко на юг, в горы; просто сел в поезд и поехал зайцем, забрался в плацкартном вагоне на третью полку и скрючился, свернулся в клубочек, так и ехал, голодный, не слезая с полки, пока его не обнаружила дотошная проводница: кто это у меня там сопит под потолком?! – и не ссадила, не вытолкала в шею на станции, а станция-то была уже южная, уже за Краснодаром-Главным. Он пробрался в горы – и попал, как кур в ощип, в лапы к боевикам. Он не знал, что на Кавказе шла война; ему пришлось это узнать. Боевики приволокли его, грязного, маленького, упирающегося, нещадно матерящегося, в часть – и хохотали, уставив руки в бока, и надрывали животы: ну и ну!.. вот это картинка!.. вот это чудище, ночью приснится, Ахмед, испугаешься, в штаны наложишь!.. – и тут же поняли, как его можно использовать в войне. Они засылали его разведчиком в федеральные части: «Ты, бей на слезу, пацан, гавари, шыто тибя изрезали на куски эти гады чечнюки!.. гавари, шыто всех тваих перебили, шыто сестру изнасилывали, а ты чудам убижал!.. и вот не знаишь, куда бежать!.. А сам, ты, слышишь, все у них разглядывай, все – запаминай, нам патом расскажышь, ты, понял?!..» Они бросали его под федеральные танки со связками гранат: «А, плевать, умрет малец – туда ему и дорога, подумаешь, цаца какая!.. а нам надо, чтобы эти танки в ущелье не прошли, нам надо их остановить!» – и он швырял гранаты под танк, падал на пузо и отползал прочь, оглушенный взрывом, он выживал – чудом, и он удрал от воюющих чеченцев – тоже чудом.
Он убежал, уродец по имени Чек, и так начался его БЕГ.
Начался его Бег Через Всю Страну.
Так бегут не люди: так летят птицы-подранки и низко, почти распластавшись по земле, бегут голодные битые собаки. Он видел ужас жизни лицом к лицу. Он видел, как на Кавказе воют над трупами убитых детей одетые в черное, коленопреклоненные женщины; он видел в Крыму вырубленные, выкорчеванные тысячелетние виноградники, видел крымских татар с бешеными лицами, бегущих по улицам с плакатами в руках: «Крым – наш!»; он видел, как на Каспии вытаскивают из моря огромных остроносых рыб с колючими костяными боками, похожих на крокодилов, вспарывают им брюхо ножами и вынимают из брюх икру, выгребают руками, трясясь, чтобы никто не увидел, не заловил, бросают черные икряные комки в алюминиевые цистерны, грузят в лодки и увозят, с матюгами заводя мотор, а рыб так и бросают на берегу – гнить. И он подходил и трогал острые рыбьи носы, когда лодки уже скрывались в сизой морской дали и его уже никто не мог увидеть, и отрезал от самой большой рыбины кусок, и разжигал костер, и жарил рыбу, и с нее капал вкусный желтый жир, и он ел рыбу и плакал – ему было ее жалко, такую большую и бесполезно мертвую, и других рыб, валявшихся поодаль. Он видел воров в Ростове-на-Дону, всовывающих ножи под ребро, как браконьеры – той колючей рыбе, молоденькой девчонке из отельного варьете – за то, что она не сняла нынче ночью того, кто ворам был позарез нужен; он видел, как в Курске под электричку пацаны толкнули приятеля, не принесшего на встречу заказанные деньги, и пацана переехало пополам, и еще полминуты рот распяливался в крике, хотя сознание мальчишку уже покинуло; он побывал и на северах с сезонниками, помогал бить оленей в бригаде, ошивался с геологами, закинулся неведомым ветром в славный бандитский городок Питер – ух, и весело же погулял он там! В странствиях Чек взрослел, учился быть сильным, злым, гордым. На севере, в Воркуте, один старый зэк, с жалостью и пониманием глядя на его изуродованное лицо, тихо сказал ему: «Помни, малец, в жизни есть условие: никого не бойся, никому не верь и ни о чем не проси. Соблюдай это условие, и ты будешь жить. А нет – будешь существовать. „Петухом“ будешь. А потом и убьют тебя, пришьют как миленького». – «Меня и так пришьют! – оскалился Чек. – Странно, что до сих пор не пришили!» Так – озлобленный, повзрослевший, заимевший не опыт жить, но опыт ненавидеть, он закатился, наконец, туда, откуда выкатился когда-то – в Москву. Ощерившийся уродливый щенок, затаивший глубоко внутри себя ненависть к миру, родившему его на свет и изуродовавшему его, он растил в себе эту ненависть, лелеял ее, холил – и, нарвавшись на ребят-скинхедов, избивавших однажды в метро лощеного раскосого, богато одетого, желтолицего господина – кейс богатого азиата валялся далеко, у эскалаторов, чемоданчик пнула нога в огромном черном ботинке, – примкнул к ним.
Он примкнул к скинам, как примыкает к ним каждый отверженный.
Каждый, кто был сильно бит – и выжил.
Каждый, у кого был отнят кров, семья, очаг, стол и собственная постель – и кто поднялся над своим бездомьем и одиночеством, скрипнув зубами.
Каждый, кто копил в себе ненависть и горечь, не зная, на кого ее вылить, и кто обнаружил: ого, враг-то есть, оказывается! Вот он!
Вчера скины с Моховой мочили вусмерть рэпперов из Марьиной Рощи. Побоище удалось на славу. Скины отомстили рэпперам за то, что они подражают проклятым ниггерам и носят широкие негритянские штаны, и поют вшивые ниггерские песенки, и танцуют на площадных коврах и старых одеялах, разложенных прямо на улице, свои поганые ниггерские танцы. Так отомстили, что – любо-дорого! Рэпперы еле ноги унесли. А самого главного, Грина, они хорошо мочканули. Как клопа. Грин, мать его, самый главный расп… дяй у этих г…едов и есть. Он-то скинам в лапы и попался. И они его отделали. Отделали будь здоров. По первому разряду. Мамашка у любимого сыночка костей не соберет. Башку двумя камнями придавили. Били классно, били везде. Во все места. Детишек теперь у суки не будет. И сам он – будет ли, нет ли, еще бабушка надвое сказала. Башку так измолотили – хоть сейчас в фильм ужасов. Да у нас сейчас все сплошной фильм ужасов! Выходи на улицу с камерой и снимай! Не хуже, чем у американов, получится!
Отдубасили реппэров – пора и отдохнуть. Нажраться и подраться? Нет, сначала подраться, потом – нажраться! Слова в слогане меняются местами! Эй, ребята, все бритые?! Волосики не подросли?! Никого машинкой обчекрыжить не надо?! А водочки дашь, братишка, опосля стрижки?! Дам, дам, конечно, как истинному арийцу – истинный ариец!
Вперед, вперед. Где соберемся? Соберемся сначала у Зайца, потом все, кучей, двинем в Бункер.
А кто сегодня в Бункере?
Не кто, а что. Сегодня в Бункере – сборище века! Таракан приезжает, твою мать!
Сам Таракан?! Во классняра! И что лабать будет со товарищи?!
Ну что, что! Ты сам не знаешь разве, что может выдать на-гора «Реванш»! Всю классику! «Арии спустились с Белых гор», «Белая кожа, черная кожа», «Бритоголовые идут», «Аркаим»… ну, как всегда, конечно, «Убей его, убей»… ну и там, наверное, новяк какой-нибудь, не знаю…
А «Дон’т стоп, хулиганс» – будет петь?!..
А пес его знает, Таракана, что ты, Зигфрид, у меня спрашиваешь, я что, автоответчик кинотеатра «Россия»?!..
Таракан был знаменитейшим рок-музыкантом, популярным у бритоголовых. «Реванш» – знаменитейшей рок-группой со скандальной, нечистой славой: немало побил Таракан тарелок и фужеров на именитых сейшнах, немало салатов, приправленных майонезом, вывалил на белые пиджаки спонсоров престижных рок-концертов, немало девиц перещупал и перетоптал даже не в гостиничных номерах – прямо за кулисами, на коробках и ящиках из-под аппаратуры. Таракан был славен не только скандалами. Его рок-музыканты, наголо обритые, в противовес ему, обросшему, мохнатому, с неряшливо спутанной жидкой бороденкой, не только откалывали на сцене хулиганские номера, орали и выкрикивали нацистские лозунги и во всеуслышание матерились в микрофон – дешевым эпатажем искушенную публику было уже не удивить, – но и выдавали, время от времени, на удивление знатоков, такие отпадные хиты, что и не снились ни «Джей-3», ни «Герцеговине флор», ни «Фигляру», ни «Истинным арийцам». Это была музыка! Можно было улететь, как от хорошего косячка, слушая ее. Таракан приобретал вес. Его песни гремели по России. Пару раз он выехал на Запад, в Германию и Англию, и даже записал там пару альбомов, но больше на Запад не ездил – не хотел: «Снобы там все, ребятишки, кого ни копни – снобы!» Германия, страна классического нацизма, привлекла его лишь потому, что он хотел попьянствовать в мюнхенском кабачке, где начался знаменитый мюнхенский путч Гитлера. Да, вот такая блажь, только и всего. «С группы „Реванш“ начнется наш реванш», – пошутил однажды их Фюрер.
О, их Фюрер был классный парень.
Их Фюрером можно было клясться, божиться, материться и лечить рваные раны. Их Фюрер знал дело туго. Будущее было в руках их Фюрера – в этом они все не сомневались.
Никто из них не сомневался.
Ну да, вчера была отличная бойня, не такая, конечно, масштабная, как задумывалось, но все равно отличная; и от ментов они ускользнули, вовремя ушли; и приезжал из Питера Таракан со своими бритыми; и давненько они не слушали такой музыки; и в Бункере, о, в Бункере всегда была какая-нибудь – не какая-нибудь, что он брешет, а отличная! – хавка, это уж Фюрер всегда расстарается, на концерт знаменитости спонсоров нароет, изысканной хавкой столы завалит, ешь не хочу, икрой мажь морду, раками бросайся, как камнями! Торт на голову ставь и так, с тортом, иди плясать, все равно он когда-нибудь упадет и всего тебя кремом обмажет! Вот веселья-то будет!
Да, бойню надо отмечать, это славно придумано. Да, он пойдет сегодня в Бункер.
И он пошел нынче в Бункер, и ногой распахнул дверь подъезда, и постучал, как между ними, скинами, было условлено, в массивную железную дверь; и ему открыли; и тут же, сразу же, около входа, он увидел сидящую на вертящемся офисном стуле девушку в белом. Ее странные, чуть раскосые глаза смотрели странно – куда-то вдаль. Будто бы она презирала всех, кто путается у нее, царственно сидящей, под ногами.
Чек сплюнул. У, какая царица! Цаца, а не царица. Платье зачем-то белое, до пят. Старорежимное платье. Таких телки сейчас не носят. Особенно – их телки, бритые. Они носят такую одежду, чтобы удобно было рассматривать наколки, многочисленные tattoo и рисунки на теле. Сейчас на теле модно рисовать все что угодно. А эта сидит – ни рисуночка, ни татуировочки, и волосы черной волной вдоль лица висят. Как спущенный черный флаг.
Ишь, а что это такое чернявая телка держит в руках?! Бляха-муха, да у нее же на коленях корзина, а в ней – что в ней?.. Чек наклонился. Свечи! Провалиться на месте, свечи! И еще – странные глиняные пузырьки, и она так осторожно их протягивает входящим, и они, немало удивленные, берут у нее эти глиняные свистульки из рук. Чек присмотрелся. Высокий скинхед с уже отрстающей на башке темной щетиной взял из рук девушки такую свистульку, поднес зажигалку. Светлое пламя язычком взвилось, задрожало на сквозняке. Светильники! Эта телка раздавала вновь приходящим в Бункер светильники!
Ну да, и свечи – тоже… Вон, все со свечами в руках стоят, свечи горят… что, в Бункере сегодня света нет?!.. или это Фюрер прикол такой придумал, новый?!.. Какой прикол, дурак, может, просто света нет…
– Эй, – негромко сказал Чек и слегка двинул девицу кулаком в плечо. – Дай твою игрушку.
Она медленно повернулась к нему, протянула ему – в обеих руках – и свечу, и глиняный светильник. Ее лицо не дрогнуло. Она по-прежнему смотрела вдаль, поверх него, сквозь него. Уоыбнулась. Он взял из ее рук глиняный светильник, похожий на птичку, на жаворонка. Сказал:
– А зажигаешь тоже ты? Обряд такой? Или мне можно зажечь?
Она не ответила. Смотрела вдаль, мимо.
И он понял, что она слепа.
Зажег светильник, нашарив спички в кармане. Отошел от слепой, раздававшей свет. Вошел в зал. Там уже буквой «П», каре, стояли роскошно накрытые столы, и во тьме сияли и вспыхивали огни, освещая бритые головы скинхедов, светлые модные, от Фенди и от Зайцева, пиджаки и смокинги спонсоров и именитых приглашенных, металлические бляхи и цепи на кожаных «косухах», блестевшие в ноздрях и в проколотых губах пирсинги. Тьма, как это красиво. Мрак. И во мраке – огонь. Мощный огонь древних ариев.
Дверь в зал слегка приотворилась, и Чек снова увидел сидящую у двери девушку с корзиной на коленях. Из-под подола белого, будто невестиного, платья высовывались аккуратные белые туфельки. Он потихоньку сплюнул. Невеста! Божья невеста, что ли?.. Невеста Фюрера?.. Чек знал – Фюрер относился к женщинам никак. Что есть они, что нет. Никто и никогда ни разу не видел его с женщиной. Его интимная жизнь не была предметом обсуждения у скинов и у ребят постарше, уже не бивших каблуком в морды в метро и на рынках, а занимавшихся разработкой новой идеологии и поисками денег для покупки… чего? Оружия? Чек предпочитал не думать о войне в открытую – он уже навоевался, настрелялся, навидался смертей. Пусть Фюрер делает что хочет. На то он и Фюрер.
«Вот они-и-и-и!» – заорали скинхеды, воздевая над головами кулаки, приветствуя изо всей силы – вопя, брызгая слюной, топая ногами, оглушительно свистя – ултраправую рок-группу «Реванш» с Тараканом во главе. На небольшую сцену зала в Бункере выкатились налысо бритые ребята, присели с гитарами в руках – и завыли, заорали, надсадно завопили, скандируя текст всеми скинами обожаемого хита: «Убей его, убей! Убей средь бела дня! Убей его скорей! А то убьют тебя!»
- – Ты желтых и цветных,
- Ты черных и жидей
- Бей в морду и под дых!
- Убей его, убей! —
восторженно завопила, подпевая, толпа. Зал бушевал. Со столов уже хватали, не чинясь, не ожидая особого приглашения, яства и бутылки. Пробки летели в стороны, в лица и в потолок. Шампанское пенилось, выливалось на пол и на стол в неумелых мальчишеских руках. Иронично глядели, косились спонсоры. Или это были не спонсоры? Чек многих видел впервые. Вместе со всеми он вскидывал руки, бесился, выкрикивал: «Убей его, убей!» И все косился на дверь. Где эта девушка? Неужели ее не пригласят к столу?
Таракан уже нажрался водки и выкидывал коленца. Влез на стол, топтал ногами салаты и мясные закуски, схватил непочатую бутылку, раскрутил в руке – и швырнул, как гранату, об стену: «Вот вам, вы, черные гады, съевшие нас! Так мы замочим каждого, кто…» Длинный, продолжительный вой был ему ответом. Ребята из «Реванша» снова кувыркались на сцене. Теперь они пели нечто новое. Чек, накачавшись водкой и объевшись горячим – притащили антрекоты и куриные котлеты с косточкой, по-киевски, – с трудом разбирал слова. Он понял только: «…начнем сначала! Начнем, Россия-мать! Тебя все убивали – мы будем убивать!..» Пьяные скины, обнявшись за плечи, качались из стороны в сторону и горланили уже кто во что горазд. Таракан развалился на столе. Его взасос целовала бритоголовая девица с искусной татуировкой на спине. Татуировка изображала свернувшуюся клубком огромную змею, по виду – анаконду. Спираль времени, да. Жирненькая спина девицы подрагивала, как холодец. Чек снова покосился на дверь. Слепая девушка в белом платье стояла в двери, взявшись за косяк. Она печально, мучительно прислушивалась к тому, что происходило в зале. Ее ноздри раздувались, она ловила запахи еды. «Черт, ведь она хочет есть, – догадался Чек, – посадили телку раздавать свечи, а покормить-то и забыли». Он сгреб со стола в чью-то тарелку остатки салата, две тарталетки с паштетом и икрой, кинул два мандарина, пару яблок и двинул к ней со всем этим угощением. Она уже снова сидела на вертящемся черном стуле. Он сел перед ней на корточки. Положил ей на колени тарелку. Корзина со свечами стояла у ее ног, на полу.
– Жрачку тебе принес, – сказал Чек, не зная, что еще сказать, взял из тарелки яблоко и сунул ей в руку. – Вот, яблоко, возьми! Пощупай…
Девушка осторожно обняла пальцами круглое красное яблоко. Поморщилась.
– Холодное, – тихо сказала.
– Ешь, грызи! Ты же тут обалдеешь с голодухи, пока они все там надрываться будут…
– Спасибо.
Она поднесла яблоко ко рту. Не надкусила. Вдыхала запах.
– А… какого оно цвета?..
Чек растерялся. Яблоко было густо-красное, темное-алое, его блестящие бока глянцево лоснились.
– Оно?.. – Он вздохнул, пожал плечами. Сидеть на корточках становилось все невыносимее, ноги затекли, и он сел на пол, раскорячив ноги, обняв ногами щиколотки слепой. – Красное такое. Как кровь. Ты знаешь, что такое кровь?
Слепая улыбнулась. Он ни у кого никогда не видел такой улыбки.
– Знаю, – тихо прошептала она.
– Откуда знаешь? Ты ж ни хрена не видишь.
– Знаю. Я любила красную краску. Краплак, кадмий красный… сурик. Я до сих пор вижу свои картины… когда засыпаю. И палитру, – сказала она, по-прежнему мертво глядя перед собой слепыми глазами.
Картины. Да, такие вот картины.
Цветные. Яркие. Невыносимые.
Детство в горах, в Южной Сибири, на монгольской границе. Отец – пограничник. Мать – улан-удэнская шлюха. Отец принял ламство, стал ламой в Иволгинском буддийском дацане. С матерью разошлись. У матери – полные карманы денег; она везет ее в Москву – к знаменитому режиссеру Михайлову: чтобы девочка снялась у него в фильме, – нанимает учителя-художника: девочка отлично рисует, надо научиться хорошо рисовать. Об убийстве Михайлова наслышана вся страна. Его убили из винтовки с оптическим прицелом, когда он, с цыганами, отмечал премьеру нового фильма. Ее, юную любовницу старого режиссера, выгоняют с дачи, где они жили оба: она – никто, они не зарегистрированы. Она становится бордельной девкой в знаменитом подпольном московском борделе госпожи Фэнь. Человека, которого она любила, убила ее мать.
Мать сажают в тюрьму. Она одна. От потрясений – внезапно наступившая слепота. Плача в одиночестве, кричит: есть ли ты, Бог?! Соседка, сердобольно помогающая ей, уговорила ее принять святое крещение. Она крестилась, поменяв имя, в Новодевичьем монастыре. Ее крестил отец Амвросий, в миру Николай Глазов, опальный иеромонах. За отцом Амвросием установлена слежка – уж слишком еретичен, слишком любит то, чего любить православному священнику никак нельзя. И верно следили. Да не уследили. Заманил к себе домой отец Амвросий двух мальчишек, подловив их в метро, да и изнасиловал по-содомски, страшно. Его нашли, судили – обоим мальчикам удалось убежать и показать на него. Она все время, пока Амвросий был в тюрьме, жила в его квартире, научилась передвигаться без посторонней помощи, даже выходила одна, без провожатых, за хлебом и молоком, нащупывая дорогу узенькой палочкой. Отец Амвросий вернулся из тюрьмы без бороды и усов, бритый, наглый, злой и веселый. Он сказал ей: «Ждала? Ты моя подстилка. Ты моя тряпка, и об тебя я буду вытирать ноги. Истинные христиане всегда были мученики». И засмеялся – остро, зло, оборвал смех.
Амвросий стал читать проповеди. Его проповеди Нового Великого Времени, Нового Русского Порядка, сопротивления антихристу собирали кое-какой народец на площадях и в парках. Его хватали прямо с проповедей и увозили в «обезьянник» еще пару раз, отпускали – не было состава преступления. Он допоздна, иной раз до утра, писал что-то в больших толстых тетрадях – и опубликовал потом свои каракули в одном падком на сладости скандала издательстве под названием «Житие священника в тюрьме». Она не видела, как он пишет; слышала, как шуршала ручка по бумаге. «Если бы не была слепая – перепечатала бы мне все!» Она помнит этот крик.
Не так прост был отец Амвросий. Он не растерял церковные нити, хватал их за болтающиеся в воздухе концы. Так, по ниточкам, по веревочным лестницам, он долез до верхушек Русской Православной Церкви, упросил, чтобы пересмотрели его осуждение и отлучение, где-то добыл темных денег, кого-то подкупил – и ему вернули приход, правда, не в Новодевичьем монастыре, а затолкали в сельскую церковь, далеко под Москвой, в сторону Нижнего Новгорода, на север от Петушков. Он и ее с собой взял туда: «Ну что, поиграешь в попадью?!» Она молчала.
Она все время молчала.
Почти все время.
Одна из ее самых любимых ненаписанных картин так и называлась – «Молчание».
Она молчала и тогда, когда он объявил ей: «Едем в Святую Землю, собирайся, сложи в мешок все свои трусики наощупь». Мартовское Шереметьево, вьюга в лицо. Ей казалось – она видела самолет, так грозно, объемно он гудел. Отец Амвросий крепко держал ее под локоть. «Улыбайся, – шипел он ей в ухо, – улыбайся шире, на нас все смотрят». Она вспомнила себя и Михайлова на премьере фильма, где ее отсняли в главной роли. Как широко – как акула всей пастью – она тогда улыбалась!
Ее поразила жара. Жара обрушилась сверху. Ливень жары. Амвросий сам надел ей на ноги легкие античные босоножки. Храм Гроба Господня дохнул темнотой и прохладой. Они отстояли здесь вечернюю службу. Наступила ночь. «А почему мы не уходим отсюда?» – спросила она, жалобно обернув к нему слепое лицо. «Дура, это же Пасхальная ночь».
Ну да, они же были паломники, они ради этой Пасхальной ночи и приехали сюда, всю жизнь скитались – и пришли! Толпа волновалась. Тишина была чревата взрывом. Люди жались друг к другу, бормотали невнятицу. Умолкали. Она ничего не видела, только слышала разноязыкий говор. Амвросий стоял рядом, она чувствовала его. Он весь был как натянутая струна. Или тетива. Духота сгущалась. Она задыхалась. Тьма обнимала ее. Вечная тьма. По щекам текли, медленно сползали слезы. Слышался шепот: «Скоро, скоро… сейчас, сейчас!..» Чего все ждут, скорбно спросила она. Чего мы ждем? И Амвросий ответил сердито и презрительно: «Чуда. Все ждут чуда. И чудо свершится».
И, когда из всех грудей вырвался вопль восторга, она испугалась – так же, как тогда, когда на Москва-реке, в цыганской лодке, подстрелили Михайлова и из всех глоток вырвался вопль ужаса.
«Свет, свет! – кричали все в толпе. – Вот оно, чудо Господне!» Она слышала треск, будто от горящего хвороста. Она чувствовала жар, движение теплого воздуха, запах ладана, запах смолы. Она почувствовала, как застывший в напряжении, ледяной Амвросий становится мягким и живым, смеется, оборачивает к ней лицо: «Господень свет! Он зажег нам его!» Она стояла как истукан. О каком свете они говорят? Пасхальный свет, голубой свет… Он сам зажигается, сам… Нет, нет, Бог зажигает…
Они все видели его. Православные видели. Турки видели. Иудеи видели. Католики видели. Узкоглазые и желтолицые китайцы видели. Все видели горний свет Господень, каждую Пасхальную ночь возгорающийся в храме Гроба Господня – синие потоки, голубой огонь, слепящие шарики холодного пламени, что можно брать руками, погружать в него лицо, целовать его, как целуют губы, – она одна не видела свет.
Ночами в отеле, в тесном и душном номере, распахнув настежь окно, Амвросий читал ей из маленькой книжки. Она слушала, потом засыпала, он продолжал бормотать, читая. Сквозь сон она слышала: синий священный сапфир, синий цвет, последний цвет надежды, крест, крест осеняет мир, крест – высшая награда за муку… Она слышала, как Амвросий быстро, невнятно бормочет, уже не из книжки, уже – сам по себе: под крестом объединятся Восток и Запад, если они не хотят умереть, конечно… все народы, кто примет веру Белой Расы… Белая Раса – священна… все остальные – ее слуги… восставшие против Белой Расы да погибнут…
Она спала, как лошадь, с открытыми глазами, и в ее прозрачных черных глазах стояли слезы.
Свет, голубой свет.
Голубой свет свечи.
Чек видел раскосую девушку со светом в руке. Она его – не видела.
До крещения ее звали – Дарима.
При крещении ей дали имя – Дарья.
Белый песок. Черно-синяя вода.
Мертвое море.
Песок обжигает голый живот. Мужчина подползает по песку ближе к ней, запускает руку, всю облепленную песком, ей между ног. Они оба голые. Они оба стонут, вбирая, всасывая губы друг друга; потом – внезапно – отталкивают друг друга от себя, словно обжегшись о загорелую потную кожу. Он видит, как она загорела. Она – не видит, как загорел он.
Она трогает губами пальцы, будто заклиная себя: молчи. Он видит, как она грациозно садится на песке, забирая распустившиеся волосы в пучок на затылке, и ее обнаженная красная живая раковина внизу живота слегка приоткрывается. Он не сводит с красной раковины глаз. Она чувствует его взгляд, сдвигает ноги. Белый песок ослепительно сверкает на солнце, как белый снег там, у них, на их родине, далеко отсюда.
«Ты знаешь, дура моя, что твои монголы обожествляли знак „суувастик“? Свастика – тоже крест. Все на свете под крестом. Видишь, – он подполз к ней снова, – я ложусь на тебя крест-накрест». Он внезапно встал и ринулся на нее, как ястреб. Повалил ее на песок. Лег на нее, вонзил себя в нее, покорно поддавшуюся, раздвинувшую ноги молча, как служанка – господину: бери. Потом, подождав, пока биение крови не уймется немного, повернулся на ней – так, что их тела, если поглядеть на них сверху, образовали живой крест.
Так лежал на ней, прижимая ее животом к песку. Она молчала. Не двигалась. Не шевелилась. Он зло повернулся на ней так, что его ноги воткнулись в песок около ее плеч, подхватил ее руками под ягодицы, задвигался в ней бурно и мощно. Когда последние судороги утихли, он внезапно взял руками ее ступню, повернул к себе, поцеловал ее пятку. Она молчала.
«Как мы сюда попали?» Он, лежа на песке, распластавшись, как мертвая рыба, отдыхая и забывшись, вздрогнул от звука ее голоса. «Как? За деньги. Я купил билеты, и мы полетели». Она опять помолчала. Молчала долго. Береговой ветер взвивал песчинки, сыпал ей в волосы. Черное на белом. Черные косы – на белом песке. Жаль, что она не видит своей красоты. Зачем женщине зеркало? Оно смущает и развращает ее. Зеркало – наваждение дьявола. Мужчина – вот зеркало женщины.
«Я понимаю, что за деньги. За твои?» Черная птица кружила над ними в вышине, страшно высоко, выглядела отсюда, с земли, как буква «Т». Тау, распятие. Римляне делали распятие в виде буквы тау. «Много будешь знать – еще и оглохнешь». Он никогда не лез за словом в карман.
Черно-синяя вода не колыхалась. Полный штиль. И песок во рту, песок на зубах.
Где они, что с ними?
Белое жаркое небо падает, падает на них. Ястреб кружит над ними. То, что они оказались в жизни вместе, это не любовь. Видит Бог, не любовь.
Бог видит все? Скажи, Бог, Ты все видишь или нет?
Дарья не знала, зачем Амвросий поехал в Израиль. Она никогда не докучала ему расспросами. Надо будет – сам расскажет. Он не рассказывал. Однажды вечером, грызя финики, пробормотал: ты знаешь, что здесь, в Иерусалиме, строят Храм Второго Пришествия? Мощный собор возводят, может, и правда Страшный Суд скоро?
– Эгей, Витас, кисточку мне вон ту… что у тебя в руках… ну да, эту… на секунду брось!
– Брошу, да не попаду! Или попаду тебе в башку, медведь!..
– Кидай, не ошибешься!
Под куполом храма Христа Спасителя висели в люльках, раскачивались художники. Просили друг у друга то кисточку, то банку с краской. Шутили. Ругались. Молчали, сцепив зубы. Дышали тяжело. Работали. Пот с них тек градом.
Тяжело это – корячиться в тесной деревянной люльке, прицепленной к металлическим лесам, высоко под потолком, черт знает где, свалишься – костей не соберешь. Тяжко быть художником-монументалистом. Реставратором церквей – не легче. Заработок хороший, господа! Настоятель им златые горы пообещал, если договор не нарушит! И молоко за вредность пусть наливает – не ровен час, сорвешься с высоты…
– Что там молоко – водки пусть сразу наливает, водки!..
– Мы с тобой, дружище, водочки сегодня ой как тяпнем, ой как вмажем… после трудов праведных… Слушай, а тебе не кажется, ты, косорылый, что ты вон там, справа, не туда руку у этого, у пророка Моисея, к чертям загвоздил?! Ну не туда у тебя рука пошла! Это не ракурс, а… сказал бы я! Мне-то отсюда лучше видно, чем тебе! Откатись в люльке – и глянь! Н что, я не прав?!
Тот, кого невежливо поименовали «косорылым», скрючился в деревянной люльке лицом кверху; большие ноги художника нелепо торчали в стороны, ремни, на которых он висел, натянулись – мужчина был высок и массивен, ему нужна была не люлька, а платформа, чтобы писать фреску. Он огрызнулся на говорившего:
– Что треплешься! Работай лучше над своим фрагментом! В мой – не лезь!
Отер потный лоб ладонью. Зажал в руке палитру и кисти. Под скрюченными ногами, на дне лодки-люльки, лежали банки с красками и ворох тюбиков. Беспокойный этот Илюшка, то ему кисточку, то красочку подай, то еще руку не ту у Моисея углядел – вот банный лист! Приклеился, и все!
Хмурясь, он все-таки отъехал в подвижной люльке от фрески и оглядел ее со стороны, придирчиво, прислонив ладонь ко лбу. Н-да, не Микеланджело. А что? Лучше? Нет, я не Байрон, я другой. Он мазнул кистью по палитре, потом по стене. Рука Моисея, ее мучительно вывернутое запястье окрасились красным цветом. Заходящее солнце там, на фреске, все красило в красный цвет. А недурно намазюкано, право слово. Витас Сафонов сделал это. Мастер Нестор сделал это. И зашвырнул кисть – или там топор – или молот – или палитру – в реку, в озеро, в море, в космос. Чтобы никто более не сделал так.
Если бы он жил во времена Иоанна Грозного – ему бы наверняка выкололи глаза на Красной площади. Руки по локоть обрубили на Лобном месте. Это уж как пить дать.
Нет, кроме шуток, отличная подработка. Если они сделают фреску вовремя – у него будет возможность капитально отдохнуть и полететь наконец-то в Рим, к своей девочке. К своей последней девочке, Зине Серафимович. Зина, Зинуля, первое место на конкурсе красоты «Мисс Россия», приглашение работать с лучшими модельерами Европы, сниматься в фильмах. Зина – топ-модель, браво, у него в жизни еще не было топ-моделей. Ой ли? Врешь ты сам себе, Витас Сафонов, врешь, суслик. Были у тебя и топ-модели. И фотомодели. И модельерши. И натурщицы. И простые шлюшки с бульваров. И модные барыни в норковых шубах, жены крутых бизнесменов. И девчонки с вокзалов. И знаменитые актрисы, что, раздевшись, стонали, бесстыдно раскидывались перед ним в постели: «Возьми меня! Возьми меня необычно! Чтобы я запомнила!.. Ах!.. Чтобы я запомнила ночь с Витасом!..»
Знаменитый Витас Сафонов, живописная звезда, хватит пялиться на фреску, в глазах зарябит. Трудоголик Илюшка может висеть в люльке хоть ночь напролет. Это его дело.
Домой?!
Уж лучше висеть здесь, под куполом, с занудой Илюшкой, чем – домой.
Давай работай, работай, Витас, здесь мазок, там другой… Работай…
Домой – не надо… Не надо – домой…
Домой ему все равно пришлось когда-нибудь идти.
Он слез с лесов. Вымыл руки. Переоделся. Илюшка еще висел в высоте, пьяный от работы, запаха разбавителя и вдохновения. Витас накинул макинтош, проверил, на месте ли деньги в кармане, и вышел в ночь и снег.
Машина стояла, ждала у храма. Его лошадка. Черная лошадка. Черный гладкий, блестящий «мерс». Он сел, стронулся с места, вырулил на Волхонку.
Крутя руль, глядя прямо перед собой, он не помнил, не видел, не слышал ничего. Он с трудом останавливал машину на красный свет. Он не помнил, как доехал. Спасала только работа. Когда он переставал работать, ЭТО снова наваливалось на него и погребало его под собой. У него перед глазами все время стояло ЭТО.
Дом. Ночь. Холодильник. Водка. Ветчина. Еще рюмка. Еще. Не помогает. Спасает только фреска. Ну не малевать же все время. Деньги? Ни к чему. У него их и так много. Нужно иное зелье. Не водка. Хотя и водка хороша. Еще. Еще.
Он не пьянел. Это был плохой признак. Колеса! Нужны колеса. Он схватил пачку таблеток, высыпал себе на ладонь то, что осталось. Негусто. Но этого хватит, чтобы утонуть в забвении. Крепок он, силен, ничто его не берет, и, что самое страшное, он ко всему этому привык, к зелью, к колесам, к куреву, к табаку и травкам, хорошо еще, на иглу не подсел, но скоро, о, скоро подсядет. Он слишком близок к игле. Все слишком страшно. Спасенья нет. Боже, пошли мне спасенье! Дьявол, сатана, Люцифер, Вельзевул, пошли мне спасенье! Кто угодно, пошли мне спасенье!
Слишком мучительно. Слишком близко.
ЭТО было слишком близко. ЭТО было рядом.
Наконец его сдавили, сломали корчи неимоверной тошноты. Он согнулся, дернулся, и его вырвало прямо на свеженатянутый, загрунтованный для работы холст, стоявший на одном из мольбертов. У него была великолепная мастерская на Воробьевых горах, но он и дома работал, благо квартира была необъятная, в его хате в новом доме-«свечке» на Большой Никитской можно было заблудиться с непривычки: шутка ли, тринадцать комнат! Почему тринадцать, спрашивали его друзья-приятели, что за чертова дюжина?.. шутишь, старик, а?.. «Потому что я Тринадцатый апостол», – мило улыбаясь, отвечал он, и все сразу замолкали, глядя на его остановившуюся, будто вросшую в лицо, страшную улыбку.
Черт, все колеса к лешему вытошнило. Все начинай сначала. Он замер перед зеркалом. Он был слишком хорош собою, художник Сафонов: густые русые волосы до плеч, как у всех гениев, густая рыже-русая борода – литовский князь, да и только, короны золотой на лбу не хватает, – широко стоящие большие серые глаза, тщательно подстриженные усы над чувственным, красиво вылепленным ртом. Девки и бабы от него просто дохли, валились к его ногам штабелями. Как это все ему надоело, Господи. С мокрой бороды капали капли воды – он подставлял голову в ванной под холодную струю. Господи, отпусти. Господи, ну не мучь Ты его больше!
Он рухнул на кровать. Смял в кулаке розовое атласное одеяло. Корчи снова скрутили его. Дьявол! Ну чистый синдром абстиненции. Но он же не наркоман! Он же не наркоман, чтобы испытывать такую чертову ломку! Или он – уже – абсолютно готовый – наркоман своего вечного ужаса? И он готов прокручивать ТУ страшную пленку в голове еще раз, сто раз, тысячу раз, чтобы вновь и вновь испытывать ужас – и, как древний герой, бороться с ним?!
Ты не герой. О Витас, ты не герой. Ты слюнтяй. Ты хорошо зарабатывающий салонной живописью слюнтяй. И тебя все равно найдут. Найдут и убьют. Уж в этом-то будь уверен.
Пот лил с него градом. На время ужас отодвигали нехорошие забавы. По всей Москве ходили слухи: Витас Сафонов – сексуальный извращенец, педофил, эротоман, нимфоман, любитель крутой групповухи и Бог знает чего такого, чему нет имени в человеческом словаре. Да! Да, все это правда. Да, он перепробовал и то, и другое, и третье. Чего он только не перепробовал – и с бабами, и с мужиками. Все приелось. Чтобы отодвигать возвращающийся ужас, он писал на огромных холстах чудовищных, голых баб, сходя с ума, страшно скалясь, смеясь, рисуя беднягам по восемь грудей, громадные, вывернутые на зрителя красные вагины, раздвигая им нарисованные ноги, как ножницы, до отказа, проводя длинные темно-багровые извилистые линии – не жалей, скупердяй, кадмия красного! – по торчащим грудям, по белым сугробам животов, по впалым щекам. Кровь, это по холстам, по голым женским телам текла масляная кровь, а он чертил кисточкой извилистую жуткую линию, закидывал голову, хохотал истерически, падал перед холстом на колени, протягивал к изуродованной натуре руки: гляди, я гений! Я изобразил твою сущность! Твою суть, женщина! Ты – такая! Тебя только рядили все века глупцы мужчины в рюши и кружева! Сюсюкали над тобой! А ты – такая! И только такая! Дьявол – ведь это баба, как никто раньше не догадался!..
Его друг Валера Праводелов, у которого была мастерская на Старом Арбате, говорил ему, когда Витас пытался пожаловаться ему на жизнь: «Что хнычешь, дружище? Наши грехи – в нас самих! Хочешь избавиться от них – да, возьми кисть и нарисуй их! Но это полдела. Ты должен не просто отринуть их, а изобразить их так сильно, так ясно показать людям, чтобы люди испугались и сказали: да, это грех! Мы никогда так не сделаем, ибо это страшно! Ты готов к такой живописи?.. Нет?.. Тогда, парень, малюй свои ню. Крась „нюшек“! Зарабатывай! Продавайся в модных галереях! Ты же до сих пор это делал с успехом…» Праводелов стоял у мольберта в черной рясе, и Витас сначала не понял ничего. А потом узнал: Валерий рукоположился, принял сан. Праводелов – завтра уже святой… а он?..
Где святость? Где грех? Зачем – жить? Чтобы продать завтра за тридцать тысяч долларов изящную сексуальную картинку в галерее «Ars eterna», изображающую, как смуглый юноша обнимает белокожую девушку, а золотые волосы девушки взвиваются за ее спиной, клубятся, летят, обнимая весь холст? Юноша с эрегированным членом, девушка, еще сжимающая кокетливые ноги, но уже готовая их расставить, чтобы принять мужскую плоть. Масса лессировок, множество изящных живописных приемчиков, уже испытанных, нравится публике – верняк. Он всегда попадал в «яблочко» потребы. Он сам себе был классный менеджер и маркетолог. Такое – купят, с руками оторвут! И обязательно золотом, легкой позолотой по взвихренным волосам пройтись. И назвать работу – как можно красивее: например, «Рождение ветра». Или: «Начало страсти». Господи, как же он умел всегда делать красивые вещи! Как он нравился! Как он бешено покупался! Это ли не счастье художника? А ты опять спрашиваешь себя, ты, идиот, – зачем жить!
ЗАЧЕМ ЖИТЬ, ЕСЛИ ТОТ УЖАС ВСЕГДА ПЕРЕД НИМ.
Он рванулся прочь от зеркала. Чуть не врезался лбом в косяк. Ну что, прибегнем к испытанному средству – коньячку?! Есть, есть у него отличный коньячок в баре, прямо скажем, отменный. Привезенный из самого что ни на есть французского града под названием Коньяк. Эх, пописал он там этюдики… оттянулся. Завалился туда после выставки в галерее Друо, где – везуну Витасу удача не изменила! – продал все, привезенное из Москвы, до последнего холста. Галерист был доволен, аж замаслился. «Хочу показать вас в Америке, в лучших американских галереях, в музее Гуггенхейма!» А он, напившись с друзьями-художниками, эмигрантами и французятами, в отеле «Савой» до положения риз, отоспавшись, ломанулся в провинцию. Французская провинция, это вам, батеньки, не хухры-мухры! Солнце, какое солнце… Юг… Гроздья винограда сорта «Русанна» свешиваются через разрушенные античные каменные ограды… На рынках вино наливают из бочек, отворачивают краники… Свинью жарят на вертеле – прямо у дороги… И эти лошади, лошади, лошади, изумительные камаргские лошади, бешеные, грациозные, как женщины, с косящими прелестными глазами и пышными хвостами, с сухими хрупкими бабками, с гривами, которые хочется целовать, и эти белые быки Прованса, эта жестокая коррида Тараскона, Нима, Арля – прямо в античных амфитеатрах… Он оказался в Коньяке – и застрял там. Он переписал, перенес на холсты и картонки за полмесяца весь Коньяк, всех его жителей, всех его виноделов и весь виноград на праздниках вина. И приволок оттуда в Москву не две бутылки спиртного, как то положено было правилами Аэрофлота, а целых пять: три провез нелегально. Ну, а если бы обнаружили контрабанду? Попробовали бы только прицепиться к VIP-персоне Сафонову! Международный скандал!
Так-так… Коньяк… Он выпьет и забудет все. Он выпьет и представит себе роскошное солнце южной Франции. Солнце бьет ему в лицо, он блаженно жмурится, как кот. Он выпьет – и…
Рука с бутылкой застыла в воздухе, дрогнула, и пахучая струя коньяка пролилась мимо бокала. В дверь позвонили.
Он кинул взгляд на часы. Двенадцать ночи. Если точнее – четверть первого.
Он никого не ждет сегодня. Сейчас. В этот час. Никого.
Кто-то из баб?! Нет. Никого не звал. Кто мог самовольно явиться? Зоя? Алла? Мурзик? Нет, Мурзик на такое не способна. Мурзик гордячка. Она будет ждать, пока ее не позовут. Ида?.. Да, может быть, Аида… Какая ей шлея под хвост попала, Аиде… Перепихнуться на ночь глядя захотелось… Черт, он же имеет право на отдых, просто на спанье, на сосредоточенность, на стояние у мольберта… на личную жизнь… или и в двенадцать к нему прутся оголтелые папарацци?!.. «Как вам отдыхается, многоуважаемый Витас?.. Спится?.. Не спится?..» Да, как поется в одном рок-тексте, – как бы воистину не спиться… от жизни такой…
Он громко брякнул бутылкой коньяка о столешницу. Пошел открывать.
На миг перед закрытой дверью его объял дикий страх. А ВДРУГ ЭТО…
Он отогнал безумье. Привычки спрашивать, как старая старушка: «Кто там?..» – он не имел, слава Богу. Он же все-таки был мужчина. Он повернул вправо-влево бирюльки замка и рванул дверь на себя.
За дверью стояли двое в черном.
Он сначала не понял. Во тьме подъезда странно, бело-призрачно светились, как у инопланетян, их головы.
Потом до него дошло: бритые.
Двое бритых. Двое бритоголовых. В черных кожаных куртках. Из-под курток – черные рубахи.
Он отшатнулся. Двое быстро шагнули на него. Втолкнули его в прихожую.
Он пятился. Они наступали. Тот, что был пониже ростом, захлопнул за собой дверь.
Все. Он в мышеловке. Мышеловка – его собственная квартира.
Не зря он глотал колеса, как сумасшедший. ЭТО возвращается. Нет, он сейчас проснется. Эти двое лысых ему снятся. Снятся! Снятся!
Реальный, живой бритый мужик разжал губы. На Сафонова пахнуло запахом хорошего одеколона. Он втянул воздух ноздрями. «Hugo Boss». Недурно.
– Господин Витас Сафонов?
Он не мог говорить. Кивнул головой.
– Мы по вашу душу. Сесть пригласите?
До чего вежливы, подумал он с издевкой, до чего галантны. Будто и не бандиты вовсе. «А может, они не бандиты? А кто же, кто же, кто?! Морды у них – точно киллерские… Дурак, если бы тебя хотели убить – уже давно бы убили, едва ты открыл дверь… Тихо, Витас, тихо, веди себя прилично, слушай, что скажут…»
– Садитесь. – У него рот повело вбок, как при тике. Улыбка не получилась. – Чем обязан?
Лысые сели. Тот, что был ростом повыше, вальяжно закинул ногу за ногу, озирая обстановку, шкафы, мольберты, начатый холст на мольберте, картины на стенах. Остро пахло разбавителем, свежей масляной краской. Лысый мужик воззрился на картину напротив. Витас видел – она его шокировала.
– Фью-у-у-у! – присвистнул он. – Вон мы чем на досуге занимаемся. Ай-яй-яй, нехорошо, дяденька, малевать такую похабщину. – Он кивнул на громадное полотно, занявшее полстены над камином. На искусно прописанном, тщательно пролессированном холсте худая белокожая женщина на фоне красного ковра, раскинув ноги и задрав в крике наслаждения голову, мастурбировала, втыкая в себя черный деревянный олисбос. – В аду гореть будешь. Или ты не русский человек?
– Мы, кажется, еще не пили на брудершафт. – Так, хорошо, голосок окреп, не дрожит. – Я по матери литовец.
– По матери, по матушке, – хохотнул второй, тот, что пониже росточком, антикварный венский стул под ним противно скрипнул. – Вниз по матушке по Волге!.. Ближе к телу, как говорил Ги де Мопассан.
– Я слушаю.
Он увидел себя в створках зеркала-складня. Он был очень бледен. Лысый мужик сперва поглядел на коньяк в бокале, на бутылку, на лужицу коньяка на столе, потом – в лицо Витасу.
– Ладно, на брудершафт потом. Извините. Забылись. Мы пришли сделать вам заказ, господин Сафонов.
– Заказ? – Во рту у него пересохло. Он и впрямь мучительно, до сосанья под ложечкой, захотел хлебнуть коньяка. – Какой заказ?
Почему они не убивают его сразу. Немедленно. Сейчас. Ведь это же так просто – вытащить пушку из кармана, направить прямо в лицо. И размозжить череп в хлам. Чтобы кровавые куски полетели на стены, на холсты, на зеркала. Новая живопись. Натуральная живопись. Шматки кадмия красного. Ошметки живого краплака. Искусствоведы будут говорить, закатывая глаза: «Последние картины Витаса Сафонова написаны в полном смысле слова кровью».
Тот, кто пониже, ухмыльнулся. Скинул ремень черной большой, как мешок, сумки с плеча. Черную сумку Витас, испуганный, потрясенный, не заметил.
Лысый дернул «молнию». Распахнул сумку. Вытащил огромный целлофановый пакет. Сквозь прозрачный целлофан было хорошо видно, что пакет весь, сверху донизу, набит пачками долларов. Лысый шмякнул пакет на стол орехового дерева с инкрустацией полудрагоценными камнями – яшмой, нефритом, сердоликом. Витас купил этот стол на аукционе в Бельгии, в Брюсселе. Еле провез через границу. «Это стол моей бабушки, – разводил он руками перед таможенниками, – у меня бабушка в Бельгии, в Антверпене живет, милая такая старушка, понимаете?.. Единственная память о предках нашего рода…» Всхлипнуть, главное, – правдоподобно…
Витас глядел. Он глядел – и не видел. Глядел – и не понимал. Так, отупело, соображая, что к чему, он когда-то, желторотым пацаном, впервые глядел жестокое порно. Он никогда в жизни не видывал столько денег наличными.
«Что это? Розыгрыш? Это фальшивки? Меня берут на пушку? Или это все-таки сон, сон, сон, бред?! Что я должен делать? Что я должен СДЕЛАТЬ за эти деньги?!»
– Я не раб, – сказал он, выдавив эти слова из наждачно-жесткого горла, как масляную краску из засохшего тюбика, и посмотрел поверх бритых яйцевидных голов. – Если речь идет о насилии…
– …то вы не продаетесь. И не покупаетесь, я правильно понял? – Высокий усмехнулся. Витаса покоробило. – Вы не раб, мы вас не насилуем, не покупаем, мы вас – нанимаем. Мне кажется, это вполне приемлемые деньги для художника… такого ранга, каким являетесь вы.
– Так, так. – Он тряхнул головой. Длинные волосы взвились, опали на плечи. – Значит, нанимаете. И что же я… хм… за эту сумму… простите, сколько здесь?.. должен буду нарисовать? Голую задницу? Политическую картинку? Двух лесбиянок в разгаре коитуса? Землю, разрезанную надвое, как яблоко?! Обезображенных жертв Холокоста?! Бабу в родах?! Что?!
«Так. Верно. Еще веселее. Ты взял правильный тон, старик».
Он осмелел и уже издевался над ними. Он старался не смотреть на прозрачный мешок, набитый деньгами, лежащий перед ним на инкрустированном яшмой бельгийском столе.
– Мы заказываем вам фреску. Мощную фреску. Ничего подобного не было ни в каких веках до нас и, рассчитываем, еще долго не будет после нас. Надо сделать так, чтобы такого больше никогда на Земле не было.
– Сюжет фрески?
Он уже перешел на профессиональный тон. Ни улыбочек, ни издевок. Вопросы по существу.
– Второе Пришествие.
– Где надо писать фреску? В храме?
– Да. В храме. Этот храм уже строится. В него вложены большие деньги.
– Деньги, вот эти, – он кивнул на целлофановый мешок, – от тех же людей?
– Да.
– Где находится строящийся храм?
– Сказать? – Высокий кинул взгляд на низкорослого.
– Скажи. Что таиться. Бестолковое дело. Он же все равно туда скоро полетит.
– В Иерусалиме.
– Черт, в горячей точке, – Витас поморщился. – Неплохенькое местечко, конечно, но – такая каша вероисповеданий! Мусульмане, евреи… православные… храм на храме, и каждый свою веру хвалит, за свою – глотку перегрызет… И вы туда же! Вы… – «О чем ты. Ведь не эти же гололобые щенки строят собор. Они – исполнители, запомни. Их дело – припугнуть меня, нанять меня, передать мне деньги. И баста!» – Какой вы веры-то, ребята? А?! Судя по заказываемому вашими шефами сюжету – христиане, я так понял?
Высокий набычил лысую голову.
– Вы православный?
– Да.
– Хотя вполне бы могли быть католиком, если – литовец.
– Мать умерла давно. Она не крестила меня ни в младенчестве, ни в отрочестве. Не те годы тогда были. Я принял крещение уже взрослым. Осознанно.
– Ясно. Значит, вы поймете. – Высокий встал, венский стул жалобно простонал под могучим, крепко сбитым телом. – Он придет скоро. Возможно, мы с вами явимся свидетелями Его прихода. Он придет в блеске и славе своей. Не так, как тогда. А мы… Мы лишь ускорим Его приход. Понятно?
Встал и низкорослый. Черная кожа куртки противно скрипнула. Они оба, не прощаясь, повернулись на каблуках, пошагали к двери. Не оглянулись.
Замки отлетели прочь. Резко, оглушительно хлопнула дверь, чуть не сорвавшись с петель. Витас так и остался сидеть в комнате. Ни договора. Ни печатей. Ни подписей. Ни контрактов. Ни ручательств. Ни расписок. Ничего.
Только вся сумма – весь его гонорар – все деньги, положенные ему за его работу, еще несделанную, еще тающую в дымке времени, как тает между пальцев дымок сигареты, – перед ним, на столе, на гладкой столешнице с яшмовым деревом и малахитовым озером.
Ефим хотел забыться.
Ефим хотел нырнуть в пропасть безоглядной чувственности. В омут постыдной и черной страсти, которой он, может быть, и не испытывал, но которую именно сегодня ему невероятно хотелось испытать.
Он заставлял Цэцэг проделывать такие штучки, которые ей и не снились там, давным-давно, в «Фудзи». Ноги выше головы? Пожалуйста, но разве это так удивительно? Это не страсть. Господи, страсть – ведь это тогда, когда срываются все покровы внутри тебя, не снаружи. Тело только иллюстрирует, рисует внутреннее дьявольское обнажение. Я срываю все покровы. С тебя. С себя. Я делаю, что хочу. И, обнажив себя до конца, я смеюсь над собой – и делаю то, чего не хочу. Ибо я хочу испытать то, чего не испытывал никогда.
Она взяла его ногу, поставила себе на грудь. «Дави, – шепнула. – Сильнее». Я раздавлю тебя, ты же такая нежная. Не бойся. Прогнувшись под ним, она застонала; его ступня заскользила по ее потной груди, по животу, она раскинула ноги, открывая красные створы; большой палец его ноги скользнул внутрь нее, губы нашли ее губы, и зубы больно укусили сложенный трубочкой рот. Она, не отрывая рта от его губ, выставила вперед груди, и его пальцы, найдя торчащие темные соски, больно сжали их, вонзили в них ногти. Так?! Я же так не хочу. И хочу. Тебе же так больно. И все равно ты так хочешь. Покажи мне изощренный восточный секс, ты, продажная Цэцэг, самая лучшая шлюха в мире.
Она встала на колени в постели, высоко подняв зад. Он провел языком вдоль по ее хребту, осязая позвонки, ощущая на губах вкус соленой смуглой кожи. Ее пот пах розами. Она любила роскошь и сама была роскошью. А он сегодня, сжигаемый жаждой – забыться, окунуться в иной мир, топтал эту роскошь ногами, бил наотмашь, приковывал цепями и наручниками к спинке кровати, истязал, шептал: покажи мне еще что-нибудь. Потряси меня! Научи меня! Ты, ученая, ты, дикая…
Лежа под ней, выплясывающей на нем отчаянные па любовного танца, он скользил глазами по стенам. Неплохо оформила спаленку монгольская красотка. За такой коврик, с вытканными Венерой и Адонисом в гроте, она наверняка отвалила на Кристи черт знает сколько. Ведь это же гобелен шестнадцатого века… судя по колориту, нежно-дымчатому, голубовато-холодному, французский. Эпоха Генриха Второго, Дианы де Пуатье… Венера наклонилась над восставшей плотью Адониса, едва не касаясь ее губами, хитро улыбаясь. А это что? Новогодняя маска?.. Черная с золотом?.. Ну да, какая-нибудь китайская маска древнего чудища, вон и козлиные рога, книзу закручены… Он перевел взгляд. Цэцэг подпрыгнула сильнее, резче. Она хотела сделать ему больно. Он, держа ее обеими руками за талию, ощущая под ладонями мокрое скользкое тело, смотрел уже на другой сюжет. А это китайщина, родной ей Восток. Лысый, с седой паклей жиденьких волосенок вокруг уродливой головы-тыквы, смешной старикан – ого, однако, а уд какой огромный, торчит, темный, как у осла, – задрал девчонке, видимо, служанке расшитый хризантемами халат аж до самой шеи, пытаясь овладеть ею. На круглом лице служанки, с глазками-щелками, с черной челкой до бровей, было написано озорство и презрение. Да, она подставит себя хозяину. Но и выколотит из него монету! А то и собственный бумажный домик.
Цэцэг остановилась. Прекратила прыжки. Ефим по-прежнему глядел на китайскую гравюру. Он только что заметил на гравюре еще одного человека. Чья-то голова высовывалась из-за приоткрытой двери. Мужская? Женская? Он бессознательно перевел взгляд на дверь спальни Цэцэг. Может, здесь за шторой, за гардиной, за китайской ширмой с птичками и розочками тоже есть Подглядывающий?
Елагин вздрогнул. Цэцэг возобновила свои танцы. Еще немного – и судорога неимоверного наслаждения выгнула его в мгновенном столбняке. Цэцэг упала рядом с ним. В теплом воздухе спальни, пропитанном ароматами всевозможных парфюмов, запахло солью, горечью и морем.
Он по-прежнему смотрел на дверь. Цэцэг шутливо ударила его ребром ладони по плечу, имитируя движение каратэ-до.
– Люблю, как пахнет сперма. Она пахнет морем. Китайцы говорят: есть четыре священных жидкости – кровь, лимфа, слюна и сперма. Тот, кто научился задерживать сперму в себе во время любви, а не выбрызгивать ее, питает свой тысячелистый лотос Сахасрару.
– А моча, значит, не священная жидкость? – Против воли губы его поморщились в улыбке.
– Нет. Моча – это то, что должно уйти в землю. Кровь и лимфа текут в нас, это жидкости нашей жизни. Слюну мы глотаем даже друг у друга в поцелуе. Сладка слюна Суламифи для Соломона, помнишь?.. А из спермы рождаются дети. Она самая священная.
– И глотать ее ты тоже любишь?.. Не притворяешься?..