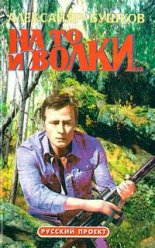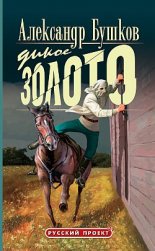Любовник богини Арсеньева Елена

Часть I
РУКА ПРИЗРАКА
1
Луна над поющим бамбуком
Она была похожа на цветок…
Она была похожа на цветок, и, хотя все кругом благоухало жасмином и туберозами: в узеньких ручейках, пронизывающих весь сад, струилась розовая вода и плыли белые и алые лепестки, сливаясь в душистые реки, – даже сквозь эту сладостную, душную завесу проникал аромат ее тела. Это был аромат редкостного, дивного цветка – прекраснее розы, прекраснее лотоса. Из лунного света, из бледного сияния звезд сотворили ее боги… Можно было сказать, что она схожа с богиней, однако стоит ли сравнивать звезду со звездой? Ведь она и была богиней.
– Дева, – сказал тот, черноглазый, облаченный в белую кисею, в белом тюрбане с павлиньим пером. – Дева…
Как ни мало знал пленник слов на этом языке, это понял сразу: дева – богиня. А все прочие здесь – ее слуги. А он – любовник богини.
Сначала, когда его, связанного по рукам и ногам, беспомощного, тащили сквозь джунгли, он думал, что его ждет участь кровавой жертвы, которые еще приносит этот дикий, мрачный народ. Однако после недолгого путешествия в лодке он очутился на острове такой красоты, что сама мысль о жертвоприношении, убийстве, боли и смерти показалась сущей нелепицей.
Остров чудился пустынным – только несколько деревьев там и сям, только цветы да заросли бамбука и сирки с разноцветными перьями верхушек, стоящих почти вровень с манговыми и другими высокими деревьями.
В жизни своей он не видел ничего грациознее! Бамбук при малейшем дуновении потрясал своими зелеными головами, словно бы увенчанными перьями невиданного страуса. При каждом порыве ветра слышался легкий и странный звук – будто кто-то едва касался туго натянутой гитарной струны. Сначала пленник не обращал на это внимания, однако чем дальше вели его сквозь бамбуковые заросли, тем громче и отчетливее становилась мелодия.
В это время исчез с небес последний золотой закатный луч, и окрестности подернулись лиловатою прозрачною дымкою. С каждою минутою сгущались сумерки. Тени наливались бархатистой чернотой, а в небе одна за другой зажигались звезды, выстраиваясь почтительным хороводом в ожидании своей царицы – луны. И невидимый оркестр готовил ей торжественную встречу.
Чудилось, со всех сторон вокруг и даже над головами настраивались незримые духовые инструменты, звенели струны, пробовались флейты. Еще через мгновение, с новым порывом ветра, раздались по всему острову звуки как бы сотен эоловых арф…
Туземцы, подталкивающие пленника, и не пытались скрывать свой трепет. Их страх был виден даже в сумраке. А пленник после первого потрясения пришел в себя и поглядывал на своих стражей с чувством насмешливого превосходства. Неужели трудно догадаться, что поет не какая-то неведомая сила, а сам бамбук, в каждом колене которого жучки просверлили большие или маленькие отверстия? В них играет ветер, превращая эти заросли в десятки тысяч свирелей, созданных самой природою. Все просто… все величаво, все непостижимо!
И вот взошла луна.
Воистину, то была луна златая! Она испускала целые потоки света, осыпала золотом и серебром все вокруг, не пожалев своей пылинки для самой малой былинки, вся листва чудилась политой расплавленным бледным златом… и внезапно в этом свете возник дворец, с куполом, изогнутым так плавно, словно его строители пытались повторить лунную округлость.
Потом, уже несколькими днями позднее, получше разглядев дворец, пленник решил, что его не иначе как возвели пчелы: здание было изваяно из множества ячеек. Каждая из них оказалась изогнутым зеркалом. О, это были загадочные зеркала!
Ночью, лунной ночью они оживлялись чародейством небес, а солнечный свет их словно бы и не касался: днем они буднично отражали округу, сливаясь с синим небом и зеленым бамбуком, так что несведущий человек мог пройти сквозь заросли совсем рядом с дворцом и даже не заметить его.
А он был, он не исчезал, как подобает призраку ночи, он оставался на месте, и луна не раз сменялась солнцем, постепенно приближаясь ко дню своей полной спелости, и бамбук взрывался песнями под ветром, а пленник все еще жил в этом дворце, готовясь к назначенной ему участи.
С ним всегда был предводитель его похитителей: высокий, с непроницаемым темным взором. Другие похитители удалились, даже не ступив за ограду дворца, явно испытывая священный, трепетный ужас перед этим местом. А этот, высокий, – остался. Пленник мало успел повидать индусов, однако их лица казались ему какими-то приторными, почти женственными. У этого же был лик четких, резких очертаний, скорее страстных, чем правильных. Брови сходились на переносице: казалось, лоб перечеркнут одной извилистой линией. Глаза – огромные, сплошь черные, без блеска. Пленник напрасно силился разглядеть их выражение: они ничего не выражали. Сама их пустота скрывала некую тайну, но пленник не сомневался – рано или поздно тайна сия будет ему открыта. Для этого он и привезен на остров!
Черноглазый всегда был одет в белое, слегка отливающее серебром. Он всегда являлся так внезапно, словно и его вызывал к жизни лунный свет. Однако пленник знал, что незнакомец следит за каждым его шагом.
Впрочем, насчет шагов – это очень смело сказано. Ведь большую часть времени пленник был недвижим. Его держали прикованным к постели ночью и днем, разнимая оковы только для омовений и еды, а иногда – для участия в собственных пытках. Еда, в общем-то, тоже была пыткой. Все баснословные кушанья сказочных туземцев противоречили представлениям пленника о съедобном. Ему казалось, что ни один европеец в здравом уме… да что! – ни один человек в мире, кроме индусов, не отважится подкрепить себя подобной пищей. Их стол состоял из плодов и овощей, но до того приправленных духами, маслами и сахаром, что становилось тошно. Возьмешь кусок в рот – и подумаешь, что раскусил или мускус под лампадным маслом, или фиалковую помаду, или неаполитанское мыло. Перед тем как попасться похитителям, пленник долго голодал, потом наелся до отвала, а теперь опять вернулся к ощущению постоянного, неутихающего голода. Впрочем, на своем еще не очень долгом веку ему довелось много чего испытать, он был неприхотлив, так что голод, по его мнению, был не самым мучительным звеном в цепи тех издевательств, кои ему приходилось претерпевать. Поистине, только ум врага рода человеческого мог измыслить подобное!..
Все началось первой же ночью. Не отвечая ни на один вопрос, не поддерживая попыток иноземца сплести в единое целое обрывки недавно изученного хинди, приправленного полузабытым университетским санскритом, молчаливые слуги, все одеяние которых составляли лишь полоски ткани округ чресл, по приказу черноглазого повлекли пленника во дворец и, не дав насладиться созерцанием роскошного убранства, втолкнули в розовую мраморную залу с большим углублением в полу. Углубление было заполнено водой, и, когда пленника опустили в эту душистую теплоту, ему почудилось, будто он попал прямиком в рай.
Глупец! Он еще не знал, что очутился в аду!..
Слуги отступили от бассейна и стали вокруг, сложив на груди руки и не сводя глаз с разнежившегося чужеземца.
Послышалось легкое шлепанье босых ног, и в круг мужчин вошла смуглая девушка с черными волосами, закрученными на затылке. На запястьях и щиколотках у нее были надеты тонкие серебряные браслеты, и они составляли все ее одеяние. Судорожно сглотнув, пленник уставился на ее нежный живот, под которым не было привычного темного треугольничка. Ее сокровенное было лишено растительности, и пленник на некоторое время всерьез предался размышлениям, удалены ли волосы насильственно или же здешние красавицы такими гладенькими рождаются. Он знал, что у некоторых северных народов женщины совершенно лишены волос на теле, однако видел такую даму впервые. Пожалуй, именно даму – юной девушкой назвать ее было нельзя: слишком зрелыми, полновесными были ее груди, слишком густо, вызывающе накрашено лицо, да и смелость, с какой она скользнула в водоем к нагому мужчине, наводила на мысль об опытности. И о бесстыдстве, ибо происходило сие под пристальными взорами стражи.
Пленник нервически поджал колени к подбородку, скрывая признаки своего волнения, однако нескромница и не собиралась его ласкать. Она взяла лежащий на краю бассейна ком какой-то мягкой ткани и знаком показала, что хочет помыть пленнику спину.
А, так сия бесстыжая была всего лишь банщицей! Ну что ж, коли так… Он, приободрясь, повернулся спиной – и довольно улыбнулся, когда почувствовал, как сильные руки растирают усталую кожу. Так и быть, пускай уж девка потрет ему спину, а спереди он сам себя помоет. Не хватало еще…
И тут мысли его прервались, потому что проворные руки банщицы принялись растирать его грудь, а ее твердые груди тесно прижались к его спине.
О господи! Он замер, не в силах оттолкнуть ее, ощущая только, как поводит она плечами, прижимаясь все теснее, а потом и живот ее, и нагое межножье прильнули к его ягодицам. Пленник едва не вскрикнул.
Она приставала к нему! Она нагло, откровенно приставала к нему на глазах доброго десятка посторонних мужиков, равнодушно глазевших в бассейн!
В зале было сумрачно, и пленник от души надеялся, что им видно не все, творившееся под водой. Он изо всех сил старался удержать на лице маску равнодушия, но из-за грохота крови в ушах почти ничего не слышал, да и перед глазами все плыло, плыло…
Окаянная девка меж тем оказалась еще большей развратницей, чем можно было предположить. Она перестала притворяться банщицей, отбросила и свою тряпицу, и всякий стыд и принялась щекотать купающегося не хуже заправской русалки.
Но нет, это была вовсе не та щекотка, от которой человека скручивают судороги неостановимого хохота. Только теперь пленник понял, что попавшие в цепкие руки русалок умирают вовсе не от смеха! Она гладила его, терла, щипала, она поцарапывала ноготками его соски, она разминала ему живот, а потом руки ее внезапно скользнули вниз, стиснули изнемогающее от нетерпения мужское естество – и пленник с хриплым стоном судорожно извергся в дерзкую ладонь…
Тотчас он был отпущен. Девушка проворно выскочила из бассейна и стала перед черноглазым, склонив голову и сложив свои распутные ладошки в молящем жесте. Почти не размыкая узкого рта, черноглазый что-то проговорил… нет, буркнул с отвращением. Девушка гибко склонилась к его ногам, выпрямилась и ускользнула, а темный взор обратился к пленнику.
Не таким уж непроницаемым был сейчас этот взор! В нем явственно читалось презрение, и пленник так и вспыхнул от злости.
Какого черта?! Почему этот разбойник позволяет себе так на него смотреть?! Что он такого сделал? Поглядеть еще, как заплясал, задергался бы этот черноглазый черт, когда сия бесстыдница схватила бы его своими проворными пальчиками за… вот именно, за это самое! Причем совершенно очевидно, что девка действовала по его приказанию. За что же он на нее так злобно рыкнул? Или ожидал, что пленник оттолкнет ее? Будет сидеть с вялым, скучающим выражением лица, в то время как сия искусная музыкантша перебирает лады? Да, конечно! После трехмесячного воздержания какая оборона выдержала бы? Он, слава богу, не кастрат!
Очевидно, туземец почуял, о чем думает пленник, потому что взор его вновь сделался холоден и таинственен. Он подал знак. Стражи вытянули иноземца из воды, накинули на него какую-то ряднинку, повлекли за собой. На пленника вдруг навалилась страшная усталость, ноги его заплетались, и он едва тащился сквозь череду покоев, почти не видя окружающего. Наконец его ввели в зал с одним только ложем под балдахином. Со стоном наслаждения пленник простерся на мягких пуховых перинах. И только утром обнаружил, что руки и ноги его закованы.
Что хуже всего, ему никак не удавалось взять в толк, к чему все это деется. Зачем его держат в цепях на этом роскошном ложе, в этом подавляющем своей красотою покое: ослепительной белизны стены с панелями, покрытыми мозаикой – гирляндами прелестнейших цветов из драгоценных камней? Конечно, его развязывали: попить, поесть, искупаться (девку в бассейн больше не присылали). Поначалу он только и чаял вырваться, раскидать стражу, сбежать, но… Когда начинал буянить, вся эта смуглокожая братия наваливалась со всех сторон. С первого раза он их всех разнес по зауголочкам, так что они сделались умнее: один неуловимым, рассчитанным движением накидывал на горло бунтовщика платок и таково-то брал за хрип, что надо было выбирать: или полечь тотчас же, тут же, ни за что ни про что, или отступить перед явно превосходящими силами противника – покуда отступить. Ну, приходилось отступать… для того чтобы вороги вволю натешились своими извращенными причудами.
Пленник был человеком по своему времени и положению образованным, ему приходилось читать о китайцах. Скажем, вот китайская пытка: человеку выбривают макушку и начинают ему на темечко ледяной водой капать. Кап да кап. Кап да кап… и опять кап да кап… И через самое малое время страдалец сходит с ума. Опять же китайцы удумали: преступник лежит связанный по рукам и ногам, а пытатели ему на брюхо ставят и накрепко привязывают опрокинутый глиняный горшок. Ну, горшок и горшок: какая в том беда? А в том беда, что под горшок сажают живую крысу. И никак ей иначе не выбраться, как прожрав себе путь сквозь человечье живое, бьющееся, орущее тело. Китайцы мастаки были на такие придумки, да и свои, родимые, не плошали при надобности… Но пленнику иногда казалось, что легче с крысой на животе, чем с вечно мучимым, неутоленным, страдающим, переполненным страсти орудием!
Нет, его больше никто не ласкал, но ведь не одними только прикосновениями можно довести мужика до исступления. Глаза человеку Господом для того дадены, чтобы видеть. Не хочешь видеть – можно зажмуриться или отвернуться. Но когда за каждую такую попытку получаешь от стражи короткий, но болезненный, отнимающий дыхание удар под ребра, глаза сами собой на лоб лезут. И видят такое, что оторвать их уже невозможно…
Однажды к нему привели девушку. Это была не распутница из бассейна, а может быть, и она – кто их разберет, туземок? На его взгляд, они все были одинаковые. У этой, как и у прочих, глаза огромные, подведенные, губы горящие от кармина, во лбу карминовый кружочек. Смоляные гладкие волосы загибались на щеках колечками. Голова была увенчана жасмином, изящное широкобедрое тело обернуто золотистой тканью, такой тонкой, что она почти ничего не скрывала от жадного взора. Во всяком случае, видно было, что у незнакомки разрисованы цветами груди, а вокруг укромного местечка (тоже голенького, гладенького, как у той, первой) изображен жадно разверстый рот, который то растягивался в сладострастной ухмылке, то разевался похотливо, то сжимался жадно – в лад с отточенными движениями танцующего тела.
Сначала пленник просто любовался ею. Игривый взор, мелодичное позвякивание множества браслетов (руки были унизаны до локтя, а ноги – чуть не до колен), движения исполнены грации и изящества… Постепенно танец ускорялся. И пленник почувствовал, как напряглось его тело, ответив на страстный, откровенный призыв, который выражался в самом легком подергивании накрашенных губ, переборе пальцев, движении ладоней, повороте головы, притопывании босых ног с перстнями на пальчиках, даже вращении глаз. Она сжимала ноздри, она дрожала ресницами, она отступала и наступала. При одном резком повороте танцовщица изящно выскользнула из своей одежды, обнажив смуглое, цвета корицы, тело с такой тонкой талией, что дивно было, как она не переламывается в этих резких поворотах, полупоклонах, откидывании назад, когда кончики накрашенных грудей вызывающе смотрели ввысь, а бедра так и ходили ходуном в чувственном вращении. Алый рот меж ее чресл исторгал пронзительные призывные звуки: обыкновенный человек не смог бы их уловить, но пленник, возбужденный, соблазненный, лишенный власти над своим телом, измаялся, внимая этому чувственному зову, на который он жаждал ответить – и не мог! Когда он лихорадочно забился на постели, девушка резко остановилась, подхватила с полу золотистый шелк и исчезла меж колонн.
Вошел черноглазый, внимательным холодным взором окинул пленника, словно опытный оружейник, оценивающий размеры и мощь меча, – и удовлетворенно кивнул.
– Бык, – произнес он. – Крепкий, могучий бык. Звезды указали на тебя… ты изведаешь блаженство!
Пленник не поверил ушам, услышав эту тираду. Должно быть, он чего-то не понял: подвело знание языка. Но переспросить было некого: черноглазый уже удалился, оставив измученного пленника в покое… до новой ночи.
Однако дни его тоже трудно было назвать спокойными! Перед ложем поставили ширму. Она сначала показалась пленнику невеликой, но, когда ее развернули (трудились все десять стражей – верно, ширма была немалой тяжести!), она оказалась огромной, как ворота. Ширма была из тонко вырезанного, будто кружево, эбенового дерева и удивительно красиво инкрустирована медными и серебряными пластинками, а также множеством барельефов из слоновой кости.
Пленник, раз глянув, уже не мог отвести от них взор. Такая невероятно сложная, дорогостоящая, тонкая и изысканная работа имела целью запечатлеть все, что только может себе вообразить самое разнузданное сладострастие. Видно, у художника было невероятное воображение, потому что ни одна поза любовников на диковинных пластинах не повторялась.
Ширму расставили так, что она окружала ложе пленника со всех трех сторон, и, куда бы он ни глянул, везде окружали его тела, творящие любовь.
А ночью пришел черноглазый. Он был не один: с ним было пять нагих красавиц, и пленнику почудилось, будто у него сделалось помрачение ума: все девушки были одинаковы, все напоминали и любительницу игр в водоеме, и танцовщицу. Черноглазый тоже был обнажен – только голова прикрыта белоснежным тюрбаном, – и пленник с невольным мужским превосходством поглядел на его стебелек. Ничего особенного. Забора не прошибет, это уж как пить дать! То-то этот черноглазый вчера так поглядывал на его оснастку – не иначе с завистью!
Однако очень скоро его хвастливая усмешечка пропала, а уста искривила боль. Страданий, подобных нынешним, он еще не испытывал, потому что на его глазах чертов туземец бессчетно любострастничал: сначала с каждой женщиной отдельно, а потом со всеми враз, и не было, чудилось, изображения на ширме, которое не воплотилось нынче в живые, страстные, стонущие картины. И как ни помутнен был рассудок пленника, как ни был он истерзан невозможностью оказаться на месте своего «наставника», он не мог не восхититься – или ужаснуться – сдержанностью черноглазого, который раз за разом удовлетворял всех женщин: по одной, по двое, по трое, сам оставаясь (по крайней мере внешне) совершенно спокойным – с этим его непроницаемым взором и презрительно сжатым ртом, который размыкался только для поцелуев. Иногда его взгляд скользил по пленнику, испытывающему муки, по сравнению с которыми все страдания Тантала – просто детский лепет, – и наступало мгновение отрезвления: в черных глазах туземца светился откровенный вызов! «Ты, белый человек, – словно бы говорил он, – мнишь себя центром Вселенной… Все белые люди таковы! Ты явился в наши земли, заранее уверенный, что превосходишь нас изощренностью своего ума, силою своего насмешливого, циничного нрава. Но я сильнее тебя! Я превосхожу тебя тем, чего ты просто не ведаешь… не ведал никогда и никогда не изведаешь. Я умею владеть своими желаниями. Я господин их, ты – их раб. Жалкий раб!»
Он был жалким рабом своих желаний… он с содроганием смотрел, как «наставник» любодействовал с пятью девушками сразу, причем одна из них оседлала его, полусидящего на подушках, и вступила в самозабвенное единоборство с его воином, в то время как остальные четыре любовницы вкушали наслаждение, которое доставлял им черноглазый, порхая по их цветкам пальцами рук и ног. Пленник смотрел – и был рабом желания оказаться сейчас на месте «наставника»!
Любовная игра была окончена, едва черноглазый заметил, что пленник уже окончательно изнемог. В одно мгновение доведя всех красавиц до экстатических стонов, он знаком велел им удалиться, а сам поднялся с подушек и предстал перед пленником во всей своей вызывающей наготе. Пленник уже догадывался, что величайшее наслаждение его мучитель испытывал в отречении от своих желаний, в собственном истязании, – и почти сверхъестественным усилием заставил себя поглядеть на него спокойно и холодно.
Этот поединок взглядов длился долгую, бесконечную минуту, а потом губы «наставника» дрогнули в усмешке.
– Неисполненные желания разрушают человека изнутри, – промолвил он. – Но успокойся: твои страдания закончены. Завтра дождь – возлюбленный земли – сможет пролиться на ее ждущее лоно!
– Чье? – пробормотал пересохшими губами пленник, в воспаленном мозгу которого промелькнули поочередно все пять красавиц, виденные им нынче, от банщицы до танцовщицы: которая же из них утолит его жажду?
Мгновение «наставник» смотрел на него с откровенным презрением, потом что-то глубоко страдальческое и вместе с тем зловещее промелькнуло в черной глубине его глаз:
– Тебе предначертано стать любовником богини.
О, как пел в тот день бамбук! Лишь только повлеклось к закату огромное раскаленное солнце, зазвенели вдруг со всех сторон турецкие колокольчики, зазвучали веселой, быстрой мелодией, под которую ноги так и норовили пуститься в пляс. С другой стороны острова доносился протяжный вой: заунывный, грустный, словно жалоба волчицы, утратившей детенышей. Издали неслась как бы песнь человеческого голоса, переходя в плавные звуки виолончели и заканчиваясь не то рыданием, не то глухим хохотом. А всему этому вторило с четырех сторон насмешливое эхо.
Нервы пленника были натянуты как струны и словно вибрировали в лад этой нечеловеческой музыке. Он с трудом сохранял на лице маску спокойствия, с трудом сдерживался, чтобы не вырваться из цеплявшихся за него рук…
Это были все те же смуглые красавицы, которых он уже видел. На сей раз все они были вполне одеты, ежели можно назвать одеждою коротенькие, выше талии, рубашечки, туго обтягивающие грудь, и намотанный вокруг бедер в несколько ярусов полупрозрачный серебристо-белый шелк. Однако, словно решив вознаградить себя за вынужденную скромность одеяний, девицы надели столько украшений, что все открытые участки тела были почти сплошь унизаны широкими золотыми поясами, обручами, цепочками, бессчетным количеством браслетов и колец. Серьги спускались до самых плеч, и, словно красавицы задались целью всенепременно похвалиться всеми своими драгоценностями, каждая из них продела по кольцу еще и в нос! Эта несусветная причуда надолго приковала внимание пленника, и он так озаботился вопросом, не больно ли красавицам, а главное, почему прежде незаметно было на их хорошеньких, остреньких носиках дырок для этих кошмарных подвесок, – что даже несколько поуспокоился. Тем паче что девицы нынче не позволяли себе никаких плотских вольностей, а вели себя так, словно он был идолом, которого надлежало тщательнейшим образом приготовить к празднеству и поклонению. Разумеется, все свершалось под неусыпным надзором конвоя, разнаряженного в прах, однако не утратившего ни малой толики свирепой бдительности: пальцы так и плясали на рукоятях мечей, а глаза стерегли каждое движение пленника.
Он подчинялся, неприметно озираясь и каждое мгновение ожидая удара клинком под ребро или чирканья по горлу. Черт их разберет, этих черномазых, что у них означает «сделаться любовником богини». Может быть, у него вырвут сердце и поднесут какой-нибудь раззолоченной идолице на серебряном блюде! Хотя… во вчерашних словах черноглазого не было и намека на убийство, скорее наоборот. Словом, пленник принял уже привычную выжидательно-разведывательную позицию и не противился ни в чем.
Сначала его повлекли в бассейн и, поставив на дно мраморной чаши, несколько раз окатили разноцветными водами, причем голова сразу же мучительно заболела и пошла кругом от удушающего аромата розового масла. Tеперь он благоухал, как девка в веселом доме, готовая к встрече покупателя ее прелестей, с яростью подумал пленник – и вздохнул с облегчением, когда ему было дозволено выйти из сладкого водоема. Он стоял – мокрый, голый – и смотрел, как девушки толкли в больших ступках желтый имбирь. Потом они размочили его в воде и принялись обмазывать пленника со всех сторон. Он дернулся было оттолкнуть их, смахнуть с себя эту гадость, однако тотчас же клинок изрядных размеров оказался прижат к его горлу, и пленник, скрежетнув зубами, мученически завел глаза: черт, мол, с вами, делайте что хотите!
Изжелтив нагое тело с ног до плеч, пленника снова повлекли в бассейн и опять принялись окатывать водой. На сей раз вода была прозрачная, и ее аромат не вызывал тошноты. Он был скорее горьковатым, влажным, волнующим… Ноздри пленника задрожали.
Его снова вывели из бассейна, осушили мягкими шелками и принялись одевать. Пока трое занимались облачением, две другие девицы, вооружась каждая свернутым в трубку листом лотоса, капали ему на голову воду. Мысль о китайской пытке снова промелькнула в усталом мозгу, однако что-то подсказало пленнику, что это вполне невинный обряд: может быть, приношение водяным богам. Ладно, пусть их! Он раздраженно отер с лица ручеек и без сопротивления позволил нарядить себя в розовые шаровары и бледно-розовый тюрбан с бриллиантами. Среди туземцев, облаченных в белое, он чувствовал себя нелепой игрушкой, конфетою в ярком фунтике, нарядной безделушкою… словом, сущей бабою! Вдобавок на него напялили еще и прозрачную белую распашонку. Пленник стискивал кулаки и поджимал пальцы на ногах на случай, если начнут надевать перстни: стража вся сверкала и переливалась множеством золотых и бриллиантовых украшений.
«Пусть лучше голову проломят, но серьгу в нос совать не дам!» – мрачно посулил он сам себе. Однако похоже было, что любовнику богини сие по чину не полагалось, и пленник смог перевести дух.
Его окуривали тлеющим сандалом, когда появился черноглазый: тоже весь в белом, блистающий бриллиантами так, что смотреть было больно. Не взглянув на пленника, сделал знак – стража встала плотно, шагу в сторону не сделаешь! – и этот сомкнутый строй замаршировал по дворцу. Что-то подсказывало пленнику, что он последний раз видит белый мрамор, красный порфир, причудливую мозаику, кружево резьбы. С кривой улыбкой окинул он взором опостылевшее великолепие, и вдруг впервые пронзила его мысль о дальнейшей участи.
Что сделают с ним потом, когда он уже исполнит свое «предначертание»? Не потому ли он не сомневается, будто не воротится сюда, что предчувствует свою погибель? Ах, вырвать бы у одного из этих сверкающих идолов клинок, да было бы где размахнуться руке, – тогда еще неизвестно, кто оказался бы возлюбленным богини Смерти нынче ночью! Но, похоже, стража не испытывала к нему никакого почтения, несмотря на величие его «предначертания», потому что все сабли были угрожающе обнажены и при малейшей заминке легонько покалывали кожу. «Надо надеяться, они не перестараются и я не явлюсь к даме весь в кровавых пятнах, будто комаров шлепал!» – фыркнул пленник – и удивился, как стало легче на душе.
Они вышли на веранду. Луна еще не всходила, однако черное небо было сплошь покрыто звездами, и пленник без труда разглядел стройные зеленые фикусы и высокие перистые тамаринды. Под одной из пальм раскинулся пруд, в котором нежились лилии и лотосы, а над прудом стояла беседка.
Пленник всмотрелся. У входа в беседку склонялись в поклоне прислужницы, а в глубине ее виднелась неясная фигура, с головы до ног укутанная серебристой вуалью, такой плотной, что очертаний тела было не различить.
Сердце глухо, тревожно стукнуло…
Пронесся порыв ветра, возвещая скорое появление луны, и примолкший было невидимый бамбуковый оркестр разыгрался пуще прежнего. Полились звуки, неудержимою волной нахлынули. Сквозь свист морской бури, гул волн, завывание снежной вьюги прорвались величественные аккорды органа и загремели, заглушая все вокруг: то сливаясь, то расходясь в пространстве, наполняя душу страхом и восторгом враз.
Только теперь пленник заметил, что луна уже взошла. О боже! Волшебная краса! Словно царь Мороз пролетел над дворцом и покрыл его стены узорчатым инеем! У пленника дух захватило, но ему не дали времени на созерцание и втолкнули в беседку.
Да, дворец был великолепен, но это… Снова белый мрамор, снова мозаика из бриллиантов и сапфиров, но еще и потолок затянут темно-голубой тканью, а для того, чтобы совершенно уподобить его небу, усеян драгоценными камнями вместо звезд. Воистину, обиталище достойно богини… если эта высокая фигура, скрытая белым, богиня.
Она не тронулась с места при его появлении. Резко пахло курительными палочками; их светлый дым то стелился над серебристо-белым полом, то взмывал вверх, словно зачарованные змеи, обвивая неподвижную фигуру. Она не шелохнулась – только тихо вздохнула, и пленник вдруг остро, почти болезненно ощутил, что там, под этим покрывалом, – женщина и она ждет… ждет его!
Черноглазый с поклоном приблизился к богине, протянул ладонь. Заиграли, замерцали складки покрывала: из-под них показалась тонкая бледная рука. Эту руку черноглазый соединил с рукою пленника, обвив их какой-то длинной травою, а затем два стражника выступили вперед, держа по чаше с жидкостью, игравшей лунным, опаловым блеском. Пленник отворотился было от края, прижатого к его губам, но темные лица туземцев позеленели, а глаза заискрились недобрым фосфорическим огнем.
– Не страшись, – едва слышно произнес «наставник». – Ты должен быть возбужден к соитию приношением жертвы возлиянием. Подумай о том, что тебя ожидает. Цветами осыпаны ноги богини, плодоносно ее прекрасное тело. И над всем этим ты господин нынче ночью! Принеси жертву – и уподобься богу Индре, который просверлил устья рекам и рассек мощные чресла гор!
Пленник выпил из чаши, от волнения не чуя вкуса. Он хотел посмотреть, как будет пить богиня сквозь свое покрывало, и, сделав последний глоток, обернулся – чтобы покачнуться от резкого приступа головокружения: она уже была без покрывала, она смотрела на него!
Единственным ее одеянием были гирлянды белых цветов вокруг бедер и на голове, и сама она была похожа на белый лунный цветок. В ослепительном серебряном свете серебрились ее волосы и глаза, и пленник был потрясен, заметив, как лунно, нежно светится ее полунагое тело, в то время как тела танцовщиц и стражей казались еще более смуглыми, почти черными. Воистину, она была богиня… и сердце пленника перестало биться, когда он осознал, что эта волшебная красота сейчас будет принадлежать ему.
Прислужницы подступили к нему, совлекая одежды. Мелькнула мысль: стоило ли так тщательно его наряжать, чтобы так быстро снять все наряды, – но это была последняя мысль, связанная с тщетой человеческого существования.
Он трепетал, как бамбук под ветром, и все тело, все существо его, чудилось, источает песнь разгорающейся страсти.
Но пленник вдруг осознал, что не сможет овладеть богиней здесь, на глазах настороженно-покорных стражей, прислужниц – и особенно «наставника», под его нравоучительные постулаты. В памяти мелькнули сладострастные картины, зреть которые его принуждали. О нет, он не ученик, который покорно исполнит навязанный ему урок! То, что произойдет между ним и богиней, будет принадлежать только им двоим: мужчине и женщине. Да, он станет любовником богини… но ведь и богиня сделается любовницей человека!
Стража посторонилась – возможно, для того, чтобы им было просторнее возлечь на усыпанный подушками и устланный шелковыми коврами пол. Пленник не мог не воспользоваться удачей. Мгновения хватило ему, чтобы подхватить богиню на руки и, в два прыжка достигнув водоема, рухнуть вместе с нею в серебряно-белую, искристую, исполненную лунного сияния воду.
Странные, неверные лунные тени заиграли на взвихренной волне, сливаясь в причудливые узоры, и пленнику, опьяневшему от желания, почудилось, будто водоем полон другими парами, также безумными от любви, и вот уже все начали творить любовь – сначала едва касаясь, подобно мотылькам, а потом сплетясь в тесное кольцо, будто змеи.
Но лунный свет сыграл с пленником дурную шутку. Ослепленный, он потерял осторожность и слишком стремительно привлек к себе богиню. Ноги их сплелись, его меч раздвинул драгоценные врата… богиня вскрикнула, опрокидываясь в волны, – и пленник понял, что одним мощным ударом своего клинка вскрыл накрепко закрытую раковину девственности.
О, если бы он понял! Если бы он только смог понять! Он-то думал, что богиня искушена служением любовников, а она… невинное дитя, доставшееся неосторожному грубому святотатцу!
Он был так поражен, что даже забыл на миг: сам-то не получил удовлетворения и освобождения. Но сейчас это как бы ничего не значило. Луна светила богине в лицо, и глаза чудились серебряными. Капли на ее лице – это вода или слезы? Он осушал их губами бережно, едва касаясь, вновь пьянел от прикосновения к ее телу.
Он взял богиню на руки и поцеловал. Она коротко вздохнула, будто всхлипнула, и губы покорно приоткрылись. В глубине ее рта таился нектар страсти, и пленник упивался им до тех пор, пока дыхание богини не прервалось.
Никогда он никого не целовал так, как ее! Он просил прощения поцелуем и клялся в вечной любви, он сулил безмерное блаженство и умолял довериться ему, он повествовал ей о тех райских восторгах, которые ждут их в саду наслаждений… Чудилось, всю жизнь свою, все ожидание любви открыл он ей этим поцелуем! И она открыла ему свой страх, и желание изведать неизведанное, познать непознанное, и, когда она оторвалась от его губ и откинулась на ложе лунной волны, он уже знал: она готова принадлежать ему всецело и радостно примет его приход.
Серебряный чистый свет лился с небес потоками, словно поцелуи и любовная игра преобразили Вселенную и открыли в ней некие тайные врата, куда войти могут лишь двое – двое избранных для любви.
Он привлек ее к себе. Где-то на краешке сознания мелькнуло воспоминание о страже, «наставнике», танцовщицах, легкое удивление, что они даже не попытались укротить его своеволия… Впрочем, окажись они сейчас рядом, вцепись в него, угрожай всеми своими саблями и немедленной смертью, все равно не смогли бы разнять сплетенные, будто два вьющихся растения, тела, разомкнуть объятий рук, грудей, бедер, ног.
До слуха донесся сладостный звук органа, и пленник мимолетно улыбнулся, не зная, то ли бамбук под ветром поет, то ли любовь, творимая под луной, источает волшебные мелодии.
Какая-то пелена медленно опускалась на них. Это был сон или легкая сеть… пленник не знал. Он тонул, он медленно умирал, но последним касанием, последней дрожью немеющих пальцев еще цеплялся за ту, которая была ему теперь дороже жизни, – за свою богиню, которая стала его любовницей.
2
Священные воды Ганги
Ночь угасала. Ни одного облачка не было видно на небе, где одна за другой меркли звезды. Свет наливной луны поблек; на востоке загоралось первое зарево рассвета. Все светлее, все синее становилось еще сонное небо. На нем мрачно темнели очертания древних храмов: не то вечно спящих, не то вечно и нелюдимо бодрствующих. Звезды таяли, таяли в синей глубине. Царица ночи величаво опустилась за дальние горы. И вдруг, без малейшего перехода от тьмы к свету, над горизонтом затрепетал краешек солнца, и тотчас же багрово-огненный шар вынырнул на востоке, на миг приостановился, как бы озираясь, а затем дневное светило очутилось высоко над землей, мгновенно рассеяло мрак и охватило своими огненными объятиями весь мир. Осветились храмы и дворцы, палатки и бамбуковые навесы, великолепные сады, уступами спускавшиеся к реке. Лысый аист низко пролетел над рекой, словно приветствуя толпу народа, стоящую на берегу. Кого здесь только не было! Старики и зрелые мужчины, старухи в черном и белом, юные женщины, в своих разноцветных одеждах казавшиеся охапками цветов, брошенными на берег широкой зеленовато-голубой реки… К берегам пристроено было множество маленьких деревянных плотиков, на которых стояли дети. Они плескали на себя воду, ожидая, пока родители возьмут их на руки и войдут в священные воды для омовения.
Молодая девушка распустила волосы и полоскала их с той же важностью, с какой старый аскет мыл свою седую бороду и морщинистое лицо…
Брамины в белом, голоногие и простоволосые браминки, воинственные кшатрии и жалкие шудры – представители всех каст стояли в Ганге бок о бок, равные перед божеством, а потом, выйдя из воды, садились под какой-нибудь навес и отдавали свой лоб на волю художника, который расписывал его синей и красной краскою, увековечивая касту, к которой принадлежит человек. Разносчики со множеством пустых кружек, подвешенных на шестах, вбегали в реку, погружаясь чуть ли не с головой, выбегали с уже полными посудинами и со всех ног спешили разнести воду по улицам. Один из них налетел на какого-то оборванца, недвижимо стоящего у самой воды, всеми толкаемого, глазевшего на происходящее с таким изумлением, словно только что народился на свет и ничего не ведал об обычаях утреннего омовения водою священной Ганги, кое непременно для всех индусов, без различия происхождения, касты и вероисповедания.
Разносчик пренебрежительно глянул на зеваку. На его лбу не было знаков касты, поэтому разносчик на всякий случай насторожился. Вишну-охранитель, а если это какой-нибудь неприкасаемый? Лучше держаться от него подальше!
Рядом с оборванцем стояли странствующие монахи в своих длинных одеяниях, и разносчик вздохнул с облегчением: эти никогда не встанут рядом с парией, а если так, он тоже не осквернен.
Желая отомстить за мгновение страха, он ловко сорвал одну кружку со своего шеста и выплеснул ее прямо в лицо оборванцу. По серой пыли, сплошь залепившей этот задумчивый, растерянный лик, полились грязные ручейки.
Громко выкрикнув что-то неразборчивое, бродяга отер лицо руками, и разносчик воды удивился светлому цвету его кожи. Странный человек дрожал и в изумлении смотрел на золотое, красное, червонное солнце, от которого исходил неистовый жар.
– Что, замерз? – захохотал разносчик. – Или забыл, что священная Ганга свежа от близости горных снегов?
– Священная Ганга… – тупо повторил оборванец, с трудом ворочая языком. – С каких гор?..
«Опился пальмовой водки!» – наконец понял разносчик причину растерянности зеваки и только фыркнул в ответ:
– Не знаешь, так спроси у Ганги, она, может быть, тебе ответит.
– Какой это город? – едва шевеля языком, проговорил зевака. – Где я?
Разносчик хихикнул. До чего весело начинается утро! Не знать, в каком ты находишься городе, – это же в голове не укладывается! А впрочем, его голова должна быть занята совсем другим. Пусть-ка она лучше заставит ноги бежать по делам!
Разносчик поправил на шесте кружки, из которых уже изрядно выплеснулось воды, бросил прощальный взгляд на бродягу – да так и обмер. Тот зачерпнул в обе горсти воды и несколько раз плеснул в лицо, а когда выпрямился, каша из грязи и пота была уже смыта, и разносчик увидел чеканные черты, белую кожу и светлые глаза.
Адити, матерь богов, которую призывают на рассвете! Разносчик замер с приоткрытым ртом. Столь белолицы могут быть только парсы-огнепоклонники, однако у них черные глаза и волосы черные, а у этого из-под грязной тряпки, долженствующей изображать подобие тюрбана, выбивается мягкая светлая прядь. И щетина на щеках, и брови у него светлые, но главное – глаза: точь-в-точь такого цвета, как вода Ганги! Таких глаз не бывает ни у южных индусов, ни у моголов[1] – только у бхилли. Но бхилли никогда не заходят в города: они прокляты Махадевой-Шивой. Такие глаза могут быть еще у белых сагибов: инглишей или френчей. И волосы у них светлые. Но этот человек выглядит как одержимый.
Разносчик на всякий случай попятился, однако бродяга оказался проворнее и вцепился своими белыми пальцами в его плечо:
– Погоди-ка! – Он говорил на хинди, однако слова произносил нелепо. Впрочем, разносчик понимал его без труда. – Скажи все-таки, какой это город?
– Ванаресса, – ответил разносчик, осторожно поводя плечом и пытаясь вырваться, но сагиб-бродяга держал его крепко.
– Ванаресса? – повторил он в недоумении. – Нет, не знаю такого города.
– А какой же ты знаешь? – удивился разносчик скудости его познаний.
Иноземец свел свои размашистые светлые брови, напряженно пытаясь что-то вспомнить, и вдруг радостно выкрикнул:
– Беназир! Я знаю Беназир! Это далеко отсюда?
Разносчику никогда в жизни так не хотелось расхохотаться, как сейчас, однако что-то было в выражении лица этого бродяги, что остановило его. Поэтому он мысленно приложил палец к губам, а вслух произнес со всей возможной учтивостью:
– Ты можешь прямо сейчас отправиться в путь, но, даже если пойдешь по кругу, не затратишь и дня, чтобы воротиться обратно. При этом ты выйдешь из Ванарессы, а вернешься в Беназир!
Глаза разносчика озорно сверкнули. Жаль будет, если белый сагиб окончательно повредился головой и не сможет оценить изысканности и тонкой двусмысленности ответа!
Однако светлые глаза расширились в восторженном изумлении:
– Ванаресса – это и есть Беназир? Неужели?!
– Конечно, – хмыкнул разносчик. – Моголы называют наш город Беназир, а мы, дравиды,[2] зовем его по старинке: Ванаресса. И все довольны. И никто не теряется ни в том городе, ни в этом.
– Надо думать, ты их оба хорошо знаешь? – усмехнулся белый сагиб, и разносчик наконец-то дал волю смеху:
– А то! Я ведь вырос на улицах Ванарессы! Я разношу воду священной Ганги с тех пор, как себя помню. И мой отец был разносчиком воды, и мой дед, и отец деда, и его дед… Мы, вайшии, – торговцы, ремесленники, земледельцы, – конечно, очень небогатые, но все-таки произошли из живота великого Брамы, а не из его ног!
Зеленовато-голубые глаза растерянно моргнули. Похоже было, что иноземец на сей раз ничегошеньки не понял!
– Ты что? – недоверчиво спросил разносчик. – Ты разве не знаешь, что из ног Брамы произошли шудры, а они все равно что придорожная пыль? Даже если я буду умирать от голода и жажды, я не приму ни куска, ни глотка из грязных рук шудры!
– А если он помоет руки? – задумчиво спросил сагиб, и тут настал черед разносчика таращить глаза:
– Кто?
– Ну, шудра, – нетерпеливо пояснил иностранец. – Если шудра помоет руки, ты примешь у него кусочек или глоточек?
– При чем тут руки? – обиделся разносчик. – Даже если тигра мыть с золой, с него не смыть полосы! Так и здесь: шудра навсегда останется шудрой, хоть наизнанку его выверни! Вайшии останутся вовеки вайшиями, кшатрии, которые вышли из груди Брамы, навеки останутся кшатриями, брамины, из головы рожденные, останутся браминами… Ты не думай, я тоже знаю и помню свое место, – спохватился разносчик, что сагиб неправильно его поймет. – Я никогда не подойду со своей кружкой к брамину! Я хожу только по тем улицам, где торгуют и ремесленничают наши, вайшии!
– А не знаешь ли ты, где живут англичане? – взволнованно спросил белый сагиб, так взволнованно, словно его жизнь зависела от этого ответа.
– Ага! Я так и думал, что ты инглиш! – хлопнул себя по бедрам разносчик, за что и был вознагражден целым водопадом: этим неосторожным движением он опрокинул на себя все, что оставалось в кружках. По счастью, священная вода уже изрядно степлилась. – Конечно, я знаю, где живут твои соплеменники. Но их очень много, а Ванаресса – большой город.
– Мне нужны служащие Ост-Индской компании, – пояснил бродяга, и разносчик окончательно уверился, что перед ним истинный инглиш: эта братия не сомневается, что об их Ост-Индской компании должны знать все во Вселенной! Ну что ж, оборванцу-сагибу повезло: разносчик слышал эти три слова, магические для всякого белого.
– Этой могущественной госпоже служат почти все иноземцы, живущие в Ванарессе, – ответил он. – Но кто тебе нужен? Инглиш-воин или же инглиш-торговец?
– Да, тот, кого я ищу, скорее воин, чем купец, – после небольшого раздумья ответил бродяга. – Я знаю его дом по описанию. У него белые стены, а у ворот сидят два крылатых льва.
– О, так это один из домов магараджи Такура! – обрадовался разносчик воды. – В самом деле, говорят, он приветлив с инглишами и весьма умножает свои богатства с их помощью… хотя, по слухам, подвалы его дворцов и без того ломятся от сундуков с драгоценными камнями. Ну что ж, идем. Я провожу тебя к твоему инглишу, а то ты, пожалуй, все-таки перепутаешь Ванарессу с Беназиром!
И, донельзя довольный своей остротой, разносчик ринулся вперед, а чужеземец зашагал следом.
Вот уже видна белая ограда, и два крылатых льва скалят свои кривые зубы.
– Вот здесь живет твой инглиш, – сообщил разносчик. – Иди… и да помогут тебе боги! (Это он произнес вслух, а мысленно добавил: «Да не зажрут тебя до смерти собаки!»)
Он только успел сложить ладони в намасте,[3] как распахнулись створки ворот, высунулся слуга-индус, раздался разноголосый лай, и цепная свора разномастных псов выволокла из ворот высокую рыжеволосую фигуру, облаченную в белые одеяния, которые, по мнению разносчика, являли собою верх нелепости, но которые упорно носили все иноземцы.
– Беги! – крикнул разносчик, пускаясь наутек, уверенный, что безрассудный бродяга (сагиб, ха-ха!) последует за ним. Он пробежал не менее десяти десятков шагов, однако, не слыша за спиной топота, обернулся. Его волосы под тюрбаном заранее готовы были встать дыбом при виде окровавленного тела безрассудного бродяги… И он едва не рухнул, где стоял, увидев, как собаки радостно скачут вокруг рыжего инглиша, который стискивает оборванца в объятиях, хохоча и восклицая:
– О, Бэзил! Бэзил! Бэзил!!!
Разносчик некоторое время постоял, отпыхиваясь и задумчиво разглядывая эту картину.
«Значит, он все-таки сагиб», – кивнул наконец с облегчением и повернулся, чтобы следовать своим путем.
3
Старый друг
– Да что ты меня все кличешь Бэзилом? – отбивался между тем странный приятель разносчика от увесистых шлепков. – Я себя чувствую бог знает кем с этим именем, каким-то не то французишкой, не то… – Он вдруг захохотал.
Рыжеволосый хозяин не смог скрыть тень беспокойства, мелькнувшую на его лице.
– Не бойся, я не спятил, – ответил неожиданный посетитель. – Просто вспомнил, как смешно говорил этот туземец: инглиш, мол! Так вот, когда ты честишь меня Бэзилом, я ощущаю себя настоящим инглишем!
Хозяин поджал губы, но гость ответно приложил его по плечу так, что высоченная фигура покачнулась.
– Не обижайся, Реджинальд! Прости! Не знаю сам, о чем болтаю. Но до чего же я рад, до чего рад, что наконец добрался сюда! А ведь были минуты, когда казалось: со мной уже все, все, понимаешь?
– Ничего, Ва-си-лий! – В порыве сочувствия хозяин попытался правильно выговорить это несусветное, с его точки зрения, имя. – Теперь все позади. И клянусь, если ты не хочешь вспоминать, я не стану докучать тебе расспросами. Только умоляю: позволь мне называть тебя Бэзилом, а не Васи… Валиси… – Вторая попытка не удалась; Реджинальд сбился, плюнул, махнул рукой: – А, черт, мне все равно это не под силу! Кстати, французишка назвал бы тебя Базиль.
– Кошмар! – передернул плечами Василий. – Пусть бы только попробовал! Я бы ему показал кузькину мать! А помнишь Кузьку, а, Реджинальд? А помнишь?..
– Помню, помню, – кивнул англичанин, с явным беспокойством разглядывая осунувшееся – нет, мало сказать – натуго обтянутое кожей лицо своего друга, его полунагое, облаченное в лохмотья тело, ловя его беспокойный взгляд. – Я все помню. Как он, наш незабвенный Кузька?
– А что ему сделается? Наплодил детушек, живет припеваючи! Теперь управляющим в моем московском имении, следит за строительством нового дома. Старый пожгли сволочи мусью, я тебе писал, нет?
– Писал, писал! – Успокоительно кивая, как нанятый, Реджинальд неприметно подталкивал своего приятеля по просторному зеленому, осененному тамариндами и баньянами двору, направляя его к дому.
Сбежались туземцы-слуги, складывали ладони, кланялись… Хозяин негромким словом, взглядом, знаком отдавал короткие, четкие приказания. Стайка слуг разлетелась: готовить ванну, одежду, завтрак, постель, – с опаской озираясь на диковинного гостя, которого их суровый и важный сагиб привечал, будто посланника своего магараджи-кинга.
Собаки – от внушительного бульдога, который по ночам грызся с наглыми шакалами, и до скромного рокета (на нем лежала обязанность очищать дом от крыс) – плелись поодаль. Поведение хозяина внушало, что они должны быть добродушны и почтительны с этим человеком странного вида, однако у бульдога так и чесались клыки вцепиться в его широченные, столь приманчиво развевающиеся шаровары! Но пришлось перетерпеть: люди вошли в дом, а кто входил в дом, получал статус неприкосновенности – это было накрепко усвоено псами!
Реджинальд, в крепких челюстях которого явно было что-то бульдожье, тоже с острым интересом разглядывал одеяние своего приятеля, и вопрос, который он решил не задавать, так и жег ему язык.
– Tы можешь спрашивать меня о чем угодно, – усмехнулся Василий, заметив его взгляды и мученическое выражение лица. – Это бесполезно. Не потому, что я не хочу отвечать, – просто ничего не помню!
Pазочарование, отразившееся на лице Реджинальда, силившегося сохранять знаменитую английскую невозмутимость, на несколько мгновений сделало его похожим на обиженного мальчика.
– Совсем ничего не помнишь? – спросил он разочарованно. – Совсем-совсем?!
– Помню, что в Калькутте сел на паттамар,[4] чтобы насладиться морской экзотикой, – начал было Василий, однако появился слуга в белых одеждах и с поклоном заявил, что ванна и одежда готовы. И Реджинальду пришлось принести свое любопытство в жертву гостеприимству.
Спустя два, а то и три часа, когда Реджинальд уже готов был прожевать собственный язык, как говорят индусы, гость его наконец-то появился вновь. Он был одет в белые узкие панталоны, заправленные в легкие сапоги, в просторную белую рубашку (все из гардероба Реджинальда) и сейчас гораздо больше напоминал того озверелого гусара, который едва не вступил под Сант-Берти в единоборство с союзническим полком армии Веллингтона, сбившись с пути, когда скакал в штаб с донесением, и приняв англичан в предрассветной мгле за французов.
Строго говоря, жители туманного Альбиона первыми дали залп из ружей по неясной фигуре, что есть мочи несущейся со стороны вражеских позиций. Всаднику повезло, а коня задело; обезумев от боли, он рванул, не разбирая дороги, и подлетел к самому редуту. Пораженный наглостью «бонапартовского ветерана», вперед вышел командир полка, сэр Реджинальд Фрэнсис, и на самом плохом французском языке в мире предложил наглецу дуэль. Тот разразился подобающей случаю ответной тирадой, причем его произношение не оставило у англичан сомнения, что перед ними настоящий парижанин, и сломя голову кинулся на расплывчатый бранчливый силуэт, однако опомнился за мгновение до того, как скрестились два клинка. Этого спасительного мгновения оказалось достаточно, чтобы дуэлянты разглядели форму друг друга – и после минутного оцепенения оба захохотали во всю глотку. «Бонапартовскому ветерану» поднесли настоящего шотландского джина, показали дорогу к своим – и он отправился восвояси, успев, однако, объяснить свое внезапное прозрение с таким простодушием, что обидеться на него было просто невозможно:
– Да я, господа, отродясь не слыхал от француза такой дурной французской речи!
Потом они встретились в Париже, где Василий Аверинцев был при ставке русского командования, а сэр Реджинальд Фрэнсис находился в свите союзнического штаба. Потом они были в составе конвоя графа Павла Шувалова, сопровождавшего Корсиканца на остров Эльба, и в каком-то французском городке едва не полегли от рук взбунтовавшихся горожан, во что бы то ни стало вознамерившихся учинить самосуд над Наполеоном; крови его они жаждали теперь столь же пылко, как раньше курили ему фимиам. Обоих приятелей (к тому времени два офицера уже сделались приятелями) спас тогда ординарец Аверинцева, показавший французам знаменитую кузькину мать, и если в Париже прижилось русское словечко «быстро», забавно преобразовавшись в «бистро», то жители городка Сен-Жюль еще поколение спустя пугали своих непослушных детей жуткой, пострашнее любой ведьмы, старухой, породившей, однако, еще более страшного страшилу по имени Кузька…
Война окончилась. Друзья остались друзьями, однако узнавали о жизни друг друга только по переписке. На пути в Англию Реджинальд был ранен в стычке с полуодичавшими остатками Великой Армии и оказался принужден уйти в отставку. За годы войны имение его было разорено племянником-забулдыгой, и всего-то богатства у бывшего полковника оставалось честь да слово «сэр», которое он мог прибавлять к своему имени. Средств к существованию не имелось никаких, кроме весьма умеренной пенсии, и сэр Реджинальд, стиснув зубы, принял предложение своего дальнего родственника заступить на довольно высокий пост в Ост-Индской компании, точнее, в ее отделении в Беназире. Так что некоторое время в Россию шла почта из Индии, и Реджинальду очень легко удалось сманить боевого товарища совершить рискованное путешествие за тридевять земель.
Подмосковная вотчина Аверинцевых и дом в Первопрестольной были преданы огню отступающей французской армией, однако семья Василия осталась баснословно богата, и он, оставив строительство на незаменимого Кузьку, с охотой ринулся в путь. Он побывал в Персии, Египте, морем добрался до Калькутты, даже посетил знаменитое Азиатское общество, основанное в 1785 году сэром Виллиамом Джонсом. Его, признаться, влекло не столько собрание манускриптов на мертвых языках, равного коему не знала ни одна библиотека мира (разве что Александрийская, сгоревшая еще при Цезаре и Клеопатре!), сколько замечательная коллекция оружия индусов, бирманцев, яванцев и малайцев – коллекция редкая и достойная долгого изучения. Немалое время провел Аверинцев и в нижнем этаже здания, где размещалось Азиатское общество. Там, между анатомической галереей и кабинетом естественной истории, расставлены были замечательные остатки древнейшей индийской скульптуры, бактрианские статуи, буддистские барельефы и другие драгоценные памятники азиатского искусства разных эпох.
В Калькутте Аверинцева настигло весьма ядовитое письмо Реджинальда, не в шутку обиженного на запропавшего друга. Василию сделалось стыдно. Багаж его немало обогатился множеством экземпляров оружия, которым предстояло основать новый музей в подмосковном Аверинцеве, собиравшийся представителями этого рода чуть ли не столетие, но безжалостно разграбленный в одночасье «ценителями редкостей» из веселой Франции. Оставив свои приобретения, в числе которых были и книги, в Калькутте, Василий пустился в Беназир на экзотическом суденышке, однако путешествие, которое обещало быть легким и приятным, едва не стало для него последним в жизни.
Чуть ли не в четвертый день странствия налетел откуда ни возьмись жестокий шторм. Небольшое, но остойчивое судно долго боролось с пенистыми волнами; наконец оно уступило стихии и совершенно разрушилось.
Несколько человек пассажиров и матросов потонуло; однако Василию вместе с тремя товарищами по несчастью удалось взобраться в небольшую лодку, привязанную к судну, и спастись… хоть долгих десять дней это спасение казалось им невероятным. Кое-какой припас на самый непредвиденный случай в лодке был; увы, сухари скоро кончились, и перед незадачливыми мореплавателями маячил уже призрак смертоубийственной жажды, когда им удалось добраться до пустынного берега.
Но еще не менее недели коренья и травы составляли единственную пищу спасшихся. Благо корневища лотоса, найденного в небольшом озерке, оказались вполне съедобны. От спутников своих Василий (он уже несколько усовершенствовался в языке) узнал, что они называются хазан. Вкус этого хазана, когда он сварен, напоминает вкус брюквы. Его едят также поджаренным или печенным на угольях, а кроме того, из корневищ делают что-то вроде муки, которую всыпают в похлебку, чтобы сделать ее повкуснее и погуще. Зерна лотоса едят засахаренными, варенными в меду, или делают из них муку, вполне пригодную для всякого рода печений. Осенью, когда прекращается цветение прекрасного лотоса, его молодые побеги нарезают и едят вареными, как спаржу.
Увы! Все эти полезные сведения так и остались для Василия отвлеченной этнографией, ибо взять огня, чтобы сварить корневища и побеги, испечь хлеб из молотых лотосовых зерен, измученным путешественникам было решительно негде.
Природа морского побережья со всеми ее красотами была мертва для них. Никакие величественные виды, никакие хоры птиц и забавные ужимки обезьян, подбиравшихся почти вплотную к людям, не могли истребить в душе священного, первобытного трепета перед непроницаемой зеленой стеною джунглей, откуда почти беспрестанно, а ночью вдвое, втрое сильнее доносился звериный рев.
Путники добрались до устья какой-то реки, впадающей в океан, и продолжили путь по ее берегам, надеясь на встречу с человеческим жильем, однако здесь их подстерегала новая смерть – крокодилы.
Словом, они были на грани отчаяния, когда однажды ночью увидели неподалеку свет. Кинулись туда, подобно обезумевшим мотылькам, – и обнаружили рыбака, который приманивал огнем рыбу.
Узрев полуживых, ободранных бродяг, навалившихся на него из тьмы, рыбак сначала принял их за ужасных чудовищ – ракшасов и даже пустился наутек, однако сердце у него оказалось доброе и отозвалось на жалостные мольбы, расточаемые в четыре голоса. Он отвез страдальцев в рыбачью деревню, чтобы они пришли в себя, прежде чем пуститься в дальнейший путь в Беназир.
– Похоже, твоя память пряталась на дне этого блюда! – усмехнулся Реджинальд, поглядывая туда, где полчаса назад возвышалась огромная гора риса. – Tы прекрасно все вспомнил!
– Это что, карри? – спросил Василий, запивая водой острое рагу, которому он тоже отдал должное. – Оно не похоже на то, которое я ел в Калькутте.
– Да, в Беназире особенное карри. Обычно варят куски птицы с маслом, стручковым или красным перцем, зеленым анисом и небольшим количеством шафрана, чеснока и лука. Здесь же в карри добавляют еще и самую малость животного мяса.
– Мяса?! – с выражением священного ужаса переспросил Василий, кое-что уже успевший узнать об обычаях индусов. – Надеюсь, это не говядина?!
– Нет, поскольку для потомков Брамы сие смертный грех, – подмигнул Реджинальд. – И не свинина, которую на дух не переносят поклонники Аллаха. Это молодой барашек… и ты совершенно напрасно запиваешь его холодной водой. Отведай-ка вина. Французское! – с презрением пояснил хозяин. – Однако недурное. Правда, говорят, что выделывают эти вина на мысе Доброй Надежды, а не во Франции, ну да это даже к лучшему. Однако здешний климат скоро портит тонкие вина, а вдобавок насекомые точат пробки. Вообрази себе, они точат даже сигары! Особенно бесчинствуют муравьи!
Сэр Реджинальд болтал, изображал возмущение, смеялся, однако глаза его пристально следили за гостем.
Какой у него отрешенный взгляд… Конечно, пережить такое ужасное приключение, и где? Почти рядом с сушей, когда цель путешествия была достигнута! Но, с другой стороны, философски рассудил Реджинальд, человек должен понимать, что с ним может случиться всякая беда, если он едет в такие диковинные края!
Что произошло с Бэзилом? Он смеялся, глядя в лицо смерти на поле боя! Не мог же он так измениться после нескольких дней голодовки, подумал Реджинальд с апломбом человека, которому никогда не приходилось растягивать ломоть хлеба на три дня.
– Жаль, что у меня не такие длинные уши, как у зайца, – вдруг усмехнулся Василий. – Не то меня можно было бы очень просто оттащить от стола. Извини, Реджинальд. Это, наверное, выглядит устрашающе, но… Я уж и не знаю, когда ел в последний раз.
– Что же, эти добрые, как ты говоришь, люди в рыбачьей деревне не дали вам ничего в дорогу? – недоверчиво спросил Реджинальд – и даже похолодел, такими растерянными, пустыми сделались вдруг глаза его друга.
– Этого я не помню. Веришь ли, я не помню ничего с той минуты, как нас накормили во дворе дома старосты этой деревни и указали, в какие хижины идти ночевать. По пути меня догнал какой-то человек и, бесконечно кланяясь, сказал: мол, староста передумал и мне назначено идти в другой дом, который он сейчас и укажет. Мне было все равно. Я повернул за ним, мы вышли на берег реки. Помню, солнце садилось, небо было алое, золотое… Я приостановился полюбоваться на закат, а мой провожатый сказал: «Скоро полнолуние, небо будет чистым…» Потом кто-то положил мне руку на плечо – и все. И все, ты понимаешь? У меня как бы помутилось в глазах, а когда прояснилось, я увидел себя стоящим чуть не по колени в Ганге, а рядом был этот благословенный разносчик, нечаянно окативший меня ледяной водой из всех своих кружек. Где мои спутники? Где я был все это время, как добрался до Беназира, кто мне дал те экзотические лохмотья, в которых я предстал перед тобой, – этого я не помню. Совершенно не помню!
– Ну-ну, Бэзил! – Рыжий англичанин бодро хлопнул его по плечу. – Ты отъешься, отоспишься, отдохнешь – и память вернется к тебе, уверяю! Крепко же тебе досталось, дружище! А не стукнул ли кто-нибудь из этих дикарей тебя, скажем, по голове?
Василий с комическими ужимками ощупал свою светло-русую голову.
– Да нет, вроде не нахожу ни вмятин, ни шишек, – сообщил он весело, однако в глазах его не отразилась улыбка. – Но странно… может быть, ты и прав, потому что стоит мне напрячь память, как у меня в мозгу словно бы разливается серебряный свет – такой, знаешь, блеклый, бледный, лунный…
– Лунный?! – переспросил Реджинальд и тотчас поджал губы, однако Василий успел заметить выражение озабоченности, мелькнувшее на его лице, и Реджинальду пришлось объясняться.
– Видишь ли, – неохотно промолвил он, – здесь говорят: горе неосторожному, заглядевшемуся на луну с непокрытой головой! Ты заметил, что все индусы носят тюрбаны? Уверяю тебя, защищают головы не только от палящего, безумного солнца!
– Что, от лунного удара? – отмахнулся Василий. – Рассказывай!
– Уж поверь, – очень серьезно кивнул Реджинальд. – Да ты послушай! Видел ли ты в Калькутте настоящих бенгальцев?
– Конечно, они единственные не прикрывают голов, а ходят со своими черными гривами.
– Да, бенгальцы не носят тюрбанов даже в полдень, когда, как говорится, даже у слона может сделаться солнечный удар. Но и бенгалец не выйдет из дому в полнолуние, не прикрыв макушку! Опасно даже заглядеться на луну, а уж заснуть под луной… Припадки падучей болезни, безумие, даже смерть – вот наказание неосторожному. Оттого все стараются защитить головы ночью. А ты…
– А я, очевидно, этого не сделал, – задумчиво проговорил Василий, – и заснул под луною, и сделался не в себе, и мои попутчики, отчаявшись вернуть мне сознание, привели меня к священной Ганге и отдали под покровительство божества, которое не замедлило умилосердствоваться и направило ко мне своего посланца в лохмотьях и с кружками на шесте. Местный Меркурий, а? Правда, на нем не было крылатых сандалий. – Он расхохотался с видимым облегчением. – Ну что же, это многое объясняет. Это все объясняет! Спасибо тебе, Реджинальд, что надоумил! Жаль только, что с посланником мне не передали увесистого кошелька рупий взамен утопленного в океане!