Дети Барса Володихин Дмитрий
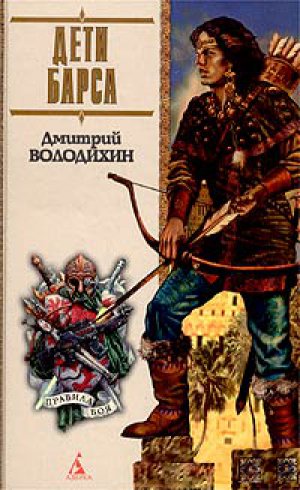
Клинок Баб-Алона
2508 круг солнца от Сотворения мира
«Раб, будь готов к моим услугам». – «Да, господин мой, да», – «Восстание я хочу поднять». – «Так подними же, господин, подними. Если не поднимешь ты восстание, как сохранишь ты свои припасы?» – «О раб, я восстание не хочу поднять». – «Не поднимай, господин мой, не поднимай. Человека, поднявшего восстание, или убивают, или ослепляют, или оскопляют, или схватывают и кидают в темницу».
Диалог господина и раба о смысле жизни
Энлиль судьбу властителя определил…
Гимн Шульги
Луна покинула небесную таблицу.
Для нежного и холодного существа по имени Син несносны грубоватые ухаживания крепыша Ууту. В месяцы дождя и долгих теней этот неотесанный грубиян выступает не в полной силе. Его можно терпеть, можно даже оспаривать его право овладевать небесной таблицей изо дня в день… ибо изысканным натурам неприятна любая регулярность. Порою они подолгу ведут беседу среди бледнеющей тьмы. Она, высокая худощавая Син, осыпает мужлана колкостями, тонкие губы ее растянуты в презрительной усмешке… Он, кряжистый коротышка, мускулистый живчик Ууту, терпит ее издевательства, все пытается завести с нею дружеский разговор, но, конечно же, напрасно. В конце концов, он прекращает спор своей властью, поскольку именно он владеет временем света. «Уходи!» – повелевает он Син. Тогда ей остается только смириться и уйти в изысканные сады тьмы. Но для столь, неторопливой беседы требуются месяцы дождя и долгих теней. Сейчас другое время. Реки вышли из берегов, землю оживила плодоносная влага, но месяцы зноя еще впереди. Стоит второй месяц высокой воды; солнечный диск просыпается рано, жар его нестерпим для белой кожи Син. Уста его источают странный аромат, от которого хочется быть побежденной… Но Ууту и сейчас еще не в полной силе, лишь время зноя и коротких теней сделает его владыкой.
…Луна убежала с небесной таблицы.
Миновала последняя доля второго шареха. Во втором шарехе Син появлялась в виде сияющего серпа. В первом она юным серпиком шествовала между прочими небесными знаками. Наступила первая доля нового шареха, третьего. По ночам холодная красавица будет выходить из города теней в наряде полнолуния…
Каждую долю в Высоком шатре войска Баб-Ану сменяется командующий, а вместе с ним ануннак, дающий силу и мудрость его приказам. Три лугаля трех мятежных городов, три ануннака, чья сила безгранична… Что может остановить могучий Урук, священный Нишгур и богатый Эреду, когда силы трех великих городов собраны воедино? Кто устоит против них?
Лугаль Халаш, князь священного города Ниппура, откуда начался великий путь ануннаков-освободителей, занял кресло из черного дерева. В такую рань сюда не зайдет никто из тысячников. Войско должно отдохнуть перед битвой. Они устали. Долю назад подошли отряды из-под Сиппара. Гарнизон сопротивлялся до последнего, в рядах борцов Баб-Ану, осаждавших сиппарскую цитадель, не хватало теперь каждого третьего. Шарех назад пала дальняя Барсиппа. И тоже пришлось потрудиться. Пускай отдыхают. Возможно, сегодняшняя доля завершит все их предприятие. А ведь в самом начале риск представлялся столь высоким, а прибыль столь, сомнительной…
Халаш был родом из молодой семьи, еще два поколения назад не имевшей права защищать свою жизнь, свое имущество и свой скот в стенах ниппурской крепости, когда город осаждают врага. Даже за право тор га приходилось платить! Теперь все переменилось. Ан! У твоих нет лежу я в пыли, тебе пою, твоей власти жертвую лучшее. Ты дал мне сияние мощи, какого не имеют и цари баб-аллонские. Ты возвысил меня и я слуга твой… Теперь все переменилось. Лугаль ниппурский, поставленный царем Донатом, мертв. Старые семьи унижены и смирились, а те, кто не смирился, пошли под нож. Праведники изгнаны из священного города, столичные чиновники-шарт скормлены псам. Молодые сильные семьи никому не уступят власть над Ниппуром. Ан! Послужим тебе до конца и совершим очистительный обряд над дерзким Баб-Аллоном, какой тебе понадобится. О, Ан!
…Его семья – из купцов, а еще того раньше они кочевали на самых границах Царства, не желая платить подати, рыть каналы и отдавать родичей в солдаты. Еще отец Халаша помнил те времена, когда старейшие никак не могли решить: осесть ли семье на земле ниппурской или сделать город своей добычей?
Лугаль раздувал ноздри. Привычка торговца: по запаху, исходящему от драгоценной ароматической палочки, определять, сколько сиклей серебра сейчас тлеет и превращается в дым? Напрасная трата. Да и весь этот поход следовало бы несколько… удешевить. Слишком много запасных стрел. Люди дешевле бронзы! Слишком много провизии. Конечно, идем по землям союзников, негоже обижать славный город Киш. Но ведь война… Да и земля эта – не священная земля Ниппура Кое-чем можно было бы и попользоваться.
Тонкий аромат перемешивался со смрадом, силился победить его и не мог. Полбеды, что всю ночь в шатре наслаждались друг другом буйные влюбленные, и запах их неистовых схваток все еще не выветрился. У звероподобного урукского лугаля Энкиду на ладонях кожи не видно под шерстью, а его ануннак Иштар имеет странную привычку являться в обличье хрупкой девушки, на вид ему (ей? кто их поймет?) не дашь и пятнадцати солнечных кругов… Так вот, это полбеды. Но чем, великий Ан, так несет от его собственного, ниппурского ануннака Энлиля? Чем? Сколько мы с ним вместе, но привыкнуть невозможно. Сидит на другом кресле, из чистой бронзы, до чего же дорогая блажь! Пребывает в любимом обличье – человекобыка. Бычьего в нем – рогатая голова и… Разумный человек не обратит внимания, а женщины долго провожают взглядом. Никогда, ни единого разу Энлиль не прикрывал этого одеждой. Все, что угодно, Только не это. Ну хорошо. Бык. Но запах-то не бычий. Простая ходячая говядина пахнет привычно; вообще, скотина, она и есть скотина, пахнет она вся уютно, по-домашнему. Как можно не любить скотские ароматы? А этот… Только по видимости бычьей породы. Тянет от него чем-то неопределенным, но очень, очень опасным. Оно и понятна – ануннаки – сильный род, люди против них как псы против львов. И глаза – совсем не бычьи. Когда Энлиль является в человекоподобном виде, нет в нем ничего необычного. А сейчас. Даже смотреть страшновато. Добро бы один стоячий зрачок, как у кота. А тут – по три таких зрачка в каждом глазу.
Энлиль заговорил. У него был голос зрелого мужчины. Глубокий, звучный. Но совершенно обыкновенный. Ничего особенного. Язык городов темного Полдня Он знал, похоже, с рождения. Все ануннаки говорят на полдневном наречии чисто и складно, точно выговаривая все слова. Впрочем, они также чисто говорят и на столичных говорах; никакой разницы – высокая эта речь или низкая. То же и с языком низкорослых эламитов. И даже редкие пришельцы с темной Полночи, люди-быки, чья мощь ужасает, говорят с ануннаками свободно, хотя их птичье щелканье, кажется, позабыто уже всеми со времен Исхода. У бородатых и черноголовых людей суммэрк, первейших слуг ануннаков, своя речь. Ануннаки понимают ее, а люди Полдня – нет… ну почти нет. Ведь все языки суть дети одного, старшего. Может быть, это речь людей-быков… Когда-то Халаш поинтересовался, как называется язык ануннаков в тех местах, откуда они родом. Энлиль засмеялся и в ответ издал странный басовитый гуд. Вот, мол, как называется. Запомни, мол, может, пригодится. …Так вот Энлиль заговорил:
– В полдень к тебе придут послы от царя Доната. Они попросят вернуть Урук. И еще кое-что. Помельче. Наверное, Сиппар. Взамен предложат мир. Так вот, я советую тебе принять его.
– Советуешь или повелеваешь?
– Ты давно рядом со мной, ты знаешь, я никогда не приказываю. Я предлагаю взять что-нибудь и называю цену. Иногда я советую тебе, как лучше поступить. За это ты кормишь меня, поишь и приводишь ко мне жриц. Ну и славишь меня, согнув колени, когда потребуется.
«Как будто он из рода купцов, а не я», – досадовал лугаль. Странные боги. Не повелевают, а торгуются, втроем стоят целого войска, но ленятся поднимать оружие… Вот Энмешарра тот был да-а-а. Но для него не существовало своих и чужих. Он различал только то, что стоит на его пути, и то, что там не стоит… Энмешарра… Ан, что это было за существо? Бог?
– Господь Энлиль, если позволишь, я пренебрегу твоим советом.
– Нечего иного я и не ждал. Для нас не столь уж важно, что именно сегодня произойдет. Будет ли заключен мир, погибнет ли ваше войско…
– Войско борцов Баб-Ану, господь.
– Какая разница? От этого оно не перестает быть вашим.
Лугаль этого не понимал. Впрочем, важнее было другое.
– Господь Энлиль! Ты говоришь странные вещи. Либо мир, либо нас разобьют… Но сегодня у нас по два или даже по три бойца на каждого воина в царском войске. Время главенства Баб-Аллона закончилось. Царь Донат и его эбихи пришли к славному городу Кишу за собственной смертью…
Халаш мог бы добавить многое в пользу своих слов. Гордый Баб-Аллон взят в кольцо. Борцы не дают землепашцам набивать амбары зерном, палят ячмень на полях, отгоняют кочевников с Полночи, не позволяя им продавать скот. А великая река Еввав-Рат, по которой могли бы подняться к столице Царства торговцы рыбой, перекрыта кораблями людей суммэрк: им сполна заплачено серебром, тканями и драгоценными дощечками из кедра. В столице скоро начнется голод, если уже не начался.
Правда, упрямый лугаль Урнанши, владыка славного города Лагаша, отложившись от Царства, не пожелал присоединить свои силы к мятежной армии, и ануннака своего, Нинурту, не впустил за стену, не поселил в храме… За то и лишен сияния мощи, Но ведь и в спину не ударил. Правда, Эшнунна осталась верной царю Донату… Но она далека от столицы и слаба. Правда, за Иссин пришлось заплатить полной мерой… Но это было давно, и раны мятежного войска затянулись.
С начала великого похода и до сих пор Творец пальцем не шевельнул, дабы защитить «излюбленных сыновей» своих. Неудачи одна за другой преследуют царя Доната.
– Послушай, лугаль. Ты ведь не дурак, хотя и низкого рода. Ты видел мою силу. Ты знаешь, как далеко я вижу. Я даю тебе хороший совет. Ни Иштар, ни Энки не пожалели своих лугалей, не сказали им ничего. Я – говорю. Я знаю, что ты еще можешь нам пригодиться.
– Но почему, господь? Мы побеждаем…
– Вы – никто. Пыль под ногами. Жидкая глина, которую научили шевелиться и не расползаться в бесформенные груды. Ваша война – это битвы слепых и одноглазых. Слепые – вы. Царь кое-что понимает. То, что сейчас кажется победой, не более чем иллюзия собственной силы. Слышал ли ты когда-нибудь о пехоте ночи?
– Клинок царства? Последний резерв? Но их совсем немного.
– Даже если бы царь Донат не привел семьдесят, два раза по тридцать шесть ладоней воинов, то и одной пехоты ночи было бы достаточно, чтобы разогнать ваш сброд. Слышишь ты? Их будет всего-навсего двадцать четыре раза по тридцать шесть ладоней, но вам – хватит. Нетрудно одноглазым убивать слепых…
Энлиль засмеялся. И насколько обычным был его голос, настолько же странным – смех. Словно камнем били о металл, не щадя ни того, ни другого. Лугалю захотелось уязвить ануннака. Есть на свете существа, которых боится и он. Во всяком случае, боялся когда-то.
– Господь, ты помнишь Энмешар…
Многое произошло в следующий миг. В шатре стало холодно, свет померк, а Энлиль исчез со своего кресла в мгновение ока. Сейчас же длинные и тонкие, как у женщины, пальцы с неженской силой сжали губы лугаля.
– Ты! Как ты смеешь! – зашипел названый бог Ниппура.
Тьма понемногу рассеялась, пропал и холод. Но рука ануннака все еще запирала уста Халаша.
– Послушай меня, дурак. Я как раз решаю вопрос: убить тебя сейчас же ради собственной безопасности или подождать?
Халаш сидел ни жив, ни мертв. Боялся пошевелить перстом, даже вздохнуть поглубже. С тех пор как выпал его жребий и жители освобожденного Ниппура выбрали его своим лугалем, прочие же пять вождей ушли из стен города, вокруг головы, плеч и ладоней Халаша пылало радужное сияние мощи – меламму. Такое же меламму было даровано Нараму из Эреду и Энкиду из Урука. Сияние тускнело, когда ануннаки выражали недовольство повелителями города, и, напротив, жарко вспыхивало, когда им нравились деяния лугалей. Не слова наглой священной коровы, не тон, которым они были сказаны, не сила пальцев ануннака больше всего Халаша испугали. О нет. Долго пребывая рядом чем-нибудь величественным и страшным, понемногу привыкаешь… Но прежде не было такого, чтобы меламму превращалось из ослепительного ковра в сеточку из редких и тусклых блесток. Краем глаза лугаль видел именно это: ладони почти не светились. Как жутко, Ан, как жутко!
– Так вот, послушай меня. Ты – не простой человек. Ты лугаль. И слово твое полновеснее целой толпы слов, если они изречены любым из тех, кем ты правишь… Одни только имена, произнесенные тобой, могут вызвать аз царства теней таких существ, от которых земля смешается с водой и небом, кровь зальет весь твой город на высоту человеческого роста, огонь пожрет все живое. И даже тридцати шести раз по тридцать шесть слов тебе не хватит, чтобы загнать их обратно… А мне, поверь, жалко город, призванный отдавать мне все лучшее, чем владеют его жители… Простофиля, обещаешь ли ты никогда не произносить имя, которое только что чуть не слетело с твоих уст. Если да, медленно кивни.
Если нет или если ты неискренен со мной, твоя голова утратит связь плечами… Мне нетрудно будет узнать самые потаенные твои желания, Халаш кивнул. Пальцы отпустили его губы. Когда ануннак уселся на свое место, лугаль разочарованно спросил:
– Но почему, господь? Ведь нам никогда не найти союзника сильнее…
Очень странно видеть смеющуюся корову. Рога чиркают по бронзовым фигуркам крылатых козлов, вставших по углам спинки кресла, как люди, во весь рост; струйки слюней брызжут во все стороны.
– Союзник? Страж матери богов – союзник тебе? Охо-хо. Да он в этом мире никому не враг и не союзник. Он просто – верная смерть. Для всех. Даже для меня. Я не знаю, как устроена его голова. Но тебя, меня, всех жителей Баб-Аллона, Урука, Ниппура, Эреду, всех людей суммэрк, всех эламитов, да вообще – всех, он видит не как людей или живых существ, а как обстоятельства. Он не понимает разницы между тобой, медным ножом и пшеничной лепешкой. Охо-хо, союзник! Ты понял меня, лугаль?
– Да, господь.
– Ты ничего не понял. Ты не знаешь, что он такое. Я объясню тебе. Как ты думаешь, лугаль, кто победит: я или все войско славного города Ниппура, если оно выйдет против меня?
– Победишь ты, господь…
Энлиль заглянул в глаза собеседнику.
– И все-таки ты ничего не понял.
– Я понял, господь. Нет никаких сомнений в том, что победишь Ты. Ничто не помешает тебе одолеть нас.
– Сейчас ты несколько приблизился к истине. Но почему, мой любезный лугаль, князь священной кучки халуп, мы, ануннаки, не бьемся народа царского войска? Отчего мы лишь помогаем вам, людям, но не делаем за вас всей работы? Ведь для нас это, как могло бы показаться, совсем не сложно? Втроем, полагаю, мы обратили бы в бегство намного более сильную армию, чем та, которую выставил сегодня Донат…
Халаш решил про себя: как только дела пойдут худо, он вызовет Энмешарру, как бы ни пугал ею Энлиль. Вызовет хотя бы ради того, чтобы этот насмешник вновь поперхнулся от страха. И пусть хоть вся благословенная земля Иллуруду от моря до канала Агадирт и Полночных гор вывернется наизнанку! Вслух же он сказал то, чего ждал от него ленивый бог Ниппура:
– Я слепец, господь. Должно быть, я не способен разглядеть нечто важное.
«Иногда боги бывают ленивы, иногда жестоки, иногда глупы. Они как люди. Вот и все, чего я не вижу. Если: Творец не властен над всеми нами, то боги – это просто очень много силы» – так размышлял Халаш. Лицо его… Да что его лицо: дед Халаша, великий торговец, выделывал с лицом еще не такие штуки! Даже очень мудрые люди купят у тебя старого коня или больную овцу, когда у тебя умелое лицо.
– Ты слепец. На земле и в земле, на воде и в пламени костра, в кронах деревьев и в дуновении ветра иногда можно увидеть, услышать, почуять шаги судьбы. И отойти с ее дороги. Мы можем кое-что делать за вас по вашей же просьбе. Иногда. Но вступи мы в открытый бой с царевой ратью, на ее стороне сейчас же встанут существа посильнее нас. Тогда вся благословенная земля Иллуруду вывернется наизнанку… А теперь скажи, милейший, ведь ты хотел бы знать мое истинное имя?
Лугаль молчал, пораженный. Не сам ли Энлиль повторял ему не раз: правильно назвать суть вещи или человека – значит наполовину завладеть им… Зачем отдает он истинное имя свое? Желает убедиться в покорности лугаля? Что не дерзнет он даже шагу сделать в направлении, откуда может грозить ануннаку опасность? Но ответь ему «нет», и все равно не поверит. Лугаль молчал, мудро молчал, даруя ниппурскому богу выражение лица, поворот головы и застывшие на подлокотниках пальцы – совсем как у потрясенного человека Лугаль молчал, будто бы пораженный.
– Действительно, не поверю, – молвил Энлиль, – но не столь уж это и важно. Имя мое таково, что использовать его мне во вред невозможно. Мое имя – цифра. Шесть раз по тридцать шесть и четыре. А имя стража матери богов – просто два. И мощь его во столько же раз, чтобы тебе было понятно, превосходит мою, во сколько шесть раз по тридцать шесть воинов и еще четыре сильнее всего двух. В наших краях так: чем меньше цифра, тем больше силы. А если ты не цифра, ты прах. Понял ли ты, благородный лугаль из погонщиков скота родом? Извини, запамятовал. Из скототорговцев.
– Господь, я внимательно слушал тебя. Уста твои…
– Уста мои как у коровы. И рога преогромные. Так вот, лугаль, представь себе того, кто встанет против него, против стража…
Халаш молчит. Кто встанет, тот и встанет. Не стоит бояться хорошей драки.
– …и что останется от земель и городов, которые станут знаками на таблице великой битвы… Со священным городом Ниппуром, например.
– Кто мы для вас, господь? Для тебя, для Иштар из Урука и для Энки из Эреду? Кто мы для вас? Зачем вы подняли нас в поход, если не верите в нашу победу?
– Кто вы?.. Вы – мертвые герои. Для Иштар и Энки лучше всего, если вы останетесь лежать здесь, на поле, недалеко от славного города Киша, как настоящие мертвые герои. Вам оставалось так немного до высоких стен Баб-Аллона… Ваши дети и ваша родня, я надеюсь, придут, чтобы отомстить за вас. Впрочем, по мне, так и трусы сгодятся. Если эти трусы достаточно ловки и сообразительны, чтобы заключить мир, когда им приносят его в дар. Пожалуй, этим трусам будет с чего начать потом, солнечных кругов через пять… или десять… Но, возможно, могучий лугаль, ты предпочтешь остаться героем в памяти потомков? Как нерасчетливо!
Халаш утвердился в своем решении. О, Энмешарра…
– Господь, я слушал тебя и слышал тебя. Если не хочешь помочь нам победить, отойди и не мешай, Мы победим сами.
Коровья морда усмехнулась совершенно по-человечески…
Когда царские послы, ничего не добившись, отправились восвояси, опустел и шатер командующего. Лугаль Урука Энкиду и лугаль Эреду Нарам ушли к своим войнам. Ануннаки, забыв о божественном величии, устроились на высоких пальмах – с комфортом наблюдать за ходом боя, ибо зрелище великого человекоубийства приятно для них. Халаш – велел вынести черное кресло на возвышение перед шатром. Вокруг него со брались бегуны – разносить приказы войскам, крепкие ниппурские воины в доспехах с медными пластинами и лучники народа суммэрк – защищать жизнь лугаля, писцы с красками, кисточками и кусками пергамента – записывать деяния храбрых борцов Баб-Ану, обнаженные по пояс барабанщики – подавать войскам сигналы. В отдалении переговаривались командиры резервных отрядов в сияющих шлемах и дорогах одеждах – им предстояло в нужный момент по мановению руки Халаша устремиться в гущу сражения и добыть победу.
Между тремя лугалями было заключено соглашение: только один из них, а именно тот, кому подошла очередь, командует войском и принимает все решения на протяжении доли. Другие два знают обо всем важном, что происходит в эту долю, подают ему советы, спорят с ним, однако всегда подчиняются его приказам. Но лишь красавица Син стыдливо закроет свой лик, лугаль прежней доли склонит голову перед лугалем новой доли.
Так вот, исход сегодняшнего дела и всего предприятия мятежных городов полностью зависел от решительности и искусства Халаша ниппурского…
Лугаль обозрел равнину, черную от людей и приправленную искрами от оружия, блистающего на солнце, – как густая темная похлебка бывает протравлена маленькими ломтиками чеснока. Плохая, неплодородная земля. Торговец Халаш оценил бы ее очень низко: соляные проплешины тут и там, глина… Чтобы поднять се, потребовались бы усилия сотен крестьян и множество солнечных кругов. Слева – канал, древнее которого мет на земле Иллуруду. Столь широкий и столь глубокий, что кажется, будто прорыли его не люди, а гораздо более могущественные существа. Начавшись в Баб-Аллоне, тянется он от полноводного Еввав-Рата к славному породу Катар, а оттуда еще дальше – к великой реке Тиххутри. Весной Еввав-Рат бесится, заливая все вокруг, и Тиххутри спасает жителей этой земли, принимая в себя губительную силу паводка. Даже цари баб-аллонские не в силах чистить канал чаще, чем раз в сорок восемь и два года – так он велик. Берег его зарос высоким тростником, превратился в болото и приютил во множестве речных змей, чей яд убивает долго, но наверняка. Справа – другой канал, гораздо уже и мельче, но зато облицованный кирпичом, чистый. Строить царские мастера умеют, тут ничего не скажешь…
Ан, к тебе обращаюсь, нас ты научишь так строить?
…На том берегу, за каналом, во множестве росли финиковые пальмы. В поле колосился добрый ячмень… Месяц аярт, отметил про себя лугаль, скоро можно будет собирать урожай, жалко, осыплется, пропадет… да что же тут такого – пропадет? Это ведь не наше, это царское добро, пусть столица скрипит зубами от голода, пусть встанет на колени, попросит лепешку с отрубями, с травой пополам! Может, дадим. Не все же им из нас тянуть! А все-таки жалко, очень жалко, хороший ячмень… Белые поля хлебной рати перечеркнуты были черными клинками пожарищ. В прошлую долю конники жгли тамошние поля. Выгорело, однако, не много. Погода стояла безветренная, а все приканалье с той стороны разделено на небольшие участки маленькими канальцами, отходившими от главного, и дальше просто канавами. Огонь никак не желал перескакивать с участка на участок… Горелые и уцелевшие шесты водочерпалок-даллим укоризненными перстами торчали на канальцах тут и там.
Как раз посредине, между двумя каналами, белела пыльными колеями дорога из Баб-Аллона в Киш. Там, вдалеке, за вражескими отрядами, над нею высился безлесный холм. Там, наверное, тучи царских лучников, камнеметы – словом, вся радость… Даже несведущему в военных делах человеку ясно: кто владеет холмом, тот владеет сражением.
Тысячи пеших бойцов царя Доната III закрывали своими телами дорогу на столицу. С флангов поставлены были конные отряды.
Таблица этого сражения проявится гораздо позднее, когда поле между двумя каналами укроется одеялом из неуемных человеческих тел. Тогда каждый увидит, что было на ней начертано и кому назначена была победа. Но как тут не увидеть, как не понять с самого начала?!
роли борющихся сторон ясны. Войско мятежных городов – таранит, ибо обойти невозможно. Силы Царства встречают удар тарана и стоят до последней крайности, поскольку отступить для них – гибельно…
Еще ни Халаш, ни царь не подали сигнала, а тлеющий огонек битвы уже отыскал себе первую пищу. Поединщики, отойдя от своих отрядов подальше вперед, раззадоривали товарищей геройством. Лучники вяло обменивались подарочками, целя в командиров. На той, царской, стороне громко скрипнули деревянные механизмы камнемета. Лугаль не слышал этого, но он увидел, как тяжелая глыба набрала высоту, а потом ударила землю, немного не долетев до его воинов. Нестройный хор солдатских голосов в отдалении выводил гимн в честь царя и всего Царства, как всегда бывало перед большим сражением.
Ууту стоял в сиянии всей своей огненной мощи – не так, как будет в месяцы зноя, но все же воинам, изготовившимся к бою, приходилось несладко. Тени исчезли.
Нет причин медлить.
Халаш поднял правую руку.
Сейчас же над полем поплыл барабанный гул. Пестрые знаний и флажки над головами борцов Баб-Ану колыхнулись. Пехота трех городов, стоящая в центре позиции, пришла в движение. Лучники выступили вперед и осыпали неприятеля стрелами. Большинство лучников мятежа – суммэрк. Лукавые люди, не любят меча не любят прямого боя сила на силу, зато стрелки из лука у них очень хороши…
Справа с гиканьем понеслась вперед конница кочевников, что живут на Полночь от Иллуруду. Ох, как опасно было приводить их на эту землю! И без того их летучие отряды то и дело пронзают провинции Царства… Прежде столичные эбихи останавливали их всех… нет, не всех, конечно, но очень многих, далеко от цветущих городов Иллуруду. В степях, где стоят одинокие крепости Царства, насмерть бились бабаллонцы вместе с провинциалами против диких всадников… Так было. Теперь, в смутное время, кочевники доходят до Урука, даже до Ура, даже до Страны моря. Изгнать их невозможно, покуда руки связаны борьбой с Донатом. Разве что вылавливать и отбрасывать назад самых дерзких… Или нанять. Многие сочли это неплохой идеей. Лугаль Нарам и ануннак Энки дежурили в ту долю. Нарам додал кочевникам половину платы за их мечи, обещал вторую часть после падения Баб-Аллона, принял трех тысячников с их людьми в войско и… приучил дикарей, что здесь они могут чувствовать себя как дома. Халаш был бы не прочь узнать после сражения о тяжелых потерях степной конницы. Об очень тяжелых потерях… Некоторые союзники беспокоят не меньше врагов.
Кстати, Нарам. Тоже родом из младшей семьи, бывшей в услужении у храма. Оттого слишком умный. Все желает перемудрить Доната. Все с ануннаками спорит. Халаш не то чтобы знал, а нутром чуял: победа достигается не силой и не умом, не храбростью и не богатством, а… Ан знает чем. Чем-то таким, что способно связать и то, и другое, и третье, и четвертое воедино. Но как назвать такую способность? Опять же, Ан знает… Но перехитрить бабаллонцев невозможно: Иначе бы их перехитрили и растоптали шесть раз во тридцать шесть солнечных кругов назад или еще раньше. Нарам придумал попытать военного счастья новым способом. Посадил на колесницы лучников, прикрепил к ободам колес медные ножи и костяные шипы, а лотом уверял всех: мол, нагонит страху на царскую рать. Во-он они, его колесницы, домчались… а сзади держится конный отряд. Лошади дороги. Ох, как дороги лошади, расход ужасный! От Ура и Эреду на Полдень и до самых степных форпостов Царства на Полночь не найти удобного места, где их можно разводить. Так что почти все они – привозные. И ужасно, ужасно дороги.
Что там, вдалеке, справа и слева, не видно было Халашу. Побили кочевники царских конников или не добили? Нагнали страху колесницы Нарама или не нагнали? Пыль, поднятая копытами лошадей, встала непроглядной завесой. Далеко. Не видно. Прямо перед насыпью, на которой стояло кресло Халаша, пехота ударилась о пехоту. Над полем стоял всеобщий крик сражающихся воинов и лязг оружия. Царские пешие бойцы построились ровными рядами, выставив длинные копья. Когда падал один, на его место тут же становился копейщик из второй шеренги. Нападающие не имели никакого правильного строя. Толпы борцов Баб-Ану, словно множество роев рассерженных пчел, бились о стену щитов, кое-где проламывали ее ненадолго, но сейчас же вновь откатывались назад. Если бы Донат мог выставить равное по силе войско, центр мятежников был бы уже разбит. Но на равнине между каналами держало строй даже меньше бойцов, чем говорил Энлиль. Может быть, тридцать шесть раз по тридцать шесть ладоней. Может быть, сорок два раза Или, как считали полночные города по-старому, будучи еще под властью царя, тысяч восемь… Плюс немногочисленная конница. По четыре бойца Баб-Ану на каждого царского ратника. Халаш умел отлично считать. И счет говорил ему со всей определенностью: как бы умело ни сражались пехотинцы Доната, опора всей позиции, к вечеру их задавят числом, голой силой цифр, превосходящих другие цифры.
Если ты не цифра, ты прах…
С утра тени понемногу подбирают полы своей одежды, как люди, переходящие реку: все глубже, глубже, короче должны быть полы, иначе промокнут… Когда Ууту прямо стоит над землей и поливает своим жаром все живое, теней нет, полы подобраны к самому поясу Но потом становится не так глубоко…
Когда пальцы, тростник и фигуры людей стали давать крошечные тени, к Халашу явился бегун от Нарама. Перевел дух, опустился на колени, коснулся лбом земли.
– Говори.
– Высокий лугаль! Мой господин беседует с тобой моими устами… – Бегун перенял даже медлительную раздумчивую манеру Нарама. – Прямо за царской конницей большое болото, Халаш. Колесничих частью перестреляли из луков, частью же пропустили через строй, и они въехали в это болото. Конницы примерно поровну, никто не может одолеть. Дай хоть семьдесят две ладони бойцов, и я сломаю их. Я, Нарам, лугаль Эреду! сказал.
– Передай господину своему, лугалю Нараму, мои слова своими устами. – Халаш помедлил. – Бейтесь сами. Я, Халаш, высокий лугаль, сказал. Беги обратно…
Нет, он ничего не даст. Черная пехота еще не вышла на поле. Что решит потасовка двух жалких горстей конницы? Пусть убивают друга. Им есть чем заняться на этой таблице.
Вскоре к шатру прибыл второй гонец, от полночных степняков. Их, дикарского рода. Борода покрашена в лазурь. Соскочив с коня, едва наклонил голову и заговорил на певучем наречии кочевников:
– Бой не взят ударом. Бой возьмут мечи.
Ни слова не говоря, лугаль указал ему в ту сторону, где сражались прочие дикари. Мол, сообщил и возвращайся. Здесь выходило то же самое, что и у Нарама. Никто не опрокинул неприятеля. Теперь конники сошлись в неудобной и тесной сече. Там так узко, так худо для конного боя! С одной стороны – канал, с другой – кипение сражающейся пехоты. Не развернешься. Количество не сыграет роли. Тут либо одна из сторон переупрямит другую, а это вряд ли – и те и другие не любят отступать… либо… все решит пехота, и остается ждать успеха в центре.
Пока все шло, как и ожидал Халаш. Перед строем царских ратников лежало множество убитых борцов, но командиры мятежников приводили все новые свежие отряды. Бой шел своим чередом, перемалывая людей.
…Явился бегун от Энкиду.
– Говори.
– Высокий лугаль! Мой господин беседует с тобой моими устами… – Гонец сделал паузу и вдруг рыкнул изменившимся голосом:
– Я иду. Я, лугаль Урука, сказал.
– Возвращайся назад.
Должно быть, это очень страшно, подумал Халаш. Должно быть, это очень страшно, когда стоишь с копьем в шеренге, а на тебя идет чудовище с дубиной, усеянной каменными и медными шипами. Ибо именно такое оружие любит чудовище по имени Энкиду. Отсюда не различить, как повел своих людей лугаль урукский. Но в других боях Халаш бывал поближе и видел все своими глазами. Урук славится силачами, воины там хороши и любят меч. Однако это всего-навсего люди. И не более того. Их ведет за собой Энкиду. Их и… Очень редко люди бывают посланцами древних теней. Им нелегко среди сородичей, поскольку высокая тьма делает их нестерпимо дикими. Но силы в каждом из них – на трех человек, и звери идут за такими, как цыплята за курицей.
Вокруг гиганта с дубинкой, ослепительно сияющего своим меламму, прямо перед остальными урукскими пешими бойцами бегут степные львы и волки. И, добравшись до царской пехоты, звери будут сбивать ратников и рвать клыками. Не ради насыщения, а ради верности Энкиду. Тени слегка удлинили полы своих одежд.
Очередной заряд из камнемета поднялся над бьющимися пешцами и ударил в самое человеческое месиво.
У подножия холма строй ратников Доната стал понемногу прогибаться. Показалось? Нет, отходят. Отходят, отходят! Вот уже вступили на склон холма, им там неудобно драться. Как видно, добился своего чудовище Энкиду…
Медленно-медленно пешая рать Царства уступала поле боя мятежным городам.
Если Творец не пошлет чудо царю Донату, его дело погибло. В самом центре, там, где прогнулся пеший строй, Энкиду разрежет баб-аллонскую рать надвое И тогда – все, конец. Осталось подождать скорого и неотвратимого исхода.
Халаш прикинул: он бы сейчас рискнул последним резервом. Цари баб-аллонские всегда поступали именно так. Уже случались мятежи, да и тьма внешняя не раз бросала свои полчища к воротам столицы. Когда нечем больше остановить врага, очередной государь вынимает свой черный клинок…
Ну так что же, покажет ли Донат пехоту ночи? Пора бы. Еще чуть-чуть, и она станет бесполезной. Лугаль ниппурский так ждал этого момента. Так готовился к нему. Чтобы раз и навсегда. Чтобы прихлопнуть наверняка. Прихлопнуть и забыть. Сколько их там будет? Двадцать четыре раза по тридцать шесть ладоней пеших бойцов? У него наготове втрое больше людей, отборных. Давай, царь! Бей.
А!
И впрямь, на вершине холма показались воины. Последний резерв Царства выходил на поле. Все произошло так, как ожидалось. Что теперь? Теперь они ринутся вниз, сомнут урукцев Энкиду, продавят пешие отряды, вставшие за ними, и растеряют силу удара в этом бою. Вот тогда-то ими и займется резерв… Ну, давайте! Это так удобно – ударить сверху.
Пехота Ночи не двигалась с места. Но перед нею происходило нечто странное. Продвижение Энкиду замедлилось. Остановилось. Люди на вершине холма все еще не начали своего движения, а борцы, знаменитые урукские силачи, побежали вниз, оставляя склон. Только теперь лугаль ниппурский понял: пехота ночи поливала атакующих стрелами. Четыре тысячи лучников, которые, по слухам, будут так же хороши в бою на мечах, а если надо, устроят копейный таран, – что это такое, Халаш не знал. Никогда не видел. Сейчас они работали как лучники. Четыре тысячи стрелков…
Склон опустел. Теперь пехота ночи начала свое гибельное движение. Халаш увидел, как спускается во склону один черный квадрат… второй… третий… всего восемь. Восемь маленьких черных квадратов… Не ускоряя шага, будто и не нужна им сила удара, они добрались до подошвы холма и нырнули в кипящее море вражеской пехоты. Лугаль не мог разобраться, что происходит у него в центре. Никак не разглядеть…
– Сейчас разглядишь. – Энлиль стоял у него за креслом. – Ты еще не знаешь, лугаль, как это бывает, когда твоя судьба оказывается у тебя под носом? Сейчас она придет за тобой.
– Я готов, господь Энлиль.
– Ты слепой дурак, лугаль. Беги, пока ты еще можешь удрать отсюда. Мне удобно было вершить дела вместе с тобой. Мне незачем давать тебе дурной совет. Так вот, беги.
– Зачем тебе надо спасать меня, господь? Меня не нужно спасать. Но если бы и потребовалось, отчего ты так заботишься обо мне? Ты, воплощенный холод!
– Затем, что ты ценный и умелый дурак. Я истратил на тебя столько времени! Другие дураки, поверь, намного хуже. Нарам и Энкиду тебе в подметки не годятся. Беги, Халаш, беги! Мы еще приставим тебя к делу, мы еще возвысим тебя. Быть может, ты вновь станешь лугалем.
– Мне не надо им становиться вновь. Я государь Ниппура и останусь им…
– …примерно семьдесят два раза по тридцать шесть ударов сердца. Столько тебе еще быть лугалем Ниппура, упрямец!
– Помоги или отойди, господь. Ануннак замолчал.
Халаш наконец понял, чья берет в центре. Черные квадраты разрезал пешие отряды борцов, как медный нож режет баранье мясо. Ни на миг царские бойцы не останавливались. За их спинами тянулись широкие коридоры, усыпанные трупами и телами умирающих. Следуя за ними, поредевший строй царских копейщиков шаг за шагом теснил растерявшихся мятежников по всему центру. Вопль страха набирал силу над пехотой борцов Баб-Ану…
Черные шли молча. Никаких кличей. Никаких гимнов. Этим не нужно ни кличей, ни гимнов.
Лугаль поднял левую руку. К нему подошел гуруш Нумеа, командир ниппурских пешцов. Туда, как и в отряд Энкиду, отбирали лучших, сильнейших, самых рослых. Им достались дорогие доспехи. Их обучили бою в сомкнутом строю, как дерется баб-аллонская пехота Каждый из них ехал на онагре, а не взбивал ногами дорожную пыль: силы этой рати сохраняли для решающе го сражения. Халаш показал Нумеа цель атаки. Ниппурцы двинулись навстречу черным квадратам.
Лугаль должен был закончить дело сам. Да, отец его был торговцем, и дед тоже был торговцем. Но у всей их семьи текла в жилах слишком беспокойная кровь, чтобы навсегда согласиться с чьей-нибудь властью. Изворотливая покорность купца так и не стала мэ для рода Халаша. Отец незадолго до смерти сказал ему: «Все, что ты получишь после меня, – грязь. По-настоящему дорого стоят только две вещи: уметь повелевать другими людьми и никогда никому не подчиняться. Никто не встанет над лугалем Ниппура. За власть и силу свою пусть умрет гордый Баб-Аллон! Труп Царства будет лежать на этом поле…
Последний резерв мятежных городов поведет в бой он, лугаль священного Ниппура. Лучших конников, собранных в трех городах, от людей суммэрк, от эламитов и кочевников. Лучших из лучших. Их не меньше, чем бойцов во всех восьми черных квадратах. Они свежее, они рвутся в бой. И еще одно, главное. В отряд допустили только тех, кто крепко верит в пришествие Ана и его будущее воцарение. Эти будут биться за своего бога, а за богов люди бьются даже лучше, чем за собственную жизнь.
Черные квадраты разделили войско мятежных городов пополам. Ровно посредине. Они добились того, чего тщетно добивался звероподобный Энкиду. Не ускоряя и не замедляя темпа движения, пехота ночи двинулась навстречу ниппурцам. Стена щитов и копий со страшным грохотом столкнулась с другой стеной. Ровно миг держалось равенство сторон. Миг, не более. И миновало безвозвратно сразу после первого удара. Черная пехота прошла сквозь ниппурцев, никак не отличив этих воинов ото всех прочих. Будто не лучшие бойцы священной земли противостояли им, а пьяный сброд, будто не было истрачено столько серебра из городской казны на их доспехи!
Халаш хотел ударить сбоку, когда ниппурцы завяжут бой с черной пехотой. Ничего из этого не вышло.
Конники едва успели тронуться с места, а ниппурского отряда уже не существовало. Дорогу им преградила бегущая, обезумевшая от ужаса толпа. Последний резерв лугаля вынужден был остановить движение и пропустить беглецов.
Черные квадраты, разбив ниппурцев, остановились. Халаш и его конники стояли против них, изготовившись к бою. Лугаль видел пехоту ночи впервые. Так близко, что не составляло труда разглядеть лица. И это были лица людей совершенно спокойных и уверенных в исходе дела. На них не читалось ни страха, ни гнева, ни даже усталости! Халаш понял, что на таблице битвы с самого начала было начертано его поражение. Он не сумел бы победить эти восемь квадратов, хотя бы встал против них со всей армией мятежных городов…
Сколько там ему осталось ударов сердца?
Халаш мысленно простился со званием лугаля. Простился со своим прошлым, прошлым торговца. Простился с семьей. Его судьба очищалась ото всего, что не нужно для последнего броска. Древняя ярость, страшная, неукротимая ярость против всех, кто смеет возвышаться, полыхнула багровым пламенем. Энлиль! Ты никогда не поймешь меня. В тысячу раз лучше укусить и подохнуть, чем служить. Халаш хотел одного – дотянуться и ранить, убить, разорвать, как рвут людей львы Энкиду, Помоги, Ан!
Кто желает быть выше меня? Сильнее? Чище? Кто желает править мною? Кто желает посадить меня на цепь? Кто хочет, чтобы я отказался от ничтожной доли моей свободы? Умри!
Умрите вы все!
… Конную лавину на полдороги остановил дождь стрел. Воины падали, лошади переворачивались, топтали копытами своих, опрокидывались вместе со всадниками… Через барьер человеческих и лошадиных тел прорывались редкие умельцы – лишь для того, чтобы умереть на несколько мгновений позже. Бесполезное оружие рассыпалось по земле. Лучшие из лучших так и не смогли нанести удар.
Лугаль священного города Ниппура слетел с коня, грянулся оземь, круги поплыли перед глазами. Его войско гибло, а он сам валялся в пыли и ждал смерти. Ан! Отчего я даже не дотянулся до них? Не достал хотя бы одного? Ярость все еще кипела в Халаше, мешаясь с бессилием.
Сквозь гул сражения, сквозь крики гнева и боли прорывались иные звуки. Гуруши черных отдавали короткие лающие команды, стрелы с ласковым шелестом искали податливую плоть…
Отчего я не ранил хотя бы одного из них?
Конники падали, падали, падали, а у черных лучников все никак не заканчивался запас стрел.
Да пусть же вместе с надеждой и свободой пропадет вся эта проклятая земля! Пусть не будет у нее хозяина!
– Иди ко мне, давай иди, Энмеш…
Энлиль, все еще стоявший на насыпи, облокотившись о кресло командующего, поднял бровь. Халаш получил страшный удар в голову. Надо же было агонизирующей лошади так метко приложить его копытом…
Костер уже догорел, и только угли переливались багровым сиянием.
– Только три? Ты нашел только три стрелы изо всех? – Брови сотника Пратта изогнулись совершенно особенным образом. Если бы Творец – говорили эта брови, – явился бы прямо сейчас в сверкающих одеждах и заговорил громовым голосом, то и это не вызвало бы большего удивления. Рот, нос и щеки сотника никогда не были выразительнее пасти, носа или щек какого-нибудь онагра. Или, скажем, крокодила. Но брови собрали запас выразительности, предназначенный для всего лица. Бровями сотник гневался, ими же улыбался, они же выражали тоску, обиду, приязнь и желание выпить. Особенно хорошо получалось удивление. Небо не видело более живописного зрелища. Пратт во всем похож на медведя: велик, могуч, косолап, на редкость мохнат – и лишь аккуратно подстриженная бородка свидетельствует о том, что мишка вроде бы маскируется под человеческую особь. Очень и очень неумело маскируется. А голос – о! – всем голосам голос! Какие грозные рыки перекатываются в горле у сотника, когда он всего-навсего просит дать ему точильный камень или, скажем, хвалит местную сикеру – мол, знатное питье… Или, например, кормит коня каким-нибудь лакомством, дружески похлопывает скотину по морде, приговаривая совершеннейшую бессмыслицу, как и положено делать, когда разговариваешь с конями, любит он конягу, да и как его не любить, редкой крепости нужно существо, чтобы хребтина выдерживала этакую тяжесть, – так вот, сотник, значит, кормит-похлопывает-приговаривает, а конь прядает ушами и легонько пятится: хозяин-то хозяин, давно знакомы, да и говорить пытается все больше по-человечьи, а все-таки до чего похож на медведя, того и гляди, лапы раскинет, заревет ужасно и загрызет до смерти… И уж совсем явным было родство сотника с медвежьей породой в двух других случаях: во-первых, когда он залезал в канал и отмывал грязь. Поглядев на Пратта, на пучки его мышц, на узлы их, потягивания и перекаты, даже самый драчливый драчун отказался бы от мысли хотя бы раз в жизни затеять спор с этим человеком. Задерет… И во-вторых, время от времени Пратт гневался. Действующему сотнику вообще всегда найдется на что гневаться, даже если рядом с ним отсутствует неприятель. Трудно представить себе в полней мере, какие именно слова и в каком количестве извергает глотка сотника, когда он видит покосившуюся коновязь. Вот, смотрите, коновязь, а вот вся ее родня, друзья-приятели, множество сопутствующих предметов, а также… как бы получше выразиться? – многочисленные нежные воздыхатели оной коновязи, способствовавшие приведению ее в покосившееся состояние. Важно не то, что говорит сотник в подобных случаях. Важно – как. А в самом деле – как? Да так, что любому серьезному медведю стало бы чертовски завидно.
А теперь Бал-Гаммаст нашел только три стрелы, израсходовав всю связку, и брови этого самого медведя собрались в кустистый треугольник, лапы, то есть руки, разошлись в жесте полного непонимания, и все медвежье тело сотника приняло такую неуклюжую позу, что непредубежденному человеку стало бы понятно без подсказок: да, если уж медведя довели до столь высокого градуса недоумения, то дело серьезное.
– Ну что ж, дело хозяйское, Балле… Ты не обычный воин, к чему тебе беспокоиться…
– А если бы я был обычным воином, твоим солдатом, Пратт, что бы ты сделал со мной? Высек? Лишил жалованья?
Медведь качает головой: мол, жалованье – святое, отбирать его хуже, чем выливать сикеру не в рот, а на землю, неужели мы изверги какие-нибудь?
– Побил бы?
Морщится. Может, конечно, и помял бы солдатские косточки для порядку, но болтать об этом – к чему? Хорошая собака не лает, а кусает. Нет, молодой человек, эту возможность мы утопим на дне болота.
– Э-э… ну а что?
– Ты нашел бы, помет онагрий, хоть половину связки. Не меньше. Через седмицу, через месяц, через круг солнечный, а все равно нашел бы. Клянусь бородой!
– Через месяц, Пратт? Врешь же ты, дедушка. Мы бы ушли от этого места, неужто ты специально отправил бы меня отыскивать стрелы? Да врешь же ты, дедушка! Видит Творец, врешь.
Медведище пожал плечам». Стояло бы рядом дерево, подвернулось бы дерево под медвежье плечо так дереву несдобровать. От единого неосторожного толчка рухнуло бы оно, как воин, павший на поле боя. Словом, Пратт пожал плечами энергично и укоризненно.
– Это мне ни к чему, салажонок.
– А-а? М-м-м? Что?
– Подсказываю: не важно, где бы ты нашел их…
– Все равно не понимаю, Пратт.
– Ты бы, помет онагрий, принес мне ровно столько стрел, сколько нужно, и сказал бы: «Так и так, отец мой сотник, нашлись». И я бы тебе ответил: «Так и так, сынок. Вижу я, ты стоящий солдат. Поэтому больше ты не будешь охранять казарму каждую ночь».
– А ты можешь заставить солдата караулить казарму каждую ночь? Пратт, а днем, днем ты дашь ему спать?
– Днем воины не спят. У. них найдутся другие дела.
– Так как же».
– А как ты стрелы потерял? Получилось же как-то… Вот так и у меня получится. Я караульным могу поставить кого захочу. Послушай старого, в четырех местах продырявленного медведя, салажонок. Когда-нибудь, если Творец пожелает, тебе придется покруче обходиться с людьми, чем я. Покруче! Твои слуги, они ведь не стрелы будут искать… Стрела – что? Тьфу. То есть для сотника Пратта Медведя стрела, может быть, и не тьфу, а вот для тебя…
– Откуда ж их взять?
– Мне не важно, откуда ты их возьмешь, важно, чтобы они были. Укради. Выпроси. Найди другие стрелы на том месте, где их израсходовал другой лучник. Купи на свое жалованье, уж если ты такой же ленивый, как задница моей бабушки. А бабушка норовила не вставать, пока не случится пожар.
– Убедил, дедушка…
– Да не зови меня так! Мой хвост по земле еще не стелется.
– Меняю дедушку на салажонка. А стрелы пойду поищу.
– Нет, не пойдешь.
Бад-Гаммаст с понятным удивлением уставился на сотника. Не сходя с места, найти собственную стрелу, которая лежит-полеживает в трех сотнях шагов отсюда это настоящая задача для военного человека. Вероятнее всего, он еще недостаточно проникся духом, армии, а потому не совсем понимает, как оную задачу решить.
– Сумерки уже. Ты не сыщешь. Я пойду, у меня глаз наметанный. На такие вот дела. Посмотришь потом, сколько ты должен был найти… Повернулся спиной. Сделал три шага. Бросил через плечо так небрежно, так мимоходом:
– А ты пока мясо достань из-под золы… Старый, хитрый, наглый, коварный медведь! И вот ведь как издалека повел дело, лишь бы самому в горячую золу не лезть. «Это мне ни к чему» салажонок…" Лукавый и косолапый медведище…
Мясо пережило бурную биографию, прежде чем попало в кострище. Не столь уж важно, где оно паслось и кто его прирезал. Важнее другое: жестче этой баранины Бал-Гаммаст в жизни ничего не пробовал. Сотник резал мясные ломти потоньше и клал их под конскую попону. «Объездив» нехитрый солдатский харч в течение дня, Пратт вынимал его, отмывал от конского пота и говорил: «Вот, дело. Было твердым, как кизяк, стало мягким, как дерьмо». Потом обваливал мясо в глине, зажимал между двух плоских камней и закапывал в горячей золе. Довольно потирал руки и со значением поглядывал на Бал-Гаммаста: ясно, сейчас скажет: мол, тут не как с бабой, вынуть куда как тяжелее, чем сунуть…
Бал-Гаммаст потыкал мечом золу. Уголек подло выстрелил ему в руку. Здесь, кажется… Дым ласково потер ему очи. У-у! А с другой стороны? Э! Дым! Ты-то куда? Стой, где стоял! Э! Да что ж ты пристал ко мне!
…Сделав дело, он растянулся на траве. Это облако похоже на шлем. А это – на собаку с огромными ушами. А вон то – ну точь-в-точь как у корчмарки Ганы, две маленькие и упругие… м-м-м… совершенно не нужные… хотя, кажется, она посмотрела на него с особенным значением… как смотрят в таких случаях женщины? Наверное, вот так и смотрят… не важно… это все несерьезно… а это вот облако похоже на дом… раздвоилось… теперь оно совсем как скалы. А то – вылитый лев. А вон то напоминает маленькие и упругие… нет. Нет, нет и нет. Не думать. На задницу бабушки Пратта оно похоже.
Все началось с того, что папа сказал маме: «Я беру его в этот поход, Лиллу. Нет, Лиллу. Нет, Лиллу. Нет. Все равно – нет. Не рано. Да, Лиллу, решил. Без тебя? Ну да. Нет, Лиллу. Нет, любимая. Нет, дорогая. Нет, милая". В конце концов мама уступила. Но вместе с Бал-Гаммастом отправился и его воспитатель Лаг Маддан. „Тебе будет некогда присматривать за мальчиком…“ – „Конечно, любимая“.
Когда-то Маддан был великим полководцем. В далекой стране Ашшур он разбил тамошних знаменитых копейщиков. Однажды, будучи лугалем Ура, отразил набег кочевников. Перед мудростью его и опытом Бал-Гаммасту оставалось склонить голову. Да. М-м. Склонить голову и подождать, сколько требуется, пока Маддан не всхрапнёт в первый раз. Воспитатель любил рассказывать истории… С течением времени походы, битвы и осады слились для него в одну бесконечную историю, которую можно было рассказывать с любого места, поставив события в любой последовательности и добавляя ко всякому эпизоду присказку: «И поэтому мы их всегда били и будем бить».
Так вот, на расстоянии одного перехода от Баб-Аллона солдаты упоили Лага Маддана до состояния, когда на месте одного вола мерещится тучное стадо и хочется поздравить его хозяина с необыкновенной плодовитостью коров… или коровы? Приплод-то весь вышел рыжепестр и однорог… В общей слаженности действий Бал-Гаммаст почувствовал невидимую руку отца. «Какая жалость, – говорил потом папа, – столь достойный человек не сможет больше оказывать благотворное влияние на сынишку». Маддана, так и не вынырнувшего из глубоких сумерек, отправили обратно в столицу с почётной охраной из двух воинов. Бал-Гаммаст совершенно безо всяких на то оснований предположил, что охранники почтительно уговорят старика не возвращаться в армию, если тому и придет в голову такая идея, «Мэ, – наверное, скажут они воспитателю, – такая твоя мэ: отдыхать от праведных трудов».
Отец позвал его и сказал, хмурясь:
– Я, знаешь ли, занят. Не могу держать тебя при себе, как раньше. Теперь за тобой приглядит эбих Лан. Это мой друг, к тому же отменно отважный и умный человек. Слушайся его.
Лан Упрямец, сам медведь медведем, подбирал себе охранников и слуг того же телосложения. Он отвел Бал-Гаммаста к себе в шатер и сказал ему:
– Н-да.
Помедлил и добавил с выражением необыкновенного глубокомыслия на лице:
– Вот.
Огромный, медлительный в движениях, Лан почесал подбородок и, кажется, нашел подход.
– Ну что ж. Давай с самого начала Сколько полетов стрелы пройдет пешее войско за день в знойном месяце абе, если будет идти от рассвета до заката и сделает один привал, чтобы поесть? Ах да, я забыл добавить, это наше войско, пехота Царства.
– Я не знаю, – честно признался Бал-Гаммаст.
– А если это будут эламиты?
– Я не знаю.
– Конница, полночные кочевники, месяц аярт?
– Я не знаю, эбих.
– Так… – Лан произнес это с некоторым удовлетворением. – Угощайся.
И он первым протянул руку к горке фиников.
До поздней ночи эбих рассказывал ему, какие переходы делает царское войско и отряды всех ближайших соседей Царства, сколько оружия они таскают на себе и кого из них легче застать врасплох во время движения. Где стоит принимать бой, а где не стоит. Кого лучше таранить копейщиками, а кого разметывать ударом из луков. Чем всадники на верблюдах страшнее обыкновенной конницы. В каких случаях без пехоты ночи не обойтись… Иногда переспрашивал. Сам задавал вопросы, пытаясь убедиться в том, что его слушатель запомнил хоть что-то.
В конце концов сказал с удовлетворением:
– Слава Творцу, ты кое-что понимаешь. А теперь взглянем на карту…
Он развернул пергаментный свиток, от души раскрашенный разными цветами.
мы, Балле. Мятежники могут быть здесь… но вряд ли. Скорее здесь или здесь. Пешая разведка говорит, что они стоят в самом Кише, конная – что уже выдвинулись вперед. С утра мы с твоим отцом, эбихами Дуганом и Асагом прикидывали расстояние. Где выгоднее принять бой? Асаг полагает: они будут нас дожидаться на полпути… Почему? Надо быть онагром, чтобы занять ту позицию… Не-ет… мы с ними встретимся… встретимся…
Лан замолчал. Он нервно кусал ногти на пальцах левой руки. Пальцы правой руки перебегали по пергаменту от одного цветного пятна к другому… Глаза эбиха больше не видели ни шатра, ни карты, ни Бал-Гаммаста Перед ним расстилались равнины, тянулись дороги, изгибались каналы. Пехота устало пылила навстречу смерти. Скрипели телега.
Молчание длилось не менее того времени, за которое взрослый мужчина смог бы минимум дважды, не торопясь, насытиться мясом, хлебом и чесноком. Наконец Лан вспомнил о существовании Бал-Гаммаста Удивился. По глазам видно – удивился. Кто это у него в шатре? Ах да.






