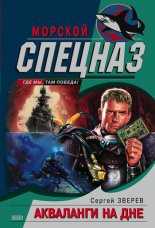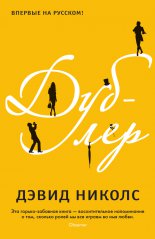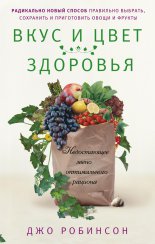Город мертвой мечты. Иллюстрированный роман в трех частях Скобелев Антон

Голова дергается в конвульсии кивка, и я мельком вижу свои руки – маниакально, не имея никакой возможности остановиться, я жмакаю, кручу, перетираю меж пальцев смятый клок газеты, вроде бы оттирая грязь канализационных переходов. В мозгу куролесят два настойчивых глюка: один говорит, что ладони изгвазданы в шоколадно-ореховом креме, другой утверждает, что это кровь Сидда. Кокс входит в круг, и голос его подобен очереди сухо щелкающих на изломе веток. Мне становится тошно от этого звука… Слов не запомнить, даже разобрать почти невозможно, но кажется, звучит что-то похожее на это:
«Вдыхаю гарь промышленных районов, где всё, как встарь – и лица и законы, где мы с тобой играем в прятки, в загаженных подъездах падая на дно. И хочется бежать отсюда – от этого спасает лишь одно: что мы с тобой одной крови, мы с тобой одного цвета, у нас на двоих одна сигарета, мы самые сраные осколки лета!!!
Теряю память потерянных друзей, что не оставят домов и сыновей, глядя в фарфоровые лица людей с четким ощущением тюрьмы в голове – они сгорают в доменных печах, хотя всего лишь летят на свет! И мы с ними одной крови, мы с ними одного цвета, мы самые сраные осколки лета, даже если нас не было и нету!
Никто из нас не выбирал день, когда нам всем родиться, никто не пел в полёте песнь свободной в небе счастья птицы. Каждый ощущает на себе эти взлеты и паденья, у каждого свой смысл жить, свое предназначенье – не сдаться, не сломаться, не пропасть, не сбиться, не сорваться, жить, как будто бы в последний раз встает над нами солнце, средь каменных лесов, домов, оков бороться за каждое мгновенье призрачного счастья до неба достучаться, ведь мы с ним одной крови, мы с ним одного цвета, мы самые сраные осколки лета, даже если нас не было и нету!!!»3
Глава 3
Дело
I
Место: улицы, город Гринвуд
что в штате Вайоминг, близ границы со штатом Монтана, у подножия
хребта Бигхорн, на реке Рэймон – притоке реки Тонг, США.
Время: вечерние сумерки, последние часы лета. Начало 21 века. Сейчас.
Звук: навязчивый гул мыслей, грустный тихий плач дождя.
Таксист хмур и нелюбопытен. Дворники – маятники гипнотизера, клонит в сон.
Кокс дает задания… я имею в виду не «левые» заданьица, которые я получаю от щуплого негритоса с нелепым именем Адреано, а нормальные, «наши», задания…. Так вот, их Кокс дает каждый раз, когда я его вижу. А просто так он не попадается на глаза. Никогда.
Даже если у меня интересующая его информация, и я его отловил-таки, чтобы ее сообщить, всё равно будет работа. Наверное, сама Мать посылает ему задания для новичка, когда он встречает меня. Я имею в виду Мать Крысу. Хотя, если у этого чудовищного города есть свой Дух и этот дух – Мать, а не Отец (в смысле мальчик, а не девочка), то, может, это Мать Города? Проверять я не буду.
Еще в тот день, когда мы только приволоклись в эту «обитель зла» (так я назвал Гринвуд при первом на него взгляде, а Кокс меня поправил – «Обитель работы!»), так вот еще тогда ответил он мне на предложение Перейти (провести минутный ритуал, позволяющий любому из наших как бы раздвоиться на Духа и Человека и духовной половинкой зацепиться за то, что некоторые люди называют Миром Духов, и выбраться туда целиком):
– Вот что, лысый: если ты вдруг надумаешь Переходить в самом Гринвуде или ближе семи миль от официальной границы города, то подумай сперва хорошенько. Подумай и определись, что тебе по зубам: решить текущую ситуацию без Перехода… или стать моим заказом номер один. Ты меня понял, пасюк?! А еще лучше – подумай уже сейчас, заранее. Если я, пока хранят меня великие Духи, узнаю, что ты был по ту сторону – хоть на минуту, хоть на секунду туда заглянул – ты не жилец. Пасюк, ты меня понял!?
Клянусь: и за все деньги мира я не стану этого проверять. Кто знает Дело, тот поймёт, ЧТО для меня такая клятва.
Грустная ухмылка похожа на оскал трупа. Я вижу свое отражение в стеклянных дверях клуба «Мастиф», двери скользят в стороны, открывая мягко освещенный холл.
– Добрый вечер, мистер Груббер. Вы сегодня на сцене?
Охранник – как всегда вежливо-угрожающий – принимает мокрый плащ и старую шляпу.
– Да, после выступления я хотел бы заглянуть в гримёрку – забрать свои вещи.
– Разумеется. Следуйте за мной. Ключ передаст Вам менеджер. Или отправит вам в лазарет.
Мы уже покинули гостеприимный холл и топаем по коридорам под пристальными глазкАми камер охраны, направляясь в Гардероб. Можно говорить прямо, но я так люблю эту игру!
– Это вряд ли. Сегодня комедия, а не драма с поножовщиной. Сюда?
– Да, извольте. Что ж, так или иначе, желаю успехов. – Дверь в одну из раздевалок распахнута. – Выход через 7 минут – в 15:00.
Разминку придется сократить. Ладно. Главное – на сцене не спешить. Надо играть не меньше трех актов.
Кокс всегда дает задания по одной примерно схеме. Раз – задача известна за шесть-двенадцать часов до самого дела. Два – он ставит задачу, и следующая встреча – лишь по её исполнении, а способ решения остается на мое усмотрение. Три – он ни слова не говорит о своих делах, не берет меня на них, и уж тем более – не помогает мне с моими.
– … подвал, выслать из штата. Я вниз, ты вверх. На рассвете у костра…
Он не ждет меня с отчетом на рассвете у костра на пустыре. Нет, черт возьми! Он ждет меня, чтобы оттуда – вместе или по одному – рвануть на общее дело! Это, драть наждачкой мой лысый череп, должно быть что-то очень, очень… скверное. Так тебя через так, гребаный Черный!!! Идём вместе… я через крышу… ты по трубам… контрольная встреча…
Злость согревает тело лучше разминки. Губы дрожат, я унимаю оскал. Короткие синие тайские шорты занимают почетное место на бедрах. Кожаная бандана надежно хранит татуированный орлами и крестами лысый череп от рассечений. Прямо из-за кулис попадаю в клетку – на сцену. Наверное наследственное – ненавижу углы и клетки! Но придется потерпеть – не хочу сюрпризов от больной психики на завтрашней работе! Три раунда по 3 минуты. Не меньше.
Держать, держать гнев на цепи.
Не размозжить лицевые кости коротким тычком локтя на 10-ой секунде.
Не превратить его гениталии в кровавую губку после первого, ознакомительного раунда.
Даже обойдя с фланга, не врезать в запале по затылку.
Не раздробить челюсть.
Не сломать ребра, чтобы острые осколки проткнули легкие.
Крутиться.
Подставляться!
Ловить картонные кулаки боками, плечами, скулами!
Дать пробить в печень! Слбо! Еще! Еще!!!
Ну же, врежь под дых!
В зубы!
Давай, давай! В нос!!!
Я же раскрылся – с ноги в «солнышко»!
О да!
Да, парень, да – молодец! Публика наверняка в экстазе!
Но мне не до них…
В экстазе – Я. Я впускаю гнев в кровь – боль усиливается стократ, но уже не сковывает мышцы. Короткий удар основанием раскрытой ладони в сопатку – парень широко шагает назад, машет культяпками, но всё равно заливает нас обоих парными фонтанами багрянца, и затем – падает на пол. Не встает. Урод. Улыбаюсь я месивом алого рта. Кровь бежит из этого неудачного тела через просевшую внутрь переносицу – полноводной рекой на серый пол. Его лицо безвозвратно бледнеет.
Нет, черт подери, он не похож на Сида!
Выхожу из клетки. Менеджер с лаской отца-педофила хлопает по опухшему из-за разбитого сустава плечу, сладенько улыбается, отдает ключ от сейфа с выигрышем. Через каждые три боя выигрыш можно забирать – мера предосторожности учредителей.
До дела еще время есть. Больше, чем необходимо телу для выздоровления. Куда меньше, чем нужно мозгу (упоенному, ублаженному, заласканному болью сверх всякой меры), чтобы захотеть еще. Ему не надо будет ради очередной дозы лезть под ножи и пули, оступаться на краю крыши и рваться в огонь. На неделю хватит. Это, судя по всему, и без того чересчур рисковое дело, чтобы добавлять в него вероятность «клина» моих расшатанных шестеренок. Это, судя по всему, достаточно рисковое дело, чтобы, выползя с ринга, зайти в гримёрку, отпереть сейфы – свой и уже мертвого парня, выгрести три пухлые пачки денег – из его, цапнуть два жестких, бурых, в коросте мотка – из моего. Рулоны ткани – прибежище духа Крови.
Когда я выполнил блестяще свое первое серьезное задание, Красная Пустынница – аризонский аспект Матери Крыс – даровала мне их лично. Вот это было дело! Пять байкеров-упырей и их хозяин – «…зверский, мать, кусучий кровосос!», как сказал тогда Кокс. Во всех смыслах слова «зверский». И он, и я – голые руки и такие же бесстыдно голые клыки. Я сказал «нет» соблазну походить с ним по кругу, поломать взгляд взглядом, поразевать пасти друг на друга, выясняя, у кого глотка луженей, а мясорезка распахивается шире. Аккуратно и медленно. Чтоб комар носа не подточил. Ювелирно откушенную, ссохшуюся голову кровососа я принес на ритуал своего посвящения в Племя. Пустынница покровительствует мне с тех самых пор. По приезду в Гринвуд я припрятал бинты там, где они вероятнее всего могут мне пригодиться – как раз для подобного случая. Наверное, для этого самого случая.
Деньги наверняка тоже пригодятся. Я буду заниматься отправкой чего-то, что мы найдем в подвале, из штата, это ясно. А если оплошаем и останемся живы, убраться подальше или снять надежный схрон может оказаться весьма накладно.
Заматываю грудную клетку и живот в хрустящий, едва не ломающийся корсет, но не бужу спящего в нем духа. Кровь – это жизнь. О да, я усвоил это чётко. Когда понадобится, он проснется по моей просьбе и отдаст себя – мне. Накидываю рубашку и плащ, тело заливается, болью, и потом, и кровью и воем, как Флорида – солнцем. Карманы брюк набиты, нож, ботинки, шляпа.
Снова под дождь… Ранний вечер, но серые небесные валуны надежно хранят Гринвуд от взгляда Солнца, и оно, пренебрегая ничего не значащим муравейником, клонится за горы. И на наше счастье! Увидь оно, что начинается здесь с приходом сумерек, сошло бы с Небес, и День Великой Битвы случился бы чуть раньше запланированного.
Будка – автомат – карточка из бумажника. Звоню Тогги-Боббу – торговцу краденными тачками и запчастями, на имя задолжавшего мне по-крупному таксиста Арти договариваюсь о машине. Звоню Арти – кое-что ему припоминаю, отодвигаю от уха трубку, дабы не слышать следующую за этим тираду. Говорю, куда и когда пригнать машину. Затем – звоню в мотель «Сермонд-Сью» на границе штата. Люс, как всегда, любезна и согласна аб-со-лют-но на всё. По крайней мере, она вполне согласно и любезно меня выслушивает и кладет трубку без возражений. По желтым страницам нахожу приемлемую транспортную компанию – не дозваниваюсь. Там же встречаю объявление дальнобоя-частника со своей тачкой из крохотного городка почти посередине между границей и Гринвудом, созваниваюсь с ним – Роджер Младший соглашается везти что угодно куда угодно – за наличные. С полной предоплатой! Он переправит контейнер через обе Дакоты, Миннесоту и Висконсин к Великим Озерам, в «благословенный» город Чикаго, где у нас с Коксом, кажется, еще живы друзья. Хотя, хрен знает, куда может понадобиться отправить груз из штата… Вроде больше некуда.
За полтора часа «переговоров» Солнце скрылось за пиками гор Большого Рога, Бигхорн, дождь сменился холодом, стекла телефонной будки густо запотели, уютно скрывая меня от уличной тьмы. Опухшие суставы выбитых пальцев ноют, плечо потяжелело, ноги и спина не хотят более держать тело вертикально. Пора отправляться в нору. Сон будет коротким. Но перед тем как спрятать немеющие ладони в кожу перчаток и нырнуть, задержав дыхание, в ледяной мазут ночи, я вывожу шутливую рожицу на молочной испарине… Рожица получается крайне грустной. Влага, собравшаяся в углу одного из двумерных глаз, не удержавшись, скользит крупной слезой через весь рисунок и «виснет» на подбородке в нерешительности и страхе перед грядущим.
– А тебе, Coque Negro, Черный Кокс, страх грядущего, кажется, неведом, не так ли? И правильно. Мне тоже. Не из того мы теста, наставник! – Высокая фигура, прихрамывая, почти вывалилась из будки, насвистывая разбитым ртом, безбожно перевирая неясный шустрый мотивчик, и, пока звук ее шагов не затих в переулке, в ночной тишине можно было еще расслышать хриплое мурлыкание: «Я верю в пацифизм… Добро должно победить… Но как мне жить? Как мне сейчас быть? Так надоело ждать, так надоел страх! спасаться не чем, это значит – возьми кирпич и дай им сдачи! возьми кирпич и дай им сдачи! возьми кирпич и дай им сдачи, бери кирпич и дай им…»4
II
Место: город Гринвуд и его ближайшие окраины,
штат Вайоминг, близ границы со штатом Монтана, у подножья хребта Бигхорн, на реки Рэймон – притоке реки Тонг, США.
Время: без пяти минут осень, преддверие времени смерти и потерь. Начало 21 века. Сейчас
Звук: шум усталости в ушах, стук предвкушающего сердца в горле.
До норы полтора часа. Очень хочется спать. Полтора часа пешком из центра города – к набережной, через промсклады, в сторону скал – там, у порога реки, есть множество пещер и расселин, там тихо, там спокойно, там легко…
И будка, и широкая улица остались за спиной. Загаженные, покрытые бурым граффити ржавчины стены из рассыпающегося от сырости кирпича плывут навстречу и мимо. Бомжи, сторчавшиеся нарики и все остальные «деклассифицированные элементы» Гринвуда существуют только в том случае, если умеют прятаться и буквально выживать. Они на глаз и слух знают, чьим кошельком, одеждой и жизнью можно поживиться, а от кого – надо забиться как можно глубже и притихнуть. Моя прогулка проходит в относительном одиночестве.
Слышу копов. Фокус с «серой мышкой» не пройдет – карманы полны денег. Подоспевшее вовремя такси дает возможность обогнуть легавых и отдохнуть гудящим ногам. Обогнуть, отдохнуть, припугнуть, перегнуть, долбануть и заснуть… Трясу головой, прогоняя налипший на извилины сон.
В десять я уже за городом. И даже немного над ним. От вида, открывающегося с этого места на ринвуд, захватывает дух и, в то же время, тошнит. Будто мокрая черная туша развалилась там внизу, испещренная мириадами светящихся блох, источающая вонь мокрой псины. Сбросив еще одно наваждение, я сбрасываю и одежду. Здесь, в этой сети слишком узких для человека трещин-морщин на теле скалы, во множестве пещер припрятаны одежда и ножи, еда и запаянные в целлофан «батончики» баксов; здесь же можно провести ночь. Плащ с деньгами плотно скручиваю и заворачиваю в мешок черного плотного полиэтилена. Сую в щель. И лезу следом.
Затащив наконец-то «пакет» достаточно глубоко, скрипя зубами и стараясь не порвать, имея в виду, что с ним еще завтра выбираться наружу, я наконец-то вырубаюсь.
Меня будит восход. Яркий, ослепительный, пробивающийся сквозь ветви редких деревьев, сквозь стены домов, крыши автомобилей… Но ЭТО не восход Отца на небосвод! Этот восход – на земле!!! Трясущийся человечек во мне просит прощения у Солнца за неуместную вчерашнюю шутку, а зверя пробирает могильный холод – если сейчас восход, то я проспал, не успел, провалил дело! Сердце стягивает стальными, кромсающими силками ужас… Я снова просыпаюсь.
Это был сон. Сон, принесший боль, беспокойство, страх и, кажется, еще бОльшую усталость. Пробуждение превращает всё это в злость, умножая на семь, направляя против смрадно храпящего города.
«Прохожий», Настя Савут
Одетый под хип-хоп оболтуса, в трубах, балахоне и с рюкзачком, вчера избитый, а сегодня уже здоровый, добираюсь до промзоны, сажусь в полусгнивший джип Tayota годов 80-х выпуска. На нем, наверное, приехал ночной сторож или уборщик какого-то склада. Джип «мчит» меня по темному, пока ночному Гринвуду на своих предельных сорока милях в час.
Через восемнадцать минут такой езды я сворачиваю на проселок у забегаловки-заправки «Удод», ползу по колдобинам еще минут десять. Моросит дождь. Моторчик дворников, немногим мощнее двигателя машины, едва справляется. Кокс греется у горящей покрышки, с ним – пара бомжей. Здесь, в районе старой городской свалки, до сих пор промышляют собирательством множество обнищавших стариков, бродяг, уродов и просто бедноты. За те пятнадцать лет, что ее не используют по причине переполненности, заваленный доверху карьер успели окружить уродливые, чахлые, но многочисленные деревца. Они скрывают происходящее здесь от глаз проезжающих по шоссе человечков.
Подобие рассвета застает нас набивающими животы консервами, разогретыми в огне… Не знаю, говорят так или нет. Короче, 5:30 утра, мы жрём, цвет неба и освещение не меняются – дождь-долбунец и бесконечные облака. Лишь часы напоминают о том, что день грядёт.
Мы выпиваем дешевого виски. Пять глотков я, Кокс – еще пять, оставшуюся половину бутылки получают бродяги, после чего сразу скрываются с глаз. В огонь льется чья-то кровь – не из донорского пакета, из пластиковой бутылочки из-под содовой. Туда же летят щепотки волос, осколки костей, восковые фигурки людей, животных и духов. Статуэтка Матери из необожженной глины ныряет в пламя последней.
Одежда уже снята, даже бинты вновь скручены в бурые валики. Серебряный «уголок» порхает в стремительных пальцах проводящего ритуал, мимолетно и сладко обжигает мои предплечья, плечи, спину, грудь. Нос чувствует приближение огромного, жестокого, неистового и легкого, словно пустынная пыль, зверя. Хребет вытягивается в звенящую струну, чувствуя, что Она уже здесь. Всё тело мелко трясет, мышцы то хаотично сокращаются, то деревенеют и виснут плетьми, во всем царит ритм сумасшествия.
Горячее дыхание обжигает затылок словами: «Ты – Охотник. Иди, сын мой, исполняй волю Земли и Неба так, как тебе длжно, как велит Завет». Конвульсии скрючивают тело, бьют о землю, будто мой дух рождается заново, а человек – это то, что рожает его в муках. Пустынница катает меня, дергающегося, по земле, будто повитуха, завершая таинство. Завершая ритуал. И вдруг ничего этого нет.
«До восхода полчаса. Входим в 6:28. Ровно!» – слова Кокса растворяются в полутьме вместе с источником. Хватает сил, чтобы встать, но не чтобы открыть глаза. Наверное, ребенок, родившись, чувствует себя так же. Мир проживается тысячекратно острее, хочется кричать, биться, безмолвно, но оглушительно громко требуя ответа «За что??? За что опять?!». Это Дух бунтует, переродившись и став сильнее, в пока что по-прежнему слабом теле. И тело не понимает, почему ему снова не дали умереть, почему его продолжают куда-то тащить, на что-то толкать, не пускают в забытье небытия… «…и кем бы ни был ты на свете, отрадней всё-таки не быть». Бальмонт, старина, в чем-то ты был прав. Как там это у тебя было?
Я шепчу:
– Когда засну без сожаленья Лишенным грез последним сном, Пусть осенит меня забвенье Усталым бережным крылом.
И телу становится легче держаться на ногах.
– Не надо ни друзей печальных, Ни жадных недругов моих, Ни женских воплей погребальных, Всегда немного показных
Сил хватает, чтобы подхватить ворох мокрой одежды.
– Не надо вздохов над могилой: Хочу спокойно я почить, Чтоб ни мгновенья жизни милой Тревогой злой не омрачить!
Плетусь к луже в метр глубиной и пять в радиусе, с желтой, но более-менее чистой водой.
– Пусть озарит любви сиянье Последний час земного дня, Чтоб легким было расставанье И для нее и для меня».
Захожу в лужу по пояс, смываю грязь и облепившую каждый сантиметр тела красную пыль, сдираю ее ногтями.
– Пускай светлы, моя Психея, твои прекрасные черты, чтоб улыбнулась грусть, немея перед святыней красоты.
В голове немного проясняется – то ли от дикого холода, то ли человеческая тушка прислушивается к чему-то знакомому. Как доберусь в срок до места?
– Но нет! Весна страшится тленья, а слезы женщин мучат нас, Лишая в жизни разуменья И мужества в предсмертный час.
Выхожу из воды, но в воздухе ее не меньше. Лужа остается за спиной – вода в ней кроваво-красного цвета.
– Пусть в одиночестве надменном, без сожалений и обид, Я встречу смерть, когда мгновенно Она мне кровь оледенит!
От таких обещаний скорого бессрочного отпуска сведенные болью и холодом мышцы млеют и снова начинают подчиняться. Я одеваюсь.
– Увы, закон земной свершая, В безвестный мрак уйду и я, в ничто, где был ничем, не зная Ни слез, ни счастья бытия…
Ему явно нравится такой план. Ноги шустро несут меня к джипу. Движок еле-еле преодолевает сопротивление десятков килограммов налипшей грязи.
– И пусть нельзя мгновенья эти ни зачеркнуть, ни позабыть – но, кем бы ни был ты на свете, отрадней все-таки не быть!5
Колымага подползает к краю карьера, срывается вниз, чавкая и булькая, тонет – уже без водителя – в месиве отходов и грязи. Плюю ей в след. Я снова в форме. Я сильнее и старше. И я жестко опаздываю, крутить меня в блендере на молочный коктейль!
Через пять минут я на шоссе. О чудо, ночной автобус «Биллингс – Гринвуд» отходит от заправки. Подбегаю, впрыгиваю перед самым закрытием двери, плачу за проезд, смотрю в пол. После восьмиминутной стремительной поездки спрыгиваю на повороте сравнительно недалеко от мажорного Fine Arts District. Тааак… Ага – машина такси. Водитель спит, стучу в окно, бодро улыбаюсь из-под капюшона, стараюсь быть убедительным.
– Отец, до автовокзала срочно подкинь – вот-вот автобус придет, девчонку встретить надо. Промокнет, дура – зонта не взяла! Да еще весь мозг съест – опять я во всем виноват буду…
«Отец» – пожилой азиат (то ли пакистанец, то ли араб – их хрен разберешь), поморгав и поняв моё горе, кивает на пассажирскую дверь, снимая блокировку, я запрыгиваю внутрь. Он наклоняется к рации сообщить о маршруте, я бью его по затылку, выволакиваю из салона и кладу под козырек подъезда через дорогу…
Улица Эдисона… Какое, интересно, отношение ученый имеет к искусствам? Дом 21… Массивный особняк в три этажа плюс подвал, окружен обширным садом и решеткой ограды. Рюкзачок я трамбую в бардачок, движок не глушу и под дождь выхожу… Вот опять.
Камеры. Не здесь, не здесь, не здесь… А здесь – можно. Между прутьями забора, по огромному вязу, не добегая до вершины – на высоту четвёртого этажа – прыжок на крышу. Замираю.
Сейчас где-то за облаками пересекает горизонт огненная колесница Гелиоса. Несомый огненными крыльями, медленно движется он по небосводу. Сперва становится видно навершие его пылающего копья, затем древко и ослепительный лик, увенчанный ослепительной короной. Затем покатые плечи, рука, сжимающая грозный меч. Еще взмах – и еще две руки Великого Божества – держащие лук и наложенную на тетиву стрелу – становятся видны тому, кто может видеть. И вот уже лишь стопы Отца Всего Живого остаются скрыты… Нет, я всего этого не вижу. Но некоторые сказки живы долго-долго после того, как они были рассказаны.
Тихо. Очень тихо… Пора!
III
Место: дом 21 по улице Эдисона, квартал Изобразительных Искусств город Гринвуд, штат Вайоминг, близ границы со штатом Монтана, у подножья хребта Бигхорн, на реке Рэймон – притоке реки Тонг, США.
Время: восход.
Звук: каплями жизни струятся секунды, стремясь разбиться о камень рока.
Прыгаю в вытяжку, легко избегнув встречи с лопастями вентилятора. Скольжу, кажется, до второго этажа. Задними лапами выталкиваю внутрь пластиковую решетку, придерживаю хвостом. Я в ванной. Решетка встает на место. Тихо. Никого.
По первой встреченной лестнице – вверх. Вихрем обношусь по всем комнатам и закоулкам третьего этажа. Тихо и темно. Темно и тихо. Ни-ко-го.
Возвращаюсь на второй этаж – и вот удача! Хорошо защищенная комната, заделанная под кладовку. Коридор—ванная—вентиляция – паутина шахт и труб кажется прямым светлым проспектом с разметкой. Приятно оказаться правым, посчитав что-то за удачу раньше времени. Аккуратно выглядываю из-под потолка – это комната охраны. Камеры, пульт, управление гаражными воротами и жалюзи на окнах. За всем следят два парня в синих рубашках. Как же от них воняет скверной! В каждом сидит тварь.
А вот и Кокс! В полный рост, шмыгает на одном из экранов мимо охранника, и тот рушится на пол – голова отдельно от тела.
Один из моих парней дергается к пульту, но мой нож уже на всю длину вошел ему промеж лопаток. Второй тоже не заставляет себя ждать – только неограниченная гибкость боевой формы-гибрида спасает меня от пули 40-го калибра… Но первый до сих пор жив!!!
И жмет на чертову кнопку! Сумасшедшим ураганом обрушиваюсь на обоих. Три удара в грудь целому и еще один – в лицо подранку. Реву от злости. Тела падают в брызгах крови, но тревога уже включена.
Коридоры, двери, лестница – всё сплошная серо-коричневая вьюга, выносящая меня в холл первого этажа; походя срезаю одного синерубашечника и получаю три пули от другого. Одна бьется прямо в лоб и отскакивает сплющенным комочком горячего металла. Две другие пробивают шкуру, но ни до чего серьезного не достают. Забираю у недострелка «Глок», разряжаю магазин в него самого и в бегущих на подмогу дружков. В упор. До последнего патрона. Крики, ор, пышная ковровая дорожка становится краснее, чем была. Пятки слегка вязнут в ворсе. Втягиваю воздух – люди. Не из лучших, но всё-таки люди. Никого не добив, пересекаю холл, за пару секунд заращиваю дырки новым мясом, затем взываю к Духу Крови в бинтах, отдаю ему часть силы своего духа выпускаю из долгого заточения. Согласно заключенному с создателем бинтов-подарка договору, он наполняет мое тело еще большей, просто невероятной жизненной силой. На случай каких-нибудь бльших, просто невероятных неприятностей.
Кстати, вот и они. Неприятности.
«Неприкосновенность», Настя Савут
Дверь в подвал то ли выбита, то ли взорвана. За ней – что-то страшное: Кокс во всей красе угольного гибрида и беспощадного боя. Неясно, с чем мы имеем дело – здесь добрых полтора десятка разномастных уродов, подобных людям, если не смотреть на когти длинною в фут, лоснящиеся от яда слизистые шкуры, оскаленные пасти, украшенные осьминожьими щупальцами. Кокс только влетел в их кучу, как и мне, ему ясно, что надо прорваться мимо, взять что-то там из подвала и тихо свалить, ведь бой на чужой территории, в меньшинстве, в открытую – не наша стезя. Но кто ж знал, что их будет столько!
– Вперед, пасюк! Вниз! – скрежещет наставник.
И я выполняю. Меняюсь, скольжу вдоль пола – ноги, щупальца, куски шевелящейся плоти, отсеченные черным ножом, мелькают вокруг адским хороводом. Я прорываюсь вглубь зала, и тут мой рассудок мутится.
Цепи. Столы. Крюки. Стенды. Всё украшают гниющие и свежие полуразделанные, полусъеденные тел. Или части тел. Местами лишь кости. Целые гирлянды из плоти от стены до стены. Одна из тварей, не дотянувшаяся через собратьев до Кокса, пускается за мной, прыгает сзади. Едва успеваю уйти под стол, меняюсь. Но с другой стороны меня встречает пятерня когтей-серпов, вспарывая живот и скрежеща по ребрам. Хрен вам! Духи Земли меня хранят! Нож уже торчит у урода промеж глаз. Наученный горьким опытом, делаю еще два удара, и не зря – лишь после третьего одержимый валится с ног. За его спиной – цепь с потолка, с неё, весь в собственной крови, но пока живой, свисает ободранным кролем седой и щуплый старик.
Инстинкты бросают меня на стену. Прыжок, оттолкнуться, сальто – я за спиной одного из самых милых обитателей. Почти человек. Почти. Абсолютно голая, с длиннющими, когда-то белыми, а теперь бурыми от крови волосами женщина, но вместо живота – разинутая пасть с сотней-другой трехдюймовых зубов. Мясорубка.
Прах земной! Я засмотрелся! Десяток жгутов из живой колючей проволоки или цепей бензопил рвется из этого чрева ко мне! Ха! Бросаюсь навстречу! Падаю навзничь, скольжу по сопливо-кровавому полу ей под ноги.
– Привет!
Удар в колено, в бок, в шею… Зашкурть мой лысый череп! От первого удара – что за хрень?! – мой десантник ломается пополам, едва поцарапав кожу уродины! Второй удар тычется тупым рыльцем, не делая ей вреда… Что ж, пускаю в ход зубы и отхватываю красотке шикарную стройную ножку до бедра. Вот так! Мозг едва не вскипает от её воя!
Блондинка падает, я прыгаю от нее на один из столов. Подхватываю скальпель, больше похожий на топор, приправив гневом и Духом, запускаю в другой конец зала, снося голову одному из наседающих на Кокса.
– Он не жилец!!!! – надрывается во мне зверь. – Девять к одному! Он УЖЕ сильно ранен! Он окружен! Бери Заказ и вали! Вали отсюда! Бегом!!!
– Он брат, он друг, он наставник! Он мне дороже, чем весь этот прОклятый мир! – обрывает его дух.
Во мне уже не кипит прежняя злость. Эта река гнева спокойна и неумолима.
Девка-мясорубка ползет ко мне. По столам, по столам, вот я уже рву цепь, на которой подвешен Заказ. Правой – ловлю падающее тело в оковах, левой – подхватываю очередное орудие вивисекции. Сейчас противников у Кокса станет семь. Зубастые языки оплетают и размалывают левую руку в фарш! Плотно опутав костяк, они сдергивают меня со стола, тянут к хозяйке, к хозяюшке… Чуть не роняю деда, нас протаскивают метров пять, пока я не успеваю изогнуться и – ХРАЩ!!! – лохмотья перекушенных зазубренных жгутов уносятся к уродине ни с чем, разбрызгивая сопли и слизь.
Была ни была, а Кокса я не брошу! Выставив вперед оскаленную пасть, стараясь держать чуть сбоку тщедушного старичка с зажмуренными глазами и в бреду шевелящимися губами, я подскакиваю к бойне шестерых против одного. Меня тут же принимают в расчет, две когтистые пятерни с мясом выдирают из моей груди клоки серой шерсти. Два оглушительных визга: мой «Удмри!» и Коксов «Уходи!» – вдруг становятся неотличимы от тишины.
Я слышал предсмертный вой боли и бессильный рев злости. Я слышал цикад и шелест трав в ночном лесу. Я слышал взрывы разворачиваемой кумулятивными снарядами бронетехники. Но я никогда не слышал такого звука! И не смог бы его описать. Мгновение – глаза старика распахнулись, а губы замерли и слегка приоткрылись. Не он издавал звук – звук шел со всех сторон, от всего и вся. Воздух – звучал. Шестеро одержимых вспыхнули, наверное, как в центре взрыва термической авиабомбы. С треском в ало-белом пламени истлели шкуры и мышцы, в синих всполохах стали янтарным углем когти, клыки и кости. Но жра я не почувствовал. И не коснулось пламя лужи крови в дюйм глубиной на полу. Они горели изнутри каждой клетки, будто каждая молекула оказалась чревом миниатюрного ядерного реактора, атомы рассыпались в волны, в ничто, в пустоту, в свет и звук. Нас в подвале трое. И тихо. Тихо и темно.
– Вон отсюда! – скрежещет Кокс, кажется, даже не замешкавшийся от сцены Хиросимы в отдельно взятых точках пространства.
Я рвусь с клиентом под мышкой наружу и, лишь обогнав наставника, понимаю – тот еле держится на ногах. Чуть медлю, выйдя в холл, чтоб обернуться и глянуть, не нужно ли ему помочь, и снова – всего за миг до «поздно» – рев-визг:
– Влево!
Качусь вдоль стены еще до того, как слово закончено, и полсотни пуль взрывают стену, обои, книжные полки, картины, канделябры и прочую муйню за моей спиной.
Пока стрелковая команда прячется по углам и перезаряжает, мы вышибаем с налета ближайшую дверь (кажется, в обеденный зал), юркаем в нее. Есть возможность рассмотреть спину наставника, в очередной раз спасшего мою шкуру. Знаю одно: окажись я даже в бинтах на его месте – был бы уже мертв. Изорван сам его Дух. Поэтому тело не может зажить быстро, как мое после пуль охраны. Подобно моей распущенной на лоскуты руке и распоротому (пусть неглубоко – лишь до мышц) пузу, Кокс измочален весь. Выбегаем из зала в огромную кухню. Он тормозит на пару секунд у двери и, заслышав топот стрелков, отвечает на него стуком двух осколочных гранат по лакированному паркетному полу. Уши закладывает – даже криков раненых не слышно.
Дед после своей пиротехники вперемежку с североканадским горловым пением выпал в осадок и в себя пока не приходит. С шипением перекладываю его на плечо пережеванной лапы, и мы двигаем на выход.
IV
Интермедия – Coque Negro
Место: мозг?.. память?.. кровь Дела. В общем, где-то в Северной Америке.
Время: от 30 лет назад до сегодняшнего дня и всегда.
Звук: сердца стук. Один.
Коксов возраст неопределим. Ему за пятьдесят – всё, что было известно. Лет в шестнадцать он прошел Жгущую Чуму, став одним из Народа. В Денвере, среди «друзей» в крысиной общине, ходили слухи и байки о невероятно упряом и не соблюдающем Заветы и ушлом крысюке. Его не найти, за ним не проследить. Его Задание умрет, ни о чем не узнав. Но, если он хоть каплю заинтересован лично – читай, уязвлен, раздражен, недоволен, неспокоен… О, тут уже не до соблюдения Заветов, и не до скрытности, и не до хитростей! Даже самое легкое недовольство в любой момент могло стать последней каплей, ломающей «плотину Гувера» его самообладания. И тогда он в необузданном, незамутненном гневе… Хотя иногда даже без гнева, размеренно и спокойно, но неостановимо и неизбежно уничтожал всё на пути к цели.
Говорят, однажды, на старости лет, Кокс (так коротко звали того странного крыса) взял себе ученика. И появился с ним на Безумной Сходке – это что-то среднее между пийотной шаманской вечеринкой и кислотным ночным клубом. У детей Матери Крысы, в отличие от детей Папы Волка, такие сходки проходят с участием огромного количества приглашенных – юродивых, анархистов, магов-ренегатов, панков, волков или падших волков – да, в общем-то, любых безумных личностей-сущностей, ибо сила Детей Крысы не просто в чистоте, а в чистоте безумия (или в безумии чистоты?), и нет им дела до частностей и различий… И вот, на Сходке решил ученик Кокса порасспрашивать о своем учителе и об отношении к нему. Наслушался всякого и набросился на наставника с допросами-вопросами:
– Почему ты, став Старейшиной, не стал Королем какого-нибудь Города?
– Почему ты двадцать лет не брал ни единого ученика и вдруг взял?
– Ты учишь меня скрытности и Заветам, коварству, ударам в спину и неожиданным ходам, а сам часто всегда делаешь всё наоборот – по прямой?
– Кокс, почему ты вообще так не похож на других Ножей?
– Почему ты стал героем стольких историй о кровавых уличных поножовщинах и перестрелках, прямо вот посреди бела дня, да еще и «один против всех»?
– Как ты, действуя против своей же науки, до сих пор верен Первому и главному Завету – почему ты до сих пор выжил!?
– Разве ни разу не приходило тебе в голову, что, если ты всё делаешь не так – в лоб, грубо, неуклюже, открыто и всё-таки остаешься Старейшиной перед лицом Матери, то чего бы ты мог достичь, соблюдая…
Надо сказать, что наставники учат молодых дерзких оборотней-крыс: в том и преимущество старейшины и мастера – он никогда и никому не обязан давать объяснений своим поступкам. А бритый, белый, татуированный в стиле «неонацизм», накаченный пацан требовал именно объяснений у своего тощего, престарелого, заросшего, по-ямайски выглядящего наставника, и было это в дальнем от сцены, темном углу мош-пита во время выступления забойной такой панково-альтернативной команды. Мош-пит тот был на первом этаже давно обвалившегося внутрь себя здания заводика на окраине Денвера. Сценой служил крошечный козырек – остаток пола второго этажа.
Взвизгнула гитарная струна – и на месте тощего Кокса возник огромный угольный гибрид. Он без объяснений вжимал в угол меж толстых кирпичных стен крошечного серо-бурого гибрида, вырывал шматы мяса из пытающегося защититься двухметрового собрата, рубил подставленные лапы зубами, кромсал когтями, рассекал плечи и грудь с пугающей простотой. И дураку было ясно: еще миг, и короткая жизнь ничтожного крысёныша по кличке Дело оборвется. Но его наставник остановился так же внезапно, как и начал воспитательное мероприятие. Гнев в его глазах рыкнул, облизав кровь собрата с клыков. Лысая полуголая фигура бессильно сползла на пол, оставляя на стене густой красный след, возвращая естественный цвет запыленным кирпичам. Кокс поднял своего горе-ученика за шкирку и зашвырнул в самую гущу разогревшейся слэмящейся публики, кивнул выступавшей группе, получил пару таких же коротких кивков, и был таков.
На «сцене» вокалист поудобнее, будто меч, перехватил микрофон, чуть выдвинулся вперед. То, что случилось в головах несчастной публики после ухода Кокса, можно сравнить лишь с Горящей Чумой. Те, кто был там тогда, говорят: всё, о чем пел солист, всё, что они слышали, происходило с ними на самом деле – в тот самый миг. И было это стократ реальнее, чем все их прожитые до того мига жизни. Но не многие помнят, что же конкретно это было – каждому вбилось в голову что-то своё. Делу в раскроенный череп вбилось что-то вроде:
«На все предложения остепениться – только молчать и злиться! А лучше – кричать и кидаться, чтобы никогда не сдаться! Пропитанный злостью и никотином, я навсегда останусь teen’ом – всегда семнадцать, всегда война и вечный дождь с двух сторон окна! Нам никто не поверит, но каждый узнает, что финиш всегда будет за краем! А как еще встретиться с Раем? Только сгорая! Только сгорая!!!
Если твое сердце тащит тебя за собой… далеко…
Если твое сердце тащит тебя за собой… далеко… далеко…
ПАДАТЬ НЕ БОЛЬНО, ВСТАВАТЬ ЛЕГКО!
ПАДАТЬ НЕ БОЛЬНО, ВСТАВАТЬ ЛЕГКО!
ПАДАТЬ НЕ БОЛЬНО, ВСТАВАТЬ ЛЕГКО!!!»6
Не многие знали, что на сцене были оборотни-волки. Не многие знали и то, что двадцать лет назад Коксу по случаю посвящения в Воины Король впервые выдал на поруки и воспитание четверку молодняка. Они были где-то в Канаде, и там сама Мать Крыса пришла к Видящему стаи Черного. Она рассказала, что молодая стая волков неподалеку попала в засаду во время Ритуала Посвящения в Племя и что, если не успеть, щенки пополнят ряды Падших. Мать велела спасти их любой ценой и доставить в какой-то Город. Видящий думал, что сошел с ума – Мать приказала идти против Завета Выживания? И ради кого? Ради извечных врагов? Ради Волков? Но Кокс принял решение и они взялись за дело.
Один Кокс пережил бой за спасение волчат. Он и привел их к ближайшей Священной земле Волков, чудом унеся ноги незамеченным и взяв со спасенных слово молчать. Слово они сдержали. Что странно. Для Волков.
Изорванный Коксом и избитый слэмерами, Дело лежал в луже собственной крови на крошеве кирпича, и Мать Крыса дала ему это знание через его кровь. Сила Крыс – в стае. А стая для Крысы – всё Её Племя. И что знает или знал один – то узнать может каждый. «Мы едины. Вместе мы – сама Мать Крыса. А Она и другие Великие – сама Жизнь». Так говорят старики, наставляя Видящих. Как хочешь, так и понимай.
V
Место: дом 21 по улице Эдисона, квартал Изобразительных Искусств, город Гринвуд – что в штате Вайоминг, близ границы со штатом Монтана, у подножья хребта Бигхорн, на реке Рэймон – притоке реки Тонг, США.
Время: между восходами.
Звук: хриплое дыхание, топот, чавканье открытых ран на бегу.
Выход из кухни в сад был в двух шагах. Кокс бежал, не обращая внимания на кусок собственной кишки, путавшийся под ногами, на пенящееся красным с каждым вдохом легкое, торчащее из пятидюймовой дыры в груди. Но именно он, всего одним глазом на размозженном, освежеванном черепе, первым заметил, как…
Как, расшвыривая куски кухонных прилавков, плит, столов и полок с посудой, в Мир Людей из Мира Духов пришел Червь голода, Червь пожирания собственной плоти, Червь, вытягивающий жилы, сосущий страх из костей и горечь боли из сердца, слизывающий с кончиков нервов безысходность и отчаяние. Тварь, каких я еще не видел в жизни.
А Кокс видел.
– Другое Дело, вали! Если твоё имя хоть что-то стоит, выполняй Уговор!
И никакого «Ты меня понял, пасюк?!». Лишь сорванная связка гранат; лишь прыжок к пасти червя; перезвон стопорных колец о кафель – для него.
Учуянные на контрасте со свежим воздухом улицы струи газа из порванных гнидой газовых плит; ослепительный свет за спиной; костлявый комок плоти и костей безвольно висящий на руках; свист раскаленной стальной шрапнели из посуды, стекла, кафеля и стали, рвущейся под шкуру спины; оплавленная вилка, прошившая на излете раненое плечо насквозь и теперь страшно торчащая в запястье старика; сиденье такси, и серая мгла улиц и неба, и за спиной Восход Солнца на Земле ярче, чем на Небе – для меня.
VI
Интермедия – На память
А где-то, кто знает, где – быть может, в Кливлинде – вдруг дрогнули и отпустили аккорд пальцы гитариста. И бас ухватился не за ту струну. Ритм выронил палочку. А вокалист вздрогнул и замолчал. Трэш и угар вдруг остановились. Толпа еще минуты две побесилась, приутихла, и тогда в зале взошла на трон Её Святейшество Тишина. Под ее властным взглядом, музыканты вышли из ступора, чуть растерянно и горько переглянулись. Вокал поджал губы, перехватил микрофон, будто меч. Раз уж меч остался в гримёрке, то сойдет и микрофон. Затрещали от натуги мышцы усилителя. Несмело зацокала когтями ритм-секция. Загудел низким рыком бас. Гитара тихо и чисто рассекла воздух серебром струн, сливаясь с вокалом в каждом миге, в каждой ноте каждого звука… И с первыми аккордами и словами отморозки и шалавы, гопники и раздолбайки, пацаны и девахи уже не в силах были проглотить вставшего в горле комка хины.
«К черту печаль… и светлую грусть. Сквозь зубы сказать, что я не боюсь. Вырвать чеку и плевать, что потом. Я так устал, что со мной как со скотом! У кого больше прав мерить здесь кошельком? На моей земле я устал быть рабом! Но моя усталость – отчаянье загнанной мыши – заставляет меня быть сильнее и выше! Удачи, счастья тем, что молчат. А ты поднимайся, вставай с колен, брат. Пора орать, пора орать!!!»
И в глазах молодых охламонов забрезжил огонь. Горечь и бессмысленность жизни ушли, а то, что слышали они теперь со сцены, проживалось ими, и ценилось, и любилось куда ярче, и больше, и чище, чем все их несчастные жизни до этого момента.
«Можно тихо шептать… о красоте и любви. И я, наверное, мог бы, но оставлю другим. Все, кто не стал, не захотел, не привык, я надеюсь, поймут и мне простят этот крик. Кто-то должен сказать, и пусть скажем мы: на моей земле я устал быть немым! Но моя усталость – отчаянье загнанной мыши – заставляет меня быть сильнее и выше! Удачи, счастья тем, что молчат. А ты поднимайся, вставай с колен, брат. Пора орать, ПОРА ОРАТЬ!!!»7
«Светлая грусть», Настя Савут
Глава 4
Заслуженный отдых
I
Место: барно-танцевальный зал, отель Сермонд-Сью – где-то близ городков Спирфиш, Лид и Стерджис, что близ границы со штатом Вайоминг, Ю. Дакота, США.
Время: поздняя ночь начало сентября, начало 21 века. Сейчас.
Звук: Blues For Junior – Stan Getz
Саксофон драл луженое – ну пусть медное – горло. Ему вторила труба. Луна пританцовывала среди кавалеров-облаков, редко мелькая в окошке в очередном па. Если бы она перестала плясать и кружиться в сумасшедшем ритме… Если бы перестали мелькать ее сине-черные покровы… Если бы обратила внимание… Да какого, собственно, черта ей обращать на тебя внимание? Душно и горько. И внутри и снаружи. Что есть, то есть, а что сделано – то сделано.
Да, конечно, ты сделал всё правильно. И даже Луна тебя не осудит, не обвинит. Так что же, ты умнее Луны? Куда же ты лезешь?
Ты вопрошаешь у своего собственного воспаленно-красноглазого, сизоносого, бледного отражения в зеркале позади барной стойки. После всего, что случилось, после тяжелых ранений, после гибели Coque Negro (так на самом деле звали наставника), даже после девяти тройных скотчей… после всего этого тебе всё же не кажется странным, что ты разговариваешь сам с собой. Или так: …тебе всё же не кажется странным, что ты разговариваешь сам с собой? Даже если не вслух. Даже если про себя. Но ведь мы… никому об этом не скажем, правда?
Правда, кивнул ты самому себе, прижал указательный палец правой здоровой руки к губам, выдавил заговорщицкое тихое «Ц-ш-ш…!». И хлопнул еще стаканчик.
Люс, чертова кошка, подкралась неслышно. Ты вздрогнул, когда сухое шерстяное пальто опустилось тебе на плечи. Её неширокие бедра, обтянутые черной джинсовой юбкой опустились на соседний табурет за стойкой. Правая кисть – прохладная и тонкая разжала твои сведенные судорогой пальцы, державшие давно погасший окурок и только что опустевший стакан. Глаз не замечает, но спина чувствует – она на мгновение замерла, увидев твою другую, левую, руку. Подвязанная шарфом на манер гипса, больше похожая на тряпичный сверток с мясным фаршем, та сиротливо прижималась к боку. Только гипс – он белый, а твои бинты пропитаны кровью, и лимфой, и Тварь еще знает, чем, сочащимся из каши мышц и сухожилий. Твой взгляд, едва оторванный от зеркала, тяжело бухнулся на орошенное всеми сортами алкоголя дерево стойки. Героическое напряжение, чугун глаз с трудом подается. Ты поднял взгляд на нее, ваши глаза встретились.
Твои – утонувшие в помойно-теплом, вечном, грязном дожде. И её – вынырнувшие из малинового, сухого, трескучего пламени, из жажды, из безумия и … страха.
Она уже умостилась на твоем правом бедре, обвитая твоей правой, нервозно подрагивающей рукой. Нежная ладонь ее левой руки – ладонь, отлично умеющая сжиматься в крохотный каменный кулачок, – спокойно гладила твои одинаково плохо выбритые щеку и затылок, шурша щетиной, сдвигая шляпу почти на глаза, а потом и вовсе изящным щелчком скинув её прочь. Люс не впервые видела уродливые черные символы, украшавшие эту лысину, и не впервые они ее не смущали. Как и другие твои части тела. Её тоненькие, очень плотные – стальные – пальчики ловко «свистнули» из пачки сигарету, прикурили и поднесли к твоим губам. Эти же пальчики звонко щелкнули, привлекая внимание бармена. Стакан снова был полон. Люс отняла у твоих жадных губ сигарету – и ты уже пил виски из её чУдных рук. Их невероятный аромат ласкал ноздри и на контрасте делал скотч нестерпимо кислым.
Ты вполне искренне скривился. Сигаретный дым скользнул меж её губ, коснулся зубов и языка, прошел гортань, её легкие, снова трахею, затем снова язык и губы, и лишь затем ты вдохнул его. Необъяснимая сладость и сушь. Дым был почти таким же приятным, как боль в лопнувшей губе, стиснутой её сахарными зубами. Её дыхание прохладно, чисто и свежо. Таким свежим может быть лишь снег на вершине, лишь мартини предрассветным субботним утром, лишь вкус победы.
Ты победил, ты сделал дело, ты выжил, но вкус победы испытывал не ты, Джефф-Дело. Вместо тебя триумф пыталась испытать пропитанная грязной горечью тряпка.
Потом, позже, вы будете вместе. Потом вам будет ни до Земли, ни до Небес, ни до Преисподней – бесы, равно как и ангелы, и люди, смутятся, увидев, что выделывают ваши тела, стремясь проникнуть друг в друга, стремясь уподобиться магнитным полям или волнам, излучениям или черт знает чему, стремясь стать одним. Яркий огонь и затхлая вода. Свежая прохлада воздуха и теплая гниль земли.
Но сейчас, даже целуя Люс, ты смотришь за ее спину – в глаза осунувшегося, серого, пьяного отчаюги, потерявшего последние силы, надежду, веру и смысл быть. Ты мысленно убеждаешь его, мол, он не виноват. В том, что, мол, не так уже всё плохо, что не всё пропало, что он не сошел с ума. Сейчас ты едва чувствуешь её язык, шутливо выписывающий кренделя на твоей шее. Сейчас ты еще не поддался когтям этой зверюги-дьяволицы, она еще не утащила тебя в безмятежное и ровное дыхание, в ритм танца, в пропасть, из которой вынырнули её чертовске глаза, сейчас ты не только не с ней и не сейчас, ты даже не здесь, ты не в отеле Сермонд-Сью, ты…
II