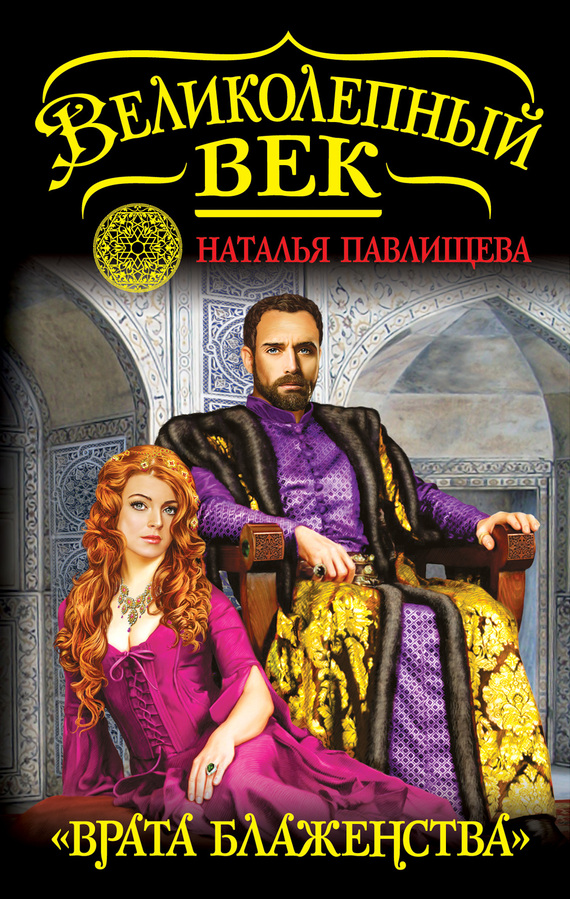Иосиф Сталин. Последняя загадка Радзинский Эдвард

Мимо подъезда проехали к «тем» воротам. Я услышал грохот. Раздвинулись стальные створки, и меня ввезли во двор. Здесь был вход в скрытую от посторонних глаз внутренность нашего здания… Я забыл описать раньше это секретное чрево, в котором уже побывал. Оно редко кого выпускало назад – на волю. Тюрьма была тайным сердцем Лубянки. И все эти кабинеты, глядевшие окнами на улицу, служили как бы обрамлением, декорацией того, что скрывалось во дворе, – секретной внутренней тюрьмы.
Вышел из машины – «Руки за спину». Во дворе пахло гарью. Как потом узнал – жгли архивы. Меня привели в знакомый подвал. Последовала уже известная мне процедура. «Раздевайтесь!» Потом голого – в знакомый, цементный, беспощадный закуток. Ледяной душ. Несмотря на лето, холод пробирал до костей.
– Вытирайся, – уже на «ты»…
Серое полотенце с биркой «Внутренняя тюрьма». Усадили на стул. Человек в форме, но без погон, молча обрил наголо.
Одеваться не велели, вошла докторша:
– Повернитесь.
И пальцем в задний проход. Этот осмотр придумал еще Ягода – не пронес ли я что-нибудь в жопе, не запрятал ли там какую-нибудь ампулу с ядом, чтобы убежать от предстоящих радостей нашего ада. Из этих же соображений одежду вернули без ремня, ботинки – без шнурков. В заботе, чтобы я не сумел удавиться… Сняли отпечатки пальцев, дали подписать квитанцию о взятых вещах. Забрали очки.
Так возобновилась моя тюремная жизнь.
Открылась дверь одной из одиночных камер. В камере – все та же железная койка, накрытая тонким тюфяком, маленький стол с лубянским тюремным «сервизом»: алюминиевая тарелка, кружка, ложка. Камера узкая, шириной около полутора метров, длиной около трех метров, с противоположной от двери стороны, под самым потолком – зарешеченное окно с покатым подоконником во всю толщу стены. Справа от двери – зарешеченная батарея центрального отопления. И огромное преимущество одиночки: в стене напротив койки – кран с крохотной полукруглой раковиной и стульчак (параша). (Я понял: опять не оставил меня своими заботами друг мой Коба.)
Тюремная тишина, лишь шарканье за дверью надзирателя и иногда – щелчок дверного глазка, а в нем – надзирательский глаз…
Наступила ночь. Я знал обычай, появившийся во времена Ежова: ждут, пока засну. Тогда тотчас разбудят, поведут на допрос. Но меня никто не тронул.
Прошло… не представляю, сколько… может, месяц, может, больше. Никто меня не вызывал, одни сводящие с ума мысли: что с моими? как идет война? идет ли?..
Всегда одно и то же: в шесть утра – подъем. Дальше два часа безделья, но спать не дают. На Лубянке нет «кормушек» (прорези в дверях камер со створкой, которая падает, образуя столик). В восемь открывается дверь, и надзиратель молча подает обычный «завтрак» – пайку (непропеченный хлеб, наполовину из картофельных очисток) и плескает кипяток из ведра в ваш чайник. Но к нему два кусочка сахара – лубянская роскошь. Днем кашица на воде…
В девять утра – проверка. Прогулка – двадцать минут в сыром лубянском дворике, затаившемся между высоких стен, этаком петербургском колодце. Так положено для камер в нижних этажах…
Я уже сходил с ума, когда однажды ночью шумно вошел надзиратель:
– На выход!
Какая это была радость – меня вели мучить, но зато кончилась пытка одиночкой… Мы шли… Повторение пройденного: через бесконечные переходы и пролеты меня вел выводящий (конвоир).
Постучал ключами о пряжку фирменного ремня – значит, другой заключенный шел навстречу. Немедленно скомандовал:
– Лицом к стене!
Не могу не отметить: при Кобе создали образцовую тюрьму-пытку. Тюрьму с большой (хочется сказать «огромной») буквы. И война ее не переменила.
Я сидел в углу за маленьким столиком. Следователь – мордатый молодой (ему бы на фронт), из новобранцев, тех, кто пришел на смену уничтоженным Кобой сотрудникам Ягоды и работничкам Ежова, – расположился в другом углу за огромным столом под портретами Кобы и Берии.
Я подумал: наверное, в моем бывшем кабинете сейчас сидит такой же. Коба набрал новых следователей, на этот раз из крестьянских детей. Как правило, отцы их – кулаки, сидевшие в лагерях или уже расстрелянные. Для них Коба сочинил лозунг: «Сын за отца не ответчик». Но сперва сыну предстояло проклясть отца и забыть его. «Отречься от отца во имя мое», – когда-то учили мы Евангелие. Того же требовал Коба, как и положено новому Богу. Пройдя службу в армии, где им прочищали мозги, они после демобилизации охотно поступали в НКВД оперативными работниками. Вместо тяжкого крестьянского труда – принадлежность к главной власти, к НКВД, высокий оклад, спецпаек, дома отдыха… Они становились верными слугами Кобы.
Жутковатый парадокс: именем убившей их отцов, часто ненавидимой ими Революции они мучили и расстреливали нас, творцов горькой нашей Революции, ее несчастных сыновей.
Вежливо предъявил все те же звучавшие насмешкой обвинения: «Враждебная антисоветская деятельность, злобная клевета на руководителя правительства, шпионская деятельность на службе английской и конечно же все той же японской разведки…»
Я вежливо отрицал.
На следующий день, точнее ночь, следователь встретил меня зверем. Озвучил главное обвинение: фашистский шпион!
Было ясно – расстрел. Друг Коба решил расстаться с другом Фудзи.
Следователь яростно материл меня. Я понял: сейчас будут бить.
Я взбесился. Орал следователю, что, когда его отцы и деды служили контрреволюции, я ее делал. Кричал о том, что по приказу Ленина я создавал разведку, и что-то еще о дружбе с Кобой…
Помню, как после очередных упоминаний о Кобе в кабинет вошел Берия.
Блестя лысиной, встал рядом со следователем. Двое охранников держали меня.
Он сказал по-русски:
– Хочешь сказать, гнида, что тебе обязан наш великий Вождь? Согревший тебя, змею, на своей груди? Когда ты снюхался с врагом, который топчет сейчас нашу землю?!
И тренированным ударом кулака выбил мне верхние зубы.
– Я тебя когда-нибудь убью, клянусь! – взвился я. – Клянусь могилой отца! Запомни: могилой моего отца!
В ответ новый удар – и нет нижних зубов.
Я лежал на полу.
– Ссы на него… ссы на эту мразь! – кричал Берия следователю.
Удар сапога раскроил мне нос… и полилась струя на лицо, мешаясь с моей кровью…
К реальности вернул меня голос врача:
– Пришел в себя. Пульс близок к норме.
Это значило – можно продолжать.
Продолжили. И опять ушло сознание.
Очнулся в камере. Не в общей, по-прежнему в одиночной, с личной парашей – в своих апартаментах. Туда доставили меня в тюремном экипаже – на носилках. Не волоком по полу. Забота! И за нее спасибо верному другу. Видать, не велел до конца зашибить… Хотя на всякий случай уже вызвали врача. Еще разок, другой, третий – и тюремный врач сможет записать в протоколе наше лубянское мирное, понятное: «Скончался от инфаркта» или совсем трогательное, умилительно домашнее: «Умер от воспаления легких».
Дали отдохнуть – тоже наверняка заботами друга! Только через два дня, глубокой ночью, меня повели на допрос. Я беспокоился – зубов осталось немного, а надо будет чем-то есть. К моему изумлению, мой изувер-следователь встретил меня… самой доброй улыбкой. Улыбалось круглое крестьянское лицо с веселым, детским, каким-то застенчивым румянцем.
Он вручил мне бумажку. Пока я лежал в беспамятстве, обо мне позаботились. Чтоб попусту не тревожить, вынесли постановление «тройки»: «Рассмотрев дело (имярек) по обвинению… (шло множество статей и приговор)… к 10 годам…»
Всего-то десять лет! И это вместо «вышки»! Какое добросердечие – мой друг Коба оставил меня жить! Не понимая, к своему несчастью, – зачем.
Следователь осведомил:
– Считайте, вам… – (на «вы»!) – очень повезло… всего-то десятка!
(Именно «всего-то». Потом я узнал, что в ту ночь во всех московских тюрьмах расстреливали заключенных на случай сдачи Москвы.)
Затем следователь угостил меня чаем с сухарями. Пока я пил, рассказал последние новости. Оказалось, немцы подходят… к Москве! Враждебные элементы и шпионы распространили слухи, будто Москву сдадут со дня на день.
– Началось такое… Все шоссе целую неделю были забиты машинами. Уезжали ответственные товарищи, поддавшиеся панике. Народ уходил пешком. Домоуправы грабили опустевшие квартиры или наводили воров, а потом те делились с ними. Чистили магазины посреди дня! Но великий Вождь товарищ Сталин эту панику враз прекратил. Теперь выезд из Москвы только по специальным разрешениям. Пришлось поработать и нам. Начали с домоуправов… – Он весело чиркнул ладонью по шее, – (я узнал потом: каждого десятого домоуправа расстреляли). – Все вмиг взялись за ум. Выехавшие самовольно из Москвы руководящие товарищи моментально вернулись. Теперь у нас здесь порядок! – И он встал, оправляя гимнастерку.
– А сам товарищ Сталин? – спросил я, ожидая, что он обзовет меня и не ответит.
– Товарищ Сталин лично руководит обороной столицы… Ну, вам пора. Допивайте чай.
Я не сомневался: чай тоже был приветом Кобы. Как говорится, «на дорожку»!
Впоследствии Берия рассказал мне, что Коба собирался покинуть Москву.
Это было решено. Он должен был уехать в Куйбышев, там уже приготовили бункер для заседаний правительства. Его библиотеку и личные бумаги перевезли, Ближнюю дачу заминировали. Поезд ждал Кобу в железнодорожном тупике. На аэродроме дежурили его личный «Дуглас» и самолеты сопровождения – на случай, если он все-таки решится лететь. (При мне он лишь однажды летал на самолете, он остался человеком девятнадцатого века.)
Накануне он приказал Берии собрать совещание партийных руководителей – подготовить столицу к сдаче: «Эвакуировать всех. Продукты из магазинов раздать населению, чтобы не достались врагу…» Так что магазины грабить не требовалось – продавцы сами все раздавали. В столице должны были остаться только организаторы партизанского движения в Москве и в области. По его приказу заминировали важнейшие объекты, и «партизанам» вменялось взорвать их. По шоссе потянулись колонны автомобилей – партийные чиновники покидали обреченную столицу.
Короче, сам Коба и устроил эту панику в Москве.
Но после разговоров с военными мой великий друг понял: ошибся! Столицу можно и нужно отстоять. Причем именно теперь, когда весь мир уверен в том, что Гитлер ее захватит. Когда сам Фюрер уже трубит о готовящемся параде на Красной площади!
И после очередного длиннейшего дня, проведенного в Ставке, Коба на рассвете, как ни в чем не бывало, приехал на заминированную Ближнюю дачу. Мне рассказывали охранники, с каким изумлением они увидели Хозяина. Электричество в доме уже отключили, шли последние приготовления к взрыву…
Мой друг, великий актер, отменно сыграл всю сцену. Спросил:
– Почему не горит свет?
Ему доложили о его собственном приказе. Он пожал плечами:
– Что за глупость! Какая чепуха! Немедленно разминировать! И протопите дачу, пока я буду работать в домике охраны… Я остаюсь в Москве, и вы – со мной.
После чего, по словам Берии, он преспокойно позвонил ему по телефону и поинтересовался, откуда взялись слухи об эвакуации города.
Умный Берия тотчас все понял и ответил, что это «безответственные паникеры». Коба велел строго разобраться с паникерами и ворами, расстрелять каждого десятого управляющего домами, «чтобы вернуть всем негодяям потерянное чувство ответственности». Разговор с Берией он закончил кратко:
– Москву отстоим!
И… сел работать. Вот так мой великий друг исправил свою ошибку.
Меня везли на вокзал через Москву на обычной машине. По городу были развешаны огромные плакаты с портретами Любови Орловой – объявления о готовившихся концертах любимой киноактрисы Кобы. Так мой великий друг успокаивал москвичей, остававшихся в городе…
Потом был товарный вагон, переоборудованный под тюремные камеры. На крохотных окошках – решетки, к стенам приколочены нары, а посередине – вонючая дыра, выводная труба, заменявшая парашу. Нестерпимая духота, еда – хлеб, селедка. Оттого – страшная жажда и безответные крики: «Воды!» И, будто счастье, – грязная вода из ведра, как для скота. Когда она заканчивалась, охрана заливала ее прямо из луж во время стоянок на полустанках. Часто на этих полустанках против нас останавливались точно такие же тюрьмы на колесах. Шла война, фронту нужны были солдаты, но тылу по-прежнему требовалась рабская сила, готовая работать, как подобает рабам, – двадцать четыре часа в сутки. И поезда рабов в эти военные годы продолжали идти в тыл, в лагеря Кобы.
Лагерь прервал наши отношения. Но моя повесть – о Кобе, и потому о лагере рассказываю очень кратко.
Катя. Последняя встреча
Пересыльный лагерь. Белые ночи. Берег реки, баржа. Выстроили в колонну по четверо. Меня присоединили к колонне жиганов-уголовников. Началась посадка на баржу. Согнали вниз, в вонючий трюм. На палубе остались конвоиры.
И в трюме все случилось…
Помню страшную духоту, вонь немытого потного тела. Голая лампочка качается под потолком, по стене к потолку идут нары. Вожди уголовников (и здесь – вожди!) заняли нары, остальные устроились на полу. И тогда один из них, главный головорез (его слушали беспрекословно), крикнул мне:
– Иди сюда, дед, здесь для тебя – местечко.
Мне освободили нижние нары (и тут Коба не оставил заботами).
Наша посудина долго не отплывала. Потом за переборкой послышались глухие голоса – женские. Я понял: ждали женщин, и теперь загружают в трюм женский лагерь.
– Привезли для нас пизды, – засмеялся главный. – Налетай – подешевело!..
Закачалась жалкая посудина – значит, отплыли. Жиганы сбросили с себя рубашки, разделись до пояса. Мощные торсы в голубых татуировках… И принялись крушить переборку. Били ногами, кулаками – яростно, методично. И… рухнула! Вся обезумевшая свора бросилась в полутьму на женское тело.
Это была обычная партия – жены и дочери вчерашних партийных начальников и недобитых аристократов вперемежку с воровками, проститутками. Вопли, крики о помощи… Жиганы тащили их к нам, лезли к ним на нары или совокуплялись прямо на грязном полу трюма. Все пространство наполнилось содрогающимися телами, вопящими, тщетно отбивающимися женщинами…
И тогда я увидел ее... Была ли это она? Или я боялся ее там увидеть и потому увидел? Как в страшном сне: ее тащил за волосы совершенно голый жиган. Я хорошо знал свое дело, и возраст мне тогда не был помехой. Через мгновение он лежал на полу. Я схватил ее. Катя!
Никогда не забуду ее ужас, гримасу отвращения на любимом лице.
– Пошел вон! Старик! Ублюдок! – она выкрикивала ругательства.
Оттолкнула меня и сама бросилась к вскочившему с пола жигану. Они забарахтались на полу…
А я… я стал подниматься по ступеням, вылез на палубу.
– Стой, паскуда, куда идешь! Стрелять буду… – Маленький караульный, стоявший у лестницы, выставил автомат. – Назад! Вниз, сволочь!
Он уперся дулом мне в живот. Я молча схватился за дуло, мне было все равно.
– Отставить! – крикнул подоспевший начальник. И мне: – Вернись! Немедленно!
Я ничего не ответил, продолжал держаться за автомат и все так же молча глядел на начальника. Он понял: я не вернусь. Но, видимо, и здесь действовали заботы моего великого друга.
Он сказал:
– Ладно, стой на палубе, дед!
Так я и простоял несколько часов, глядя на проплывавшую мимо землю и не видя ее. Наконец повернули к берегу. Пристали.
На берегу выстроились в ряд три пожарные машины.
Выяснилось, что после таких перевозок жиганы обычно выходить не спешат и захваченных женщин не выпускают. Так что церемониал встречи был отработан…
– Выходь, стройся! – тщетно кричал начальник.
Никого!
Тогда внутрь трюма направили брандспойты, и хохочущие жиганы, не забывая материться, повыскакивали на палубу. За ними выползали мокрые, плачущие женщины. Трюм залило водой, в которой плавали человеческие испражнения и несколько женских тел. Оказалось, после того, как жиганы «разок спустили», началась карточная игра. Кого-то из женщин попросту проиграли…
Осталась ли она живой? Была ли она Катей? Не знаю…
Нас увезли первыми. Больше я никогда ее не встречал.
Война и лагерь
Лагерь, обнесенный тыном, с часовыми на вышках. Одна из бесчисленных точек на карте великого Архипелага. Запах дерьма (несмотря на мороз) и запах тухлого мяса в столовой. Рваные, истертые ватники, изношенные развалившиеся валенки, похожие на лапти…
Хотя шла война, охрана не ослабела. Здоровые, крепкие часовые. Их бы на фронт, но у них, как считал мой друг, фронт тоже важный – нас стеречь, мучить.
В лагере – вечная тюремная иерархия: всем заправляют блатные. Они нынче убегали отсюда часто. Вокруг за сотни километров мужского населения не сыщешь – выдавать некому, всех забрали на фронт. Бежали обычно по двое, по трое. И с собой прихватывали молодого, еще упитанного, из новеньких. На мясо в пути!
Здесь я получил письмо от тетки. Из письма узнал: жена – в лагере, но дочь – у моей тетки в Тбилиси. Никто писем в это время не получал, а я получил. Чтобы знал я, подыхая: все исполнил мой великий друг. Все, как обещал тогда!
Народу с каждым днем становилось все меньше. Сильным, молодым давали разрешение идти на фронт. Заключенных везли на передовую – в штрафные батальоны. Добрый Коба позволял им погибнуть героями. Слабых и старых теперь не расстреливали, кому-то надо было и трудиться. Подыхали теперь на работах.
По лагерю шли слухи: немцы возьмут Москву со дня на день. Где наша непобедимая армия – «гремя огнем, сверкая блеском стали»?
А потом совсем для меня ужасное: немцы на Кавказе! Что будет с дочкой? Что с женой? Вот с этими страхами жил!
Но ничего, думал я, скоро закончатся мучения. Долго не протяну!
Обычное расписание: утром – перекличка, обыск (шмон) перед отправлением бригады в тайгу.
Красномордый, со смятым рязанским носом, дышащий перегаром, начальник лагеря стоит на крыльце, смотрит, как уходят бригады валить лес… Охрана старается, покрикивает, не дай Бог охраннику проштрафиться – отправят на фронт…
Вывесили транспарант: «Все для фронта, все для победы!»
И рядом транспарантище – на нем гигантская голова Кобы и его мудрое заклинание: «Враг будет разбит. Победа будет за нами!»
Пока развешивали транспарант, красномордый произнес речь: «Фашистские изверги напали на нашу страну. Все мы должны отдавать все силы, помогая сражающимся на фронте…» И обязательное: «Товарищ Сталин учит нас… Товарищ Сталин сказал… Да здравствует товарищ Сталин!» и тому подобное.
Так что и здесь друг Коба не покидал меня ни на секунду!
В рекордные сроки, ежедневно подыхая от холода и голода на работах, построили цех по производству разрывных мин. Успели дать первую продукцию, но подвела электропроводка. Короткое замыкание – цех загорелся… Мины рвались, грохот, как на поле боя, несколько сотен сгорели заживо… Красномордого увезли в Москву расстреливать. Появился другой начальник, точно такой же красномордый.
Через месяц, потеряв половину людей (ничего, прибыла еще партия), построили новый цех. Параллельно продолжали валить лес (я был в этой бригаде). На лесоповале единственная мечта – попасть в этот цех. Занятых на производстве мин кормили. На лесоповале от бескормицы началась цинга. Я уже «доходил», с трудом двигался. Товарищи ко мне присматривались, чтобы забрать мою жалкую долю, когда пайку есть не смогу… Однажды, когда я вернулся (точнее, дополз) с работы, нас, как всегда, выстроили для переклички. Красномордый стоял на крыльце, принимал рапорт бригадира. Потом глянул на меня и что-то сказал бригадиру.
Тот выдернул меня из строя, подвел к красномордому. Начальник как-то оценивающе оглядел меня, потом усмехнулся:
– Пошли!
Я понял: конец. Он вошел в деревянную огромную избу. Я – следом.
Он как-то милостиво сказал:
– Так и не научился? Неужели трудно запомнить: «Товарищ начальник лагеря, заключенный номер такой-то по вашему приказанию…» – Не дав мне повторить, сообщил: – Производство мин расширяем… План спустили огромный. К нам едет пополнение. Чтоб веселее работалось, руководство решило создать у нас театр. С едой на лесных работах пока будет по-прежнему, но хороший театр – тоже еда. Театр ожидается первоклассный, к нам целую группу арестованных артистов посылают. Там и заслуженные, и народные. И певцы, и обычные… – (так он именовал драматических). – При театре будет костюмерная в отдельной сторожке. Вот ты и будешь ею заведовать – ты ведь культурой руководил!
Опять обо мне позаботился Коба. Проследил, чтоб я не сразу подох в его лагере…
После вони, нар барака крохотная сырая отдельная каморка, где я должен был стеречь неизвестно от кого костюмы и декорации, конечно же показалась мне раем. И все оставшиеся годы в лагере я прожил среди гимнастерок нашей армии, голубоватой гестаповский формы, деревянных винтовок и наганов, плащей тореадоров, пачек балерин, сюртуков и камзолов…
Но с удивительной пунктуальностью накануне всех праздников меня обязательно отправляли чистить сортир. И это тоже был привет от моего друга.
Когда-нибудь я опишу житье в лагере. Нет предела мучениям, которые может выдержать человек, нет предела унижениям, которые он может сносить. И это тоже доказал мой великий друг. Но, несмотря на невозможное для человека существование, все мы хотели Победы. Не из патриотизма – про человеческие чувства здесь забыли. Чтоб лучше трудились, Коба пустил по лагерям слух – после победы будет амнистия, всех выпустят, начнется другая жизнь. Маленькая хитрость моего большого друга.
Однако во всем этом ужасе бывало и смешное. Помню, в начале 1944 года в наш лагерь приехали американцы – делегация Красного Креста. Коба предложил им посмотреть, как живут у нас заключенные, чтобы они могли развеять лживые слухи.
Мой друг умел все делать с размахом, куда там Потемкину с его деревнями! Американцев везли из женского лагеря. Потом рассказывали, как женщинам там выдали вольную одежду, как приехали удалые парикмахеры – делать прически. Как вместе с ними, изображая заключенных, появились сотрудницы НКВД.
Америкосы пришли в восторг, и вот сейчас их везли к нам.
В считанные дни лагерь стал похож на первоклассный дом отдыха. Трудились день и ночь. Отремонтировали бараки, привезли новые кровати с чистым постельным бельем и пуховыми подушками, были вычищены туалеты. Нас щедро разбавили многочисленными сотрудниками моего вчерашнего учреждения, и наша масса теперь выглядела совершенно иначе.
Мою костюмерную перевели в лагерный клуб – в просторную комнату. В дополнение к имеющимся костюмам завезли реквизит из Большого театра.
Лагерный театр в спешном порядке приготовил арии из опер. Концерт ставил режиссер из Большого, хорошо знавший многих исполнителей. Наша постановка явилась для иностранцев главным потрясением. В тот вечер на сцене клуба пели вчерашние оперные знаменитости. Выступали они, как положено, под лагерными номерами. Конферансье объявлял: «Арию Хозе из оперы «Кармен» исполняет заключенный номер такой-то», – и выходила сидевшая у нас звезда. Иностранцам сообщали, что перед ними уголовник, успешно развивший свои таланты в советском лагере…
Гости уехали пораженные. Далее, как в нашей сказке: «…опять перед ним землянка; на пороге сидит его старуха, а перед нею разбитое корыто…» Я возвратился в свою каморку, костюмы уехали обратно в Большой театр, «заключенные» – женщины и мужчины из НКВД – на свою работу в Москву.
В своей лачуге я скоротал пять лет. Это была уже вторая мировая война, которую я провел в заключении. Раньше – в царской ссылке, теперь – в советском лагере.
Все эти годы я жил в постоянном холоде, с тупым ноющим желанием есть. Но в здешнем аду моя жизнь считалась «домом отдыха». Вокруг надрывались на работе, умирали. Я же благополучно сидел в сырой каморке среди театральных костюмов и деревянного оружия…
Каждый день, собравшись вокруг громкоговорителя, зэки слушали с замиранием сердца голос диктора Левитана: «От советского Информбюро. Наши войска…»
Я не слушал. Меня ничто не интересовало.
Наконец она пришла – Победа! Ликованье в лагере… и ничего! По-прежнему гнали бригады валить лес, только мины делать перестали, и кормить перестали тоже.
Поступили новые заключенные. Это были наши солдаты и офицеры, захваченные немцами в плен. Их, переживших ужас немецких лагерей, мой друг пригнал в лагеря советские. В лагеря родной страны, за которую они отдавали жизнь.
Чудо
Но тогда это не произвело на меня никакого впечатления. Я столько повидал крови, столько смертей… Я окончательно отупел. Перестал думать о несчастной семье. Просто вставал утром, чтобы дожить до вечера. Я будто заснул.
И однажды… случилось! Я заболел… У меня была, наверное, очень высокая температура. Меня перевели в тюремную больницу.
Совсем рядом с кроватью я увидел стоящего на коленях смеющегося Ягоду и плачущего Бухарина.
– Бог есть! – кричал Ягода и, торжествуя, хохотал. Бухарин продолжал плакать.
Я все пытался высказать им некую важнейшую мысль. Невероятную по значительности мысль. Я хотел быстрей донести ее до них, чтобы не забыть… Погиб Ягода, погиб Бухарин… и вот гибну я. Погибли мы все, чтобы понять: Бог есть. Сам того не сознавая, Коба убивал нас, убивавших прежде других, нас, великих атеистов, рушивших храмы, глумившихся над иконами. Убивал нас, вождей и сынов Революции… именем Революции. Мой друг Коба был орудием в Его руке, вечным языческим Атиллой – бичом Божьим. Но как только я это произнес… раздался хохот, неудержимый хохот. Хохот Дьявола. И я услышал свой голос: «Да нет же, нет! Все это обман… Он убил Катю… Миллионы и миллионы! Они погибли и гибнут в этом аду… созданном им аду! И там, в аду – моя жена… Он убивал всю старую жизнь, уничтожал все. Его заповеди – “не предай, не сотвори себе кумира, не лжесвидетельствуй”… Нет ни одной Божьей заповеди, которую он не растоптал бы, создавая страшного нового человека. Своего человека. И он будет это делать дальше. Он не остановится… Не остановится. Если не остановить…»
И вдруг я ясно понял, что не умру… и очнулся!
Была глубокая ночь Я… начал молиться. Все те слова, которые давно забылись, неожиданно зазвучали в мой душе: «…Я пошлю на землю голод, – не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. И будут ходить от моря до моря и скитаться от севера к востоку, ища слова Господня, и не найдут его…»
Боже, я отдал бы все… чтобы прочесть ту самую Библию… которую ненавидел читать в семинарии. Воистину пересохшими от жажды губами кричал: «Жажду!»
И вдруг четко различил присутствие в тишине.
И заплакал. Я плакал горько, сладко, как плачут в детстве, и это были счастливые слезы. Будто что-то ужасное, мертвое вышло из меня. Я просил Его оставить меня жить, чтобы я, вновь уверовавший в него, мог искупить… Как же все просто… как же все просто… И в последний час не поздно вернуться к Тебе»…
Я точно знал, что… выйду! Он мне сказал это.
И я понял – зачем
Я вновь проснулся под утро и с изумлением осознал: здоров! Здоров!
Как я ждал наступления дня и Чуда. Но пришел день, и… все было, как обычно.
Однако уже вечером, к моему ужасу, из тюремной больницы, казавшейся мне санаторием, меня вернули в мою каморку.
Наступила обычная холодная ночь. Я сумел заснуть на своих ледяных нарах только под утро. И мой короткий сон разрушил голос:
– Товарищ К-дзе… товарищ К-дзе!
Я никак не мог сообразить, где я? Я уже давно не был ни товарищем, ни К-дзе! Я был заключенный номер…
Но все это я понял потом… Тогда же в страхе вскочил. Надо мной склонился сам мордатый начальник лагеря.
Впоследствии, когда у нас с Берией возникли дружеские отношения, он рассказал мне, как все случилось. Коба вспомнил обо мне вскоре после Парада Победы…
На параде, когда он стоял на Мавзолее и маршировавшие по площади солдаты швыряли гитлеровские знамена к подножью Мавзолея (точнее, к его ногам), думаю… нет, уверен: захотелось ему, чтоб и я увидел его торжество. Ведь из той, из прежней жизни, у него остался, пожалуй, один я.
В то счастливое победное время Берия и Молотов были у него ночью на Ближней. Под утро, провожая гостей, Коба вдруг поинтересовался:
– Да, Лаврентий, все хочу спросить, а где наш Фудзи?
– В лагере, Иосиф Виссарионович, – оторопел Берия, который арестовал меня по его приказу!
– Не может быть! Кому в голову пришло это безобразие? Такой человек! Ай-ай! Разве можно так поступать со столь заслуженными людьми. Ты разберись и проследи, чтобы немедленно вернули моего друга Фудзи. – И добавил: – А жена его где?
– Она… тоже, Иосиф Виссарионович…
– В лагере?! – продолжал удивляться Хозяин. – Это надо срочно исправить, и накажи построже олухов, которые это сделали. Чтоб завтра оба были в Москве.
Берия рассказал мне, как, выйдя из кабинета, он долго матерно ругался.
Стоя надо мной, начальник лагеря сообщил испуганно:
– Только что звонил товарищ Берия. Вас срочно этапируют в Москву…
Я засмеялся и громко возблагодарил Его. Начальник в изумлении смотрел, как я… крестился и говорил молитву.
Меня везли в Москву в обычном купейном вагоне. С вокзала доставили прямо на нашу Лубянку.
Берия сидел за столом, когда меня ввели в кабинет.
– Садитесь, товарищ Фудзи, – произнес он, не поднимая головы от бумаг.
Я сел. В этот момент вошел офицер, и я тотчас по привычке вскочил, вытянулся. Берия усмехнулся:
– Неплохо выучили.
Офицер поставил передо мной поднос с виноградом и апельсинами с нашей маленькой Родины и ушел. В этот момент ввели ее…
Жена бросилась ко мне и, плача, стала… ощупывать меня. Мы обнимались и смешно ощупывали друг друга, будто не верили, что это мы. А потом вошла наша Сулико. И тогда мы оба заплакали. Мы обнимали ее, глупо плакали, потом смеялись. Я никогда не думал, что такое возможно, но мы совершенно забыли о хозяине кабинета. Однако он о себе напомнил, вернув нас в действительность:
– Если можно, товарищи… – (вновь «товарищи»!) – попрошу вас немного помолчать.
Поблескивая пенсне, Берия мрачно смотрел на нас.
Мы замолкли, он придвинул к себе телефон. Это был телефон с гербом – так называемая «вертушка». (Телефон для разговоров руководства страны. Их создал обожавший секретность Ильич. Номера соединялись через автоматическую телефонную связь, без помощи операторов, путем вращения диска на телефоне.)
Он набирал номер медленно, чтобы я успел разглядеть герб на аппарате и понять, кому он звонит.
Связь по «вертушке» очень громкая, к тому же, глядя на нас, Берия чуть-чуть отставил от уха трубку.
– Что тебе, Лаврентий? – послышался знакомый голос.
– Товарищ Сталин… куда их дальше?
Молчание. Потом Коба сказал:
– Его – устроить в издательство. Позвони в Политиздат, думаю, товарищи не откажут взять его редактором… он всегда любил книги… Жену – в Третьяковскую галерею. Она искусствовед. И зарплату, – он подумал, – выдай им за полгода.
– А жить им где?
– Дай им комнату, как положено всем москвичам… в коммунальной квартире – все, как у всех. Но комнату получше… У тебя наверняка что-нибудь освободилось… вот такую и дай, – смешок в трубке. – Чтобы напоминала товарищам… откуда они приехали… и как легко туда вернуться.
Раздались гудки. Берия повесил трубку. Он почему-то хотел, чтоб мы слышали весь разговор. Потом поднял трубку другого, обычного телефона и приказал кому-то:
– Принеси все, что освободилось…
Вошел начальник его охраны Саркисов и молча положил несколько ключей с адресами на бирках.
– Ну, что у нас получше? – Берия рассмотрел адреса. – Большая Бронная – это в центре, это хорошо. Вот туда вас и отвезут.
Коммунальная квартира
Мы вышли из кабинета свободные и счастливые. Только подумать – еще вчера…
Но нас остановил оперативник, дожидавшийся в приемной:
– Простите, товарищ, вы должны расписаться в ведомости.
Тотчас мелькнула ужасная мысль: неужели все – провокация? Пытка надеждой! Вернут обратно! Жена побледнела. Лишь бедная Сулико оставалась счастливой…
Оперативник привел нас в свой кабинет.