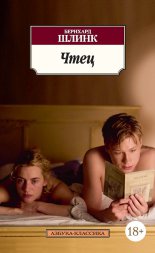Избранные работы по философии культуры Шапинская Екатерина

Серия «Академическая библиотека российской культурологии» комплектуется из сборников избранных научных работ ведущих российских культурологов, культурных антропологов, философов и социологов культуры и выпускается по инициативе Научной ассоциации исследователей культуры и Аналитической группы «Высшая школа культурологии» с целью обеспечения подготовки кадров высшей научной квалификации в сфере наук о культуре.
Рецензенты:
Е.В. Дуков, доктор философских наук, профессор
М.М. Федорова, доктор политических наук, профессор
А.Я. Флиер, доктор философских наук, профессор
Главный редактор серии А.Я. Флиер
Члены редакционного совета:
О.Н. Астафьева, Н.Г. Багдасарьян, Т.В. Глазкова (ответственный секретарь), И.В. Кондаков, А.В. Костина, И.В. Малыгина, М.А. Полетаева, Н.А. Хренов, Е.Н. Шапинская, М.М. Шибаева
Введение
Русская культура перед лицом современности
Культурный капитал. Проблема наследования духовно-интеллектуальных традиций России. Технологический универсализм глобального проекта современности, новые геополитические реалии провоцируют вопрос сохранения национальных культур, их развития в рамках суверенных государств. Решение подобных сверхсложных проблем требует от нации новых творческих стратегий, авторство которых, как правило, принадлежит интеллектуалам, а экспертиза и реализация – обществу и государству. В повестку дня включен вопрос модернизации современной России, должный определить вектор развития страны. Как представляется, весь вопрос модернизации и коррелирующий с ним вопрос социально-экономической и культурной политики как гуманитарной стратегии общественного развития состоит в том, возможно ли освоить современность на основе культурных достижений российской цивилизации, не потеряв своей национальной идентичности и государственного суверенитета. Конечно, при одном фундаментальном условии – если признавать исторический массив российской цивилизации и ее ядра – русской культуры и привитых на ее древо других национальных и этнических культур – безусловной ценностью, вокруг которой должно идти формирование новой гражданской и культурной общности. Нужно понять, в каком формате мыслить настоящее и будущее России, в какой категории «субъектности» – национального государства, империи, политического союза в виде конгломерата национальных государств, скрепленного при этом экономической кооперацией? Если Россия не способна удержать себя в рамках национально-исторической общности, то не предстоит ли тогда в ручном режиме постепенно свести ее статус к транзитной территории, демонтирующей свои границы в глобализирующемся мире?
Очевидно, современные процессы глобализации и модернизации значительно обостряют вопрос цивилизационной самоидентификации России – сохранения ее культурной идентичности в новую информационную эпоху. Единство и целостность России определяются, в первую очередь, национальным языком и национальной культурой. В многонациональной и многоконфессиональной России, открытой глобализационным процессам, вопрос наследования социального опыта, репрезентированного в многообразии культурных традиций, идей, структур и технологий, возникших в результате исторически сложившихся социальных взаимоотношений входящих в ее состав общностей, необходимо прояснять как в теоретическом, так и в практическом отношении. По определению А.Я. Флиера, «социальный опыт является квинтэссенцией содержания культуры сообщества (того содержания, которое накоплено в ходе его истории), продуктом селекции различных технологий удовлетворения человеческих интересов и потребностей» [558, с 359]. С этой точки зрения накопление и трансляция социального опыта в культурологической науке понимается как важнейшая функция культуры. Можно согласиться с известным российским социальным философом и теоретиком культуры, что «во всем многообразии информационного поля человеческой жизни именно социальный опыт является предметом наиболее тщательной и непрерывной интеллектуальной рефлексии в качестве важнейшего средства социальной самоорганизации, самосохранения и социокультурного воспроизводства» [558, с 367].
Проблема культурно-политической самоорганизации современного российского общества напрямую связана с проблемой наследования и интериоризации социально-исторического опыта России, воплощенного в высоких духовно-интеллектуальных практиках и национально-бытовых традициях (укладах жизни). В этом контексте тезис А.Я. Флиера о новых методологических и мировоззренческих горизонтах культурологического исследования форм исторической динамики социально-культурного опыта представляется справедливым. Как пишет автор, «соотнесение трех модальностей динамики социальной реальности: традиции, новации и тенденции, системное понимание диалектики их взаимодействий – является одной из самых существенных мировоззренческих проблем в современной культурологии, значимость которой еще не до конца осознается самими культурологами» [557, с 82]. Можно добавить, что сходная ситуация характерна и для историко-философских исследований. Между тем, взаимосвязь между исторической Россией и Россией современной только и может быть понята (выявлена) через сложную процедуру рефлексии философско-культурологического типа, предметом которой является преемственность, переосмысление и интериоризация интеллектуально-творческого опыта общности, объединенной солидарной историей русской государственности и культуры.
Специально заметим, самоидентификация человека современной российской культуры осложнена процедурой рефлексии. Модернизационные волны ХX века значительно трансформировали традиционные культуры и сам способ наследования исторического опыта. В этом контексте одной из задач гуманитарного сообщества должна быть философская рефлексия культурно-исторического наследия России. Она важна для обеспечения преемственности исторического опыта, который должен послужить основанием процесса культурной самоидентификации, как отдельного человека, так и общества.
Очевидно, национальные государства и национальные культуры и в ситуации постмодерна продолжают бороться за историю, мысля себя субъектами исторического творчества. Но здесь возникает и другая проблема – насколько адекватны их представления о себе, о своем прошлом и об отношении к нему? Не является ли обращение к исторической традиции, в которой черпаются смыслы и идеалы, наследуются духовные, культурные, политические практики, попыткой архаизации и рутинизации современности?
Пример российской истории дает повод говорить, с одной стороны, о разрыве культурной преемственности, в буквальном смысле слова срывах цивилизационного развития, которые случались не один раз, с другой стороны – о разрыве двух типов ценностей – метафизических и инструментальных. Сюжет, ставший для российской истории традиционным, когда богатство и глубина духовно-культурного опыта входили в противоречие с процессами социально-политического и экономического развития страны. Все российские модернизации, происходившие на политической и на религиозной почве, как церковная реформа патриарха Никона, вели к расколу в обществе. Они напоминали экстенсивный, драматический прорыв в современность, связанный с радикальной переструктуризацией социума и ломкой укладов. Перераспределение ресурсов сопровождалось, как правило, большими человеческими трагедиями.
В чем же состоит проблема российской истории? Видимо, она заключается не только в специфике складывающихся в ней духовно-культурных и политических традиций, якобы, противостоящих логике европейского модерна, но, что существенно, и в способе наследования сложившегося и закрепившегося в ментальных и социальных структурах порядка бытия. Если мы обратимся к истокам отечественной истории и культурообразующей духовной традиции, то увидим, что «культура веры» византийского типа была принята на этапе формирования древнерусского государства в готовом, постдогматическом виде. Ее высокие, рафинированные интеллектуальные плоды были мало доступны языческому сознанию, и в большей степени усваивались как нравственный и эстетический образец, в аскетическом и художественном воплощении. Линия богословской и философской рефлексии, столь необходимая для переосмысления прежнего опыта и творческого развития, не стала ведущим заданием русской культуры. К тому же естественной интеллектуализации культуры, которую в определенных формах можно было бы ожидать от зрелого русского средневековья, в значительной степени помешало столкновение Руси с монголо-татарами и сложный геополитический расклад в отношениях с западным христианским миром. Совокупность внутренних и внешних причин привела к тому, что традиция неизбежно рутинизировалась и стала выражать собой социальный и политический порядок, отождествилась с ним, превратила метафизические ценности в инструментальные, а инструментальные в метафизические. Данный социальный порядок на определенном этапе оказался неадекватен, как сейчас принято говорить, вызовам времени. Внимательно читая В.О. Ключевского, можно сделать вывод, что в отечественной истории механизм творческого освоения культурной традиции заместился либо радикальным разрывом с ней в целях скорейшего достижения нового, либо, напротив, консервацией старого порядка, и, как следствие, его архаизацией. Причину можно видеть в крайне слабом аппарате исторической и философской рефлексии, что не позволяет новому вырастать из старого, сталкивает эти ментальные миры и культурно-политические практики, их выражающие.
Согласно Ключевскому, одну из коренных причин рутинизации культурной и политической традиции России следует искать именно в отсутствующем звене философско-богословской рефлексии. Он прямо указывает на эту причину, коренящуюся, в первую очередь, в метафизике русской истории, в ее духовно-культурном моделирующем ядре – Русской Православной церкви. В ней произошло, по словам Ключевского, «затмение вселенской идеи». Эта ситуация, когда вместо вселенского сознания мерилом христианской истины становится национальная церковная старина. Культурное предание, по мнению русского историка, оказывается остановившимся и застывшим пониманием, которое теперь только и стремится оградить наличный местный запас религиозности от изменений и «нечистого прикосновения со стороны» [280, с 669]. К XVII в. Русь прониклась «религиозной самоуверенностью» и встала на точку зрения, что она одна теперь является «обладательницей и хранительницей христианской истины». Таким образом, «вселенское христианское сознание заключилось в узкий кругозор людей известного места и времени» со всеми его «местными особенностями и даже с туземной степенью его понимания» [280, с 700].
Ответ, который преодолевал этот национально-консервативный порядок, был найден, но в форме экстенсивной петровской модернизации, парадоксально закрепивший уже в имперском европейском формате русский архетип власти и непреодолимые сословно-культурные различия. Активное ускорение социально-экономических процессов, теперь уже в пореформенной России, раскололи общество на реакционные «верхи» и радикально настроенные «низы». Революционная ситуация разорвала тело нации, и освоение эпохи модерна происходило уже в большевистской версии. Какими средствами воплощался этот проект, нам сегодня известно, а его результаты лучше всего отражены в высказываниях известных политических и интеллектуальных лидеров русской эмиграции – П.Б. Струве и Г.П. Федотова, сходившихся во мнении, что страшнее большевизма могут быть только его обломки. Распад этой идеологической системы и ее практик был для автора идеи «Великой России» Петра Струве и автора «России и свободы» Георгия Федотова очевиден, хотя и растянут во времени.
Мы являемся свидетелями продолжающегося распада советской экономической и социальной системы, а в рамках этих процессов продолжается и демонтаж цивилизационной общности и историко-культурного наследия России, который предвидели русские интеллектуалы – политики, культурологи, философы. Это еще один акт российской исторической драмы, спровоцированной конфликтом метафизических и инструментальных ценностей. Нарушается естественный процесс производства смысла и его трансляции в производство знаний. Разрыв этой цепочки, как нам представляется, не позволяет формироваться экономическому, социальному, культурному и политическому капиталу, по определению П. Бурдьё, и осложняет процесс капитализации современного российского общества.
Концептуализация темы наследования социально-культурного опыта, выраженного в духовных, интеллектуальных, художественных, образовательных и политических практиках исторической России через понятие «культурного капитала» в нашем исследовании далеко не случайно. С точки зрения социологической традиции оно применяется нами, скорее, нестрого, в то же время имеет привязку к научной школе теоретической социологии и социальной антропологии, к методологии социокультурного анализа. Оно не должно восприниматься только как культурологическая метафора. Хотя, после широкого распространения идей французского социолога и антрополога Пьера Бурдьё о видах капитала, независимо от самого автора социологической теории, именно понятие культурного капитала наиболее подверглось расширению, обогатившись концептами «языкового капитала», «религиозного капитала» и т. п. Повод к этому дал сам Бурдьё, тяготевший к междисциплинарному подходу в своих работах и прибегавший к использованию методов различных гуманитарных наук.
Под капиталом Бурдье понимает все многообразие социальных ресурсов как результата накопления, которое позволяет индивидам, группам или институтам получать социальные преимущества. Собственно эта посылка и допускает рассматривать культурные результаты исторического опыта Руси/России, прежде всего, в ее высоких традициях, как ресурс развития человека и современного российского общества в острой борьбе за привлекательность экономической и социально-культурной модели жизни, которая имеет отчетливо выраженные черты геоплитической конкуренции – борьбы за место в истории. Традиция в этом контексте – процесс сложения и передачи опыта, которая не только служит образцом для последующих поколений, но и подвергается творческому переосмыслению. В этом смысле традиция – не «омертвевшее предание», а реальный живой процесс строительства культуры. В то же время весь корпус достижений в рамках высоких практик культуры, оформившихся в традиции, для человека, входящего в опредмеченный мир культурных образцов и практик, предстает в виде наследия, которое нужно «распредметить» и присвоить как личностный смысл на уровне индивидуальных жизненных стратегий. Задача человека современной культуры, таким образом, будет заключаться в присвоении (интериоризации) благ и ценностей, имеющих как для отдельного человека, так и для общества (гражданской нации) смысл и значение. Этот механизм культурной интериоризации может быть запущен на различных уровнях – через трансляцию знаний, ценностей и смыслов в системе образования и воспитания, через эстетическое освоение художественного наследия, через приобретение навыков гражданского самоуправления и овладение политико-правовыми компетенциями. Социальная позиция данных агентов, в терминологии Бурдьё, будет выявляться через механизм соотнесения общего объёма капитала с различными его видами. По Бурдьё, субъекты «распределены в общем социальном пространстве в первом измерении по общему объему капитала в различных его видах, которым они располагают, и во втором измерении – по структуре их капитала, т. е. по относительному весу различных видов капитала (экономического, культурного…) в общем объеме имеющегося у них капитала» [73, с 188].
Как показал Бурдьё, к свойству капитала относится не только способность наследования, но и приобретения (накопления), а также конвертации одного вида в другой. Не случайно экономический и культурный капиталы Бурдьё выделял как самые значимые, особенно для современных обществ. Продуктивность подхода Бурдьё и возможность использования его концептуальных положений в нашем исследовании проблемы преемственности и актуализации наследия русской культуры современным российским обществом мы видим еще и в том, что отойдя от структуралистского и феноменологического принципа субъектности, Бурдьё предпочел классическую проблему взаимодействия индивида и общества, личности и культуры рассматривать сквозь призму понятий агента и социального поля, подчеркивая самостоятельную активость агентов, осуществляющих стратегии – системы практик, движимые целью, но не направляемые ей. Именно социальные отношения в теории Бурдьё выступают условием распределения различных видов ресурсов, или четырех видов капитала – экономического, культурного, социального, символического.
Немаловажно, что Бурдьё провел более тонкое разграничение видов капитала, что позволяет применить его теоретические положения к анализу многообразных форм социальных общностей с присущими им типами коммуникации и ценностным набором, определяющим модели поведения членов этих ассоциаций. Бурдьё показывает, что в каждом социальном поле существует специфический вид социального капитала (семейный, религиозный, политический, моральный, государственный и др.), определяющий видовую специфику и структуру поля.
В рамках нашего исследования акцент ставится на инкорпорированную форму культурного капитала, который, согласно французскому автору, определяется знаниями, опытом, навыками, эстетическими взглядами, вкусами и т. п. В рамках теории Бурдьё инкорпорированный вид капитала выступает в качестве габитуса – то есть системы диспозиций, которая порождает и упорядочивает социальную практику агента и его представления о мире. В интерпретации Н.А. Шматко, габитус «позволяет агенту спонтанно ориентироваться в социальном пространстве и реагировать более или менее адекватно на события и ситуации. За этим стоит огромная работа по образованию и воспитанию в процессе социализации индивида (выделено нами – О.Ж.) по усвоению им не только эксплицитных, но и имплицитных принципов поведения в определенных жизненных ситуациях» [74, с 12].
Острота проблемы наследования и актуализации культурно-исторического наследия России различными поколениями россиян, их вхождения в семиосферу русской культуры, подчеркивается еще одним фактом. Вопрос о российском обществе как о культурно-политической нации осложняется проблемой культурной идентичности государств «старой Европы» в условиях нарастающего технологического универсализма современной цивилизации, активного смешения и нивелирования социальных практик, укорененных в этно-конфессиональных и национально-культурных традициях. Необходимо признать, что политический опыт социума коррелирует с проблемой самосознания культуры, выраженного через ее идеалы, ценности и смыслы. Именно они обеспечивают историческую преемственность социально-практического, государственно-политического, религиозного и художественного опыта на уровне самосознания и поведенческих моделей человека данной культуры. Тем самым происходит освоение исторического предания в творческом опыте национальной жизни, где политические, религиозные и художественные традиции выражают идею культуры и идеал социального порядка.
Подобное видение проблемы капитализации наследия может задать вектор культурной политики в проекте настоящего и будущего России, определив собой способ преемственности и культурной самоидентификации – коллективной и индивидуальной – на уровне логического строя мышления, духовно-ментальных представлений, ценностных ориентаций и мотивов поведения. Но обладает ли современная культура России тем самым творческим потенциалом для синтезирования традиций и новаций? Какой тип человека и культуры является в ней доминирующим? Ведь в исторической России на уровне духовно-нравственных и эстетических идеалов была выражена ценность духовного опыта личности, способной к саморефлексии, интеллектуальному творчеству – личности, опирающейся на знание и четкую нравственную систему. Ее автором стал такой тип человека, который своими трудами, талантом, подвижнической жизнью, исканием истины, ратным подвигом, высоким интеллектом, научными знаниями создал русскую культуру и российскую государственность. Сохраняются ли эти идеалообразующие и смыслообразующие векторы национальной культуры в инструментально ориентированном обществе «производства и потребления» информационных продуктов?
Чтобы ответить на эти вопросы, нужно «реконструировать» культурно-цивилизационный тип Руси/России, выделив в нем характерологические черты национально-исторического бытия, воплощенные в духовных и художественных традициях, этических и эстетических идеалах, особенностях социального порядка. Важно при этом понять степень и глубину трансформаций высоких практик русской культуры в условиях глобальной современности, определив каналы и механизмы трансляции культурных ценностей и процедуры интериоризации смыслов, обеспечивающих превращение наследия в культурный капитал. Собственно, этой задаче и посвящено настоящее исследование.
Раздел 1
Русская культура: актуальность традиции
Часть 1
Русская культура в философско-культурологическом измерении
Глава 1
Русская культура в фокусе исследователя
Русский тип духовности в созидании культурного мира России.
Подвергая ревизии культурно-историческое наследие России, мы сталкиваемся с той же задачей, которая стояла перед русскими мыслителями, трагически разделенными со своей Родиной в ХX столетии. По слову выдающегося русского философа И.А. Ильина, тот, кто желает серьезно подойти к вопросу изучения духовно-культурного наследия России, должен заглянуть, прежде всего, в историю народа. Необходимо «понять способ организации его труда и хозяйствования, изучить склад его характера и дарования его души, вдуматься в его культуру, уяснить себе его религию и благочестие, открыть для себя его искусство, проникнуться его правосознанием в быту и в политике, прислушаться к его поэзии и – понять» [227, т. 6, кн. III, с. 7].
Вопрос об идентичности Российской цивилизации, своеобразии ее исторического и культурного пути был поставлен и осмыслен в русской религиозно-философской мысли периода конца XIX – первой половины ХХ вв., приобретя драматический оттенок в эпоху революционных потрясений. Культурфилософские построения отечественных мыслителей тесно переплетены с поиском и формулированием русской идеи, которая понимается как поиск идентичного образа России – «адекватного места внутри многосложной цельности европейского культурного предания» [2, с 341]. Предметом рассмотрения в трудах отечественных философов А. Белого, Н.А. Бердяева, Вяч. Иванова, И.А. Ильина, Ф.А. Степуна, П.Б. Струве, Е.Н. Трубецкого, Н.О. Лосского, П.А. Флоренского, С.Л. Франка, В.Ф. Эрна становится творчество и творческий опыт русской культуры, определяющий, по мнению мыслителей, ее своеобразие и сущностные особенности.
На современном этапе развития философского и культурологического знания необходимо заново вернуться к тем проблемам, которые были сформулированы русскими мыслителями, рассматривая их в философском и историко-культурном ключе. Для этого следует произвести историкофилософскую и культурологическую реконструкцию русской культуры, понимая творческий опыт ее представителей как основу исторической преемственности форм и содержания духовных и социальных практик. В данной трактовке творческий опыт выступает в качестве условия и, одновременно, механизма трансляции исторической и культурной памяти, обеспечивающего сохранение культурной идентичности на протяжении длительного периода времени. Настоящая задача оказывается достаточно трудной как в постановке и определении подходов к самому феномену творчества, так и в отношении к историческому опыту русской культуры, «распыляющейся» сегодня в социальных практиках постмодерного общества. Специально отметим, русская культура – предельно сложный историко-культурный феномен, объективно существующий, но зачастую плохо читаемый и «неуловимый» для процедур исследования и еще более трудный для интерпретации и культурологической реабилитации самого понятия «русская культура».
История русской культуры на протяжении тысячелетнего пути демонстрирует, на наш взгляд, определенную логику развития, позволяющую говорить о ней как о целом, содержащем неизменяемое ядро – парадигму (образец, первообраз), которая выступает в качестве своеобразной порождающей модели мира смыслов и значений жизни человека. В истории Руси/России она во многом связана с вероучением и духовной традицией православия, усвоенной и творчески развитой в опыте строительства государства и культуры. Существенным для определения особенностей развития русской культуры и творческого опыта человека, ее носителя, является факт принятия христианской концепции миропонимания и характеризующих ее типа духовности и культурных практик в «готовом» виде – как образцов-идеалов новой культуры, воспринимавшихся не на философско-богословском уровне мышления, а, в большей степени, на эстетически-художественном и нравственно-практическом. Художественная и аскетическая практика формирующейся культуры, на наш взгляд, и определила содержание и формы культурного творчества в исторической перспективе существования Руси/России, придав творчеству особый смысл оправдания жизни. В религиозной культуре оно понималось как спасение, а в рамках светской приобрело значение оправдания творчеством. Этот секулярный аналог религиозного идеала принял форму особого служения и несения нравственной ответственности за судьбу человека и общества.
Важным вопросом в данном контексте оказывается вопрос о границах творчества, определения в нем меры божественного и человеческого, исходя из христианской идеи творения, выступающей онтологическим основанием православной традиции. Можно ли в рамках древнерусской культуры религиозного традиционализма, где каждый жизненный акт сопряжен с опытом веры, говорить о проявлении творчества человека, необходимым условием которого выступает свобода, когда человек начинает проявлять себя как самостоятельный деятель, отчасти, беря на себя функции Творца? В истории европейской культуры подобная концепция творчества связана с эпохой Возрождения. Русская культура, не знавшая Возрождения, и воспринявшая концепцию личностной свободы в форме собственно культурного творчества и его результата – авторского произведения – в процессе петровских реформ, сохранила на глубинном, архетипическом уровне культурного самосознания сам опыт творчества как трансцензуса личности на пути поиска и обретения идеала.
По нашему мнению, в истории русской культуры трактовка идеалов и целей творчества подвергалась изменениям, но его культурный смысл оставался инвариантным. Его можно обнаружить в стремлении к совершенному, к идеальному образу человека, общества, государства и самой культуры. В религиозном сознании образом Совершенного выступал Бог, в сознании человека русской культуры, подвергшейся мощной секуляризации, – разумно устроенный порядок вещей, нравственный мир человека, преображенная социальная действительность. Представляется необходимым проследить логику изменения целей, ценностей и смыслов творчества в истории русской культуры, отмечая изменение на уровне образа и опыта чувствования и представления о Совершенном. Специально заметим, что образ (интуиция) Совершенного рассматривается нами в качестве идеала самой культуры, смыслопорождающей ее модели (идеи, парадигмы, первообраза). Тогда поставленная нами задача историко-культурной реконструкции интеллектуально-творческих практик в опыте русской культуры будет выступать задачей определения изменений, с одной стороны, онтологической перспективы образа как логической основы художественного произведения, с другой, – сохранения инвариантного смысла творчества как пути личности в культуры, ее духовного самоопределения в рамках существующих ценностных (мировоззренческих, идеологических) установок.
Для выполнения настоящей задачи необходим анализ как социальных, так и художественных форм творчества, включая литературу, изобразительное и музыкальное искусство, рассматриваемых в контексте исторического опыта русской культуры. Определяющим для нас является понимание преемственности творческого опыта ее выдающихся представителей. Это позволяет воспринимать и интерпретировать историю русской культуры как некий целостный феномен. Особое значение данная проблема приобретает в аспекте присутствия и сохранения традиций русской культуры, переживающей вхождение в открытое пространство современной цивилизации, в котором сталкиваются традиционные и новейшие культурные практики. Каков ее творческий потенциал?
Ставя перед собой цель рассмотреть интеллектуально-творческий опыт русской культуры как основу социальных практик, способных обеспечить передачу, освоение и ценностно-смысловую интериоризацию культурного наследия, мы отмечаем, что современный исторический и цивилизационный контекст существования русской культуры, сохраняющей глубинную память христианского учения на уровне церковного, политического, духовно-нравственного и художественно-философского самосознания, имеет ряд особенностей. Они определяются, во-первых, технологическим универсализмом постиндустриальной цивилизации, во-вторых, – многоукладностью и поликультурностью жизненного пространства, в-третьих, – демонтажем европоцентристской (христианской) модели культурного и исторического развития, осуществляемым в постмодернистской философии. Образ человека современности все настойчивее определяется системой вещей, способом коммуникации и функциональными связями с вещным миром (Ж. Бодрийяр). Сформулированный теоретиками постмодернизма вопрос о смерти объекта и субъекта характеризует, по их мнению, ситуацию завершения «большого стиля» метафизического мышления европейской культуры. По образному выражению М. Фуко «человек исчезнет, как исчезает лицо, начертанное на прибрежном песке»[570, с 404].
Исчезновение человеческого лица связано с исчезновением истории – ее концом. Начавшееся в модернистской философии и культурологии развенчание телеологических представлений об истории привело к констатации смерти самого смысла (Ж. Бодрийяр). В этом контексте пафос постмодернизма связан с попыткой снижения статуса идеи прогресса, выражающей стратегическую линию развития европейской цивилизации. Как отмечает Ж. Деррида, логика исторического развития не определяется формулой «будущее – это не будущее настоящее, вчера – это не прошедшее настоящее» [172, с 474–475]. В постструктуралистской парадигме историческое и культурное наследие не является подлинной реальностью, а неким мифом, плохо определимой, расплывчатой «многослойностью», которая не прочитывается с точки зрения логики Единого, Абсолютного, но может быть представлена только как «дифференциация ценностей». Результатом подобного способа чтения истории и культуры становится устранение единого, «сквозного» смысла и высшего ценностного результата жизни человека и культуры, который может быть транслирован другим историческим поколениям, став основой преемственности духовного опыта. Русская культура демонстрирует иную историческую логику развития, в нашей интерпретации, – логику духовного творчества. Именно в духовном опыте ее творцов, основанием которого выступает интуиция Совершенного, которая находит наиболее яркое выражение именно в высоких практиках культуры – искусстве и религии – осуществляется трансляция культурной памяти на уровне идеалов, ценностей и смыслов.
Участие в глобальном проекте современности ставит перед культурами, понимающими себя как некое историческое целое, вопрос о сохранении своей идентичности – о будущем, т. е. о творческом потенциале и пути развития традиций, что составляет сегодня главную проблему и русской культуры. В этой ситуации все частные вопросы устремлены к поиску ответов на исторические и цивилизационные вызовы современности, выстраиваясь вокруг одного исследовательского сюжета – мира культуры как мира человека в целостности социального, исторического, духовного, природного бытия. Каждая культура дает свой вариант ответа, но все они формулируются в горизонте новой цивилизационной парадигмы, в условиях, когда открытое пространство будущего понимается как еще не-ставший-мир. Основные проблемы, с которыми сталкивается человек современной культуры, – отношение к прошлому, анализ действий и их последовательность в настоящем, моделирование желаемого образа будущего.
В российском обществе настоящая ситуация все чаще определяется как кризис культурного и исторического самосознания, как утрата целостного образа мира. Ее характерные черты – беспочвенность, потеря смысловых ориентиров, отсутствие или исключение установки целеполагания личности. Для человека русской культуры настоящая ситуация сопряжена с потерей национального самосознания, а с этим и с разрушением смысложизненного горизонта культуры. «Растворенная» в современности культура перестает выполнять свою важнейшую системообразующую функцию – человекотворческую (Л.Н. Коган), перестает действовать как антиэнтропийный механизм, вследствие чего состояние хаоса нарастает.
Бесспорно, русская культура обладает мощным творческим потенциалом, который может стать условием развития современного человека и найти выражение в социально-практическом, художественном, философском, религиозном опыте жизни. При этом картину мира, лежащую в основе духовной и социальной практики русской культуры, можно было бы назвать онтологическим (духовным) реализмом, в которой высшие цели и ценности человеческой жизни определяются образом и опытом достижения Совершенного – Духовного Абсолюта. Определяя русскую культуру как культуру сердечного созерцания, И.А. Ильин указывает на путь достижения совершенства посредством любви – совершенного способа преодоления человеческой ограниченности в религиозно-мистическом и в творческом опыте, в акте создания художественного произведения. По словам философа, «любовь к совершенству» совсем не есть пустое слово, аффектированная фраза или сентиментальная выдумка, но живая реальность и притом величайшая движущая сила человеческого духа и человеческой истории» [226, с 94].
Ставя проблему исторического опыта русской культуры в аспекте наследования и преемственности социального и духовно-творческого опыта, при анализе высоких практик культуры – художественной, религиозной, философской – мы прослеживаем происходящие изменения как изменения образа идеального и способа его достижения в духовно-художественном и интеллектуальном опыте личности. Здесь важна мысль об инвариантном для русской культуре духовно-ценностном ядре, связанном со сферой идеальных представлений и абсолютных значений жизни, имеющих в основе христианскую онтологию, гносеологию и антропологию. Слово и Образ в русской культуре – это модусы явленной Божественной сущности, передающие смысл христианского учения в слове и находящие воплощение, с одной стороны, в логике художественного образа, с другой – в изменении дискурсивных практик.
Необходимо отметить, что уже на раннем этапе сложения древнерусского общества приходится говорить о взаимодействии двух типов мировоззрения, породивших, как отмечалось многими исследователями, ситуацию двоеверия. Происходившая аккультурация не устранила родовой характеристики славянской культуры. Языческие пласты мышления в народном сознании на уровне верований и бытовых форм культуры оказались не преодоленными. Яркий пример – совпадение календарно-земледельческого культа с церковными праздниками. Языческая архаика сохранилась и в музыкальном фольклоре, и в обрядовой поэтике, определяя жизненный уклад не только Древней Руси, но и продолжая присутствовать в крестьянском быту послепетровской России. С распространением христианства и появлением новых художественных образцов культурного творчества (книга, икона, фреска, каменные храмы) утверждаются нормы поведения и духовные ценности православия, но фольклорно-мифологическое содержание языческой культуры древних славян не растворяется, а переосмысляется в недрах русской культуры. Об этом свидетельствует былинный эпос, идеальный облик героев которого имеет узнаваемые черты христианской добродетели.
В высокой книжной традиции получают развитие этические мотивы христианства. В произведениях агиографического жанра утверждается идеал святого – книжника, просветителя и подвижника. Святость становится в древнерусской культуре высшей ценностью и ступенью духовной красоты человека, красота понимается как нравственное совершенство. Выражение предельного образа Совершенного – Первообраза в образе – определяет концепцию иконы. Русским иконописцам удалось воплотить в сюжетах и в образах иконописи содержание христианских догматов, художественными средствами передать сложную богословскую систему взглядов.
В XVII веке христианский традиционализм как культура веры постепенно утрачивает свое значение. Светская форма правления и связанные с ней новые элементы обмирщенного быта, распространение западных влияний начинают изменять не только онтологию образа, но и сам способ культурного творчества. Коренной поворот от «священной истории» к «естественной» происходит в эпоху петровских преобразований. Главная идея XVIII века – идея знания – знания законов естественной, социальной и культурной природы. Выразительница идеи знания – личность, освобожденная от церковного догмата, созидающая историческую действительность. Пафос созидания – психологический мотив петровских начинаний. По своей природе социально-историческое творчество Петра I является безрелигиозным вариантом религиозной идеи преображения мира, однако, носит иной характер причинности. XVIII век – век Петра I и Екатерины II – проходит под знаком политической философии и эстетики европейского модерна. Идеалы ясности, чистоты, правильности, нормативности и цельности определяют не только художественную, но и государственно-политическую практику. Знание в рационалистической картине мира выступает условием усовершенствования природы и человека. По западноевропейским образцам в России создаются центры научного производства знания и его распространения. Цель культурных преобразований – просвещение, научение и воспитание народа, ибо только просвещенный человек способен выступить автором своей судьбы – творческим делателем, что является смысловой доминантой социального и интеллектуального опыта человека русской культуры XVIII столетия. Вне церковного сознания в рамках литературно-философского и художественного творчества зарождается светский гуманизм, в котором получают новое толкование традиционные религиозно-философские вопросы о свободе воли, о смысле истории, о природе мироздания, сущности человека, его социальном и духовном облике, определяя структуру и содержание культурного идеала – образ прекрасного и целесообразного.
В XIX веке творчество гениев классического периода русской литературы и искусства – А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, М.И. Глинки, Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого М.П. Мусоргского, П.И. Чайковского – определяет собой духовный горизонт русской культуры. В полной мере русские художники эпохи великой классики осуществили преемственность в понимании целей и культурного смысла творчества, что позволило, по словам Д.С. Лихачева, поставить в один ряд прп. Андрея Рублева и А.С. Пушкина. Творческий опыт человека утверждается как высшая ценность культуры – особый способ достижения идеала благого и прекрасного.
На рубеже XIX-ХХ веков складывается ситуация, когда главными событиями культуры становятся возникающие и программно заявляющие о себе многочисленные художественные объединения, творческие союзы и художественно-философские течения. Культура, приходящая на смену классической и постклассической, утверждает художественный миф в качестве проекта социального преобразования действительности. Творческая революция русского авангарда имела продолжение в социальной революции XX века, оказавшись ее художественно-философской предтечей. Идея разрушения и созидания мира как идея творчества человека в истории в своем материалистическом и утопическом варианте разрешилась в русской революции и построении социалистического общества, вследствие чего произошло кардинальное изменение духовного ядра русской культуры.
Традиции русской культуры нашли развитие в советской культуре, парадоксальным образом сочетавшей в себе разрыв и преемственность с историческим опытом Руси/России. Арт-миф русского авангарда на идейном и формально-структурном уровне наиболее полно выразил философию коренной ломки традиций, реанимируя социально-утопический, по природе своей мифологический, способ мышления. Но творческий потенциал новых «демиургов» и «председателей земного шара» оказался опасным с точки зрения задач построения новой коммунистической (социалистической) общности, вопиюще личностным, «персональным». Созданный в рамках партийной идеологии социалистический реализм стал опираться на традиции академизма как стилистически «благочестивого» направления. Однако этическая и эстетическая линия русской литературы и искусства воплотилась в опыте духовного противостояния писателей, композиторов, режиссеров – гениев ХX века – Д.Д Шостаковича, Б.Л. Пастернака, А.А. Ахматовой, А.Г. Шнитке, А.А. Тарковского, А.И. Солженицына. Они выступили авторами нового «предания» ХX века – романа о трагической судьбе человека культуры, пытающегося сохранить и утвердить высшие идеалы добра, красоты и истины. Особый путь прошла русская культура, «вывезенная» в эмиграцию. Исключительная сила дарований С.В. Рахманинова, И.Ф. Стравинского, Ф.И. Шаляпина, И.А. Бунина, последовательность в защите ценностей русской культуры Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова, Б.К. Зайцева, Ф.А. Степуна, П.Б. Струве, С.Л. Франка и многих других ее талантливых представителей, равно как эстетическое совершенство художественных творений, вышедших из под пера русских авторов, произвели сильнейшее впечатление в Европе и Америке. Тем самым, создавалось устойчивое представление о русской культуре как о традиции духовно-творческого пути жизни.
Рассматривая культурно-творческий опыт России в преемственности идеалов и ценностей христианской культуры с ее акцентом на опыт спасения, а в светском типе культуры – оправдания творчеством, мы опираемся на концепцию Д.С. Лихачева. Согласно ей, в основании европейской культуры, соотносимой с христианской парадигмой русской культуры, находятся три моделирующих ценностно-смысловой мир категории: личностность, универсализм, свобода [328, с. 15–16]. Личностность и свобода выступают непременным условием культурного творчества, а универсализм выражает смысл культуры как универсума жизни человека, опосредствованного в социальных практиках. В этом смысле культура, сформированная христианской традицией, должна быть понята не в узком («прикладном») значении видов искусства, а как культура жизни, как культура внутреннего человека, находящая воплощение в творческом опыте, который сам становится событием культуры, его произведением. Поэтому творческое задание русской культуры, по словам И.А. Ильина, на протяжении тысячелетней истории, с момента христианизации Руси, простиралось во все области человеческой деятельности, включая религиозную, художественную, государственную и семейно-бытовую.
Очевидно, современные наследники русской культуры поставлены в условия цивилизационного «многоголосия». Сохранение духовных ценностей русской культуры и связанного с ними типа творчества и творческой личности осложнено. Среди фиксируемых и анализируемых культурологией причин: общая универсалистско-унифицирующая тенденция развития цивилизации; автономность веры, которая является актом свободного выбора личности; разрушение механизмов трансляции традиционных ценностей и образа жизни; утрата метафизического «чувства» человеком современной культуры; информационно-технологический принцип организации формы и содержания культуры; «конкуренция» картин мира, ценностей, жизненных укладов, государственно-политических и цивилизационных систем; научный способ открытия истины и связанных с ним процедур верификации, отличный от опыта веры и морально-духовного авторитета гуманитарного наследия культурной истории.
Процесс культурной самоидентификации связан с осознанием, как национальных особенностей своей культуры, так и с ощущение (чувствованием) времени-пространства мировой культуры. При этом наблюдается закономерность: когда «включен» механизм культурной памяти, осуществляющий преемственность социального и духовного опыта, то появляется интерес и уважение к культуре другого, т. е. формируется подлинно культурологическое мышление, стержнем которого является собственная творчески усвоенная традиция. Отсюда возникает важный для российской ситуации вопрос: способна ли русская культура сохранить себя в условиях современности, может ли она предложить универсальную программу (проект) бытия человека в мире культуры на основе идеальных концептов и творческих практик своей традиции? Ответ может быть найден при рассмотрении проблемы культурной преемственности и наследования исторического опыта Руси/России.
Русская культура как целое и проблема преемственности исторического опыта. Устойчивое функционирование русской культуры было обеспечено наличием инвариантного духовного ядра, содержание которого раскрывается в нравственно-религиозном и художественно-философском самосознании, что мы постараемся показать в настоящем исследовании. Прежде, чем приступить к анализу исторического феномена культуры России, нужно сформулировать некую исследовательскую сверхзадачу. Представим ее в виде вопросов. Они помогут войти в круг основных проблем, связанных с изучением, пониманием и интерпретацией русской культуры.
Самый важный вопрос – культура как целое. То, что в научной литературе и в обыденном представлении традиционно понимается под русской культурой – это десять веков или тысячелетняя история русского государства от момента крещения, точнее, христианизации Руси, до момента распада и крушения Российской империи. Но и советский, и постсоветский период несет в себе живую память и опыт предшествующих столетий. Справедливо говорить, что историческая преемственность культурных форм жизни – это главное условие и механизм, обеспечивающий целостность русской культуры в рамках территориально-государственного и национального единства. Но очевиден и тот факт, что при изменении социально-экономических отношений, форм хозяйствования и быта, жизненного уклада в целом, происходившими на протяжении тысячелетия, оставалось устойчивое и неизменяемое содержание русской культуры. Определить его означало найти механизм самосохранения и саморазвития культуры – механизм культурной памяти.
Исторический опыт русской культуры можно представить в виде типологической модели, в основе которой – типология мышления, культурных/ социальных практик, художественно-философского и духовно-нравственного самосознания. Предлагаемая интерпретационная модель – одна из возможных, демонстрирующих логику развития русской культуры. Выделяя характерные черты русской культуры, мы можем отметить, что ценностная (идеальная) сфера русской культуры во многом определяется религиозной картиной мира, религиозным самосознанием. Духовное ядро русской культуры формирует, своего рода, творческую парадигму. В целом можно говорить о том, что русская культура – это креационистский тип культуры — то есть такая культура, которая постоянно воспроизводит свою творческую установку на основе устойчивой системы ценностей, где художественное творчество, непосредственно связанное с религиозной традицией, является одной из высших форм культуры. Это также говорит о центростремительных тенденциях развития русской культуры, что во многом объясняет: 1) длительность ее существования; 2) монотематичность содержания; 3) многообразие проявлений при явно ощущаемом единстве. Последний тезис заслуживает особого пояснения.
На протяжении многовековой истории русской культуры, безусловно, происходили серьезные изменения всех сторон ее жизни, всех форм ее бытования, которые можно охарактеризовать как глобальные структурные перестройки или как процесс изменения культурной парадигмы. Первый сдвиг – переход от языческой картины мира к христианской, от раннегосударственного образования славян к феодальному государству Киевская Русь, от истории этносов к истории нации. Формирующаяся культура строилась как культура монорелигиозная с опорой на православную духовную традицию. Древнерусская культура – культура религиозного традиционализма, выработавшая свой тип духовности и называемая нами культурой слова и образа. Это органический тип существования культуры, где религиозные формы сознания освящали культурные формы хозяйствования и быта. Это культура жизненного уклада и жизненных традиций. При этом христианская картина мира не смогла полностью вытеснить и полностью заменить собой архаические формы сознания – языческие представления о мире. На уровне массового обыденного сознания они трансформировались в своеобразную систему представлений – христианский пантеизм – с преклонением и любовным отношением к природе как к божественному мироустройству. Этот пласт представлений никогда не исчезал из русской культуры и обрел свое художественное воплощение, к примеру, в конце XIX века в оперной эстетике Н. А. Римского-Корсакова.
Древнерусская культура относится к сакральному типу культуры, по отношению к которой языческая культура древних славян может быть охарактеризована как культурная архаика или протокультура, основой которой выступает первобытный анимизм или архаический традиционализм. Славянскую архаику, собственно, нельзя охарактеризовать вполне как мифотворческую культуру. По сравнению с классической мифологией Древней Греции, славянская мифология бедна сюжетами, но богата персонажами. Славянский космос – густо населенный мир духов и живых существ, то есть одушевленный мир живой природы. Такой «стиль» мышления более архаичен, в нем доминирует первобытный анимизм, а не мифологический космологизм или антропоцентризм. На архаическую форму сознания была трансплантирована христианская картина мира, которая привнесла представление о вертикальном строении мира, духовной природе человека, идею творения, боговоплощения и вечной жизни. Христианство, по выражению выдающегося исследователя культурной истории России А. М. Панченко, избавило русского человека от страха смерти, дало свободу. Зримыми истинами нового учения и новой культуры стали художественные произведения – образы духовного мира. Храм, икона (образ), слово – смысложизненные и идеалообразющие категории средневековой культуры, ее духовные лики и идеалы.
Переход от сакральной культуры к светской и утверждение последней – историческое содержание XVII и XVIII столетий. Изменение культурной парадигмы сопровождалось изменением онтологической перспективы образа. Художественный образ в новой культуре запечатлевает не вечное, но исторически конкретное и актуальное бытие человека, из него как бы исчезает трансцендентный план жизни, тема вечности. Появляется новая значимая категория – человек культуры. Светская культура – это культура лица, самоценной личности, героя времени. Эта культура выходит за пределы культуры религиозного традиционализма, но не порывает с ней. Обе традиции – традиции сакральной и светской культуры – существуют в одном историческом пространстве, занимают одну духовную нишу. Границы этих культур совпадают с границами социальных слоев (сословий). Светская культура – это сословная, преимущественно дворянско-аристократическая культура, которая относится к своей материнской культуре как к исторической архаике и национальной традиции. Светская культура – это культура знания и нравственно ориентированного самосознания, для которой художественное слово оказывается словом личной ответственности за судьбу своей культуры и ее носителя – народа, олицетворяющего собой культурную традицию и, собственно, память нации.
Художественный опыт человека светской культуры также относится к высшей сфере значений. Художественное произведение и художественный образ должны раскрывать смысл новой культуры и свидетельствовать о ее идеалах и ценностях, осмыслять исторический опыт ее строительства. Авторское начало усиливается сознанием личностной свободы. Однако освобождение от традиционализма и бытовой архаики завершается закрепощением иной, возможно, еще более жесткой и иерархично организованной традицией сословной этики и светского этикета. Светская культура – это культура общественного мнения и общественного суждения, в которой перерешить свою судьбу оказывается очень сложно. Художнику остается два пути: либо оставить свою культурную нишу и выйти в другое культурное измерение, либо пойти по пути воспитания и научения общественного сознания, чтобы нести ответственность за свой духовный выбор и выполнить задачу служения. Отсюда в истории русской культуры мы знаем литературу и искусство нравственного служения и духовной ответственности – культуру великой русской классики.
Этот импульс несколько угасает к концу XIX века. Наметившийся декаданс связан с исчерпанием установок классической культуры, происходящим на фоне социальной переструктуризации общества. Сословные границы дворянской культуры размываются, самосознание человека классической культуры встречается с иной духовной проблематикой. Среди потребителей наследия классической культуры появляются новые социальные слои, желающие приобщиться к высокой культурной традиции. Это более демократичный, с одной стороны, но, с другой стороны, еще более элитарный способ бытия культуры. Властителями дум и «организаторами» общественного мнения становятся представители творческой интеллигенции – художественная элита общества. Этот период в нашей культурологической интерпретации определен термином постклассика.
И, наконец, последний этап – неклассическая культура. Это демократическая культура, в которой возврат к архаическим формам сознания – натурализму, примитивизму, анимизму, мифологизму осуществляется во имя деконструкции классической и элитарной культуры и связанных с ними способов распространения и потребления культуры. Но так как она возникает сугубо как авторская культура, некий арт-миф о художнике-творце, то она превращается не просто в элитарную, но культовую культуру, где образ художника замещается образом лидера (вождя, жреца). Нужно сказать, что границы постклассики и неклассики размыты, и нередко в творчестве одного художника можно встретить философские мотивы и художественно-эстетические установки обеих вплоть до сочетаний с классическими.
Постклассика и неклассика – завершающие периоды развития русской культуры перед глобальным разломом, где пути и духовные перипетии творческих судеб различны. Традиции русской культуры нашли развитие в советской культуре, занявшей ее культурно-историческую нишу, и в мировой, которая приняла и ассимилировала в себе русскую эмиграцию. «Вывезенная» культура, ее художественные достижения стали достоянием современной Европы и Америки. Культура, лишенная своей почвы, постепенно «распылилась» в культурных реалиях других стран. Ее сохранение в большей степени было связано с традицией Православной Церкви (богослужебная и религиозно-философская), которая составила основу культурной идентичности.
Как мы видим, русская культура «неотчуждаема» от исторической ниши своего существования, определяемой, в том числе государственными, географическими и национальными особенностями. И в то же время границы русской культуры размыкаются и преодолевают свои исторические и пространственные пределы. Духовные традиции русской культуры, ее ценностно-смысловое ядро продолжает удерживать в своей орбите различные исторические напластования, примером чему служит и советская культура, и современный – российский этап развития.
Закономерно встает вопрос: может ли иметь русская культура в своих ключевых особенностях и определяющих традицию идеях, идеалах и практиках продолжение в настоящей культурной истории? На наш взгляд, духовная традиция русской культуры, характеризующая ее как культуру духовного человека, творческого пути, может стать новой парадигмой истории, которая на рубеже третьего тысячелетия принципиально разомкнута – всемирна. В русской культуре вопрос о конечных целях бытия был поставлен как вопрос о конечных целях и ценностях человеческой жизни. Русская культура создавалась и оформлялась преимущественно как культура ценностей, культура поиска Истины и в свете ее откровения – духовного смысла человеческой жизни. Не этот ли вопрос в связи с глобализацией проблем современности выносится в плоскость духовно-философского поиска. И если верно, что начиная с XX века ценностный мир утрачивает проективную функцию для человечества, то, на наш взгляд, русская культура своей ценностной функции не утратила и после десятилетий сознательного разрушения. Способность к репродуцированию ценностей все еще сохраняет духовная традиция, олицетворяемая опытом художественного постижения мира, а также духовным опытом Православной Церкви в своей аскетической и нравственно-учительной традиции. Речь идет о развитии глубинной духовной традиции и искоренении безбытийного отношения к жизни. Деонтологизированное сознание характеризуется отсутствием ценностной иерархии, неспособностью к духовно-нравственной саморегуляции, отсутствием творческого начала, проявлением агрессии. В этом смысле возрождение духовной традиции есть преодоление безличностного, бездуховного, безответственного в человеке и в ценностно-идеальном мире его культуры.
Искомый смысл можно почерпнуть из духовного наследия русской культуры как исторического субъекта всемирной культуры – сверхличности (металичности), имевшей колоссальный жизненный опыт, который она пережила и осмыслила в духовном плане, выносила духовный плод, утвердив идеалы добра, красоты, истины, любви в качестве высших ценностей человеческого бытия. Вот почему, еще раз подчеркнем: русская культура в мировой традиции устойчиво воспринимается как культура гуманитарная, гуманистическая и духовная, в которой ведущими формами культурного самосознания и механизмами саморазвития являются религиозно-нравственное и художественно-творческое самосознание.
Безусловно, речь не идет о реанимировании и консервации культурных форм религиозного традиционализма, аристократической и элитарной культуры в рамках социальной практики средневековья или доиндустриальной цивилизации. Напротив, образ русской культуры в восприятии исследователя или любого другого человека должен быть освобожден от всяких мифов и спекуляций во имя подлинного образа – лица культуры и присущего ему содержания. Очевидно так же и то, что при любых изменениях культурных форм жизни, которые исторически неизбежны, культура должна вообще сохранять свое содержание, выявляя меру человеческого в человеке, меру духовного в нем, степень его творческой свободы и социальной ответственности. В этом смысле культура должна быть духовно-центричной. Это и есть ее инвариантное неизменяемое ядро – стержень, который органически связывает исторические фрагменты ее жизни в единое общечеловеческое целое. История русской культуры и была таким уникальным духовным опытом на уровне философии личности, философии культуры и творчества.
Глава 2
Культурно-политические традиции России как предмет философской критики
Традиция и традиционализм. Еще раз подчеркнем наш тезис о том, что трактовка идеалов и целей жизни человека и общества в истории России, трансформируясь на различных этапах жизни русского общества, при этом сохраняла устойчиво воспроизводимое смысловое ядро. Данное положение в методологическом плане позволяет создать типологию политической культуры России на основе отношения к культурной традиции.
Признавая европейские корни российской цивилизации, обусловленные христианской традицией, необходимо выделять ряд специфических особенностей, существенным образом повлиявших на становление ее национально-культурной и политической идентичности. При обращении к данной теме сразу становится очевидной слабость научной позиции исторической и философской критики тысячелетнего опыта Руси/России. В этой интеллектуальной исторической драме, как и прежде, сталкиваются три ментальных образа, определяющих ее сюжет и силовые линии напряжения – это образы прошлого, настоящего и будущего.
Можно сослаться на одну из интерпретационных моделей российской цивилизации и русской культуры, которая представляет собой разработку философской формы критического переосмысления отечественной истории. В своих работах А. Ахиезер, вслед за многими исследователями, в числе которых и Д. Лихачев, указывает на наличие особого «инварианта» цивилизационно-исторического развития России, обусловленного особенностью формировавшей ее культурной традиции. При возникновении сложных проблем для нее характерна инверсионная логика принятия решений в рамках исторически сложившихся ритмов. Подобный тип общественного сознания ведет, как правило, к расколу, а сама тысячелетняя история Руси/ России предстает как ряд накрывающих друг друга мифологических волн, когда удержание целостности государства, культуры и общества в период драматического столкновения старого и нового, запускающего процесс распада общественных структур, совершается посредством социально-культурного мифа. Одним из таких устойчивых мифов является идея власти, освященной авторитетом предания. При этом в идее власти и связанной с ней идеей традиционного государства просматривается как архаичная культура Рода, так и сакральный паттерн древневосточного царства. На наш взгляд, в ментальной истории русской культуры присутствуют и входят в сложное взаимодействие обе эти архаизирующие тенденции, которые продолжают проявлять себя не только в рамках древнерусской истории, но и имперского, а также большевистско-советского периода. В этой логике любые варианты модернизации с некоторыми чертами демократизации и либерализации возвращаются (или превращаются) к консервативно-охранительной модели общественного устройства.
Традиционалистско-консервативная инверсия российской истории проблематизирует исследование русской культуры как целостности. Главным вопросом здесь оказывается характер и способ наследования культурной традиции, проявляющий себя в трех основных формах: сохранения – консервации и рутинизации, отрицания – полного разрыва или радикального обновления, освоения – переосмысления и творческого развития. Настоящий вопрос сегодня вновь актуален, поскольку социокультурная ситуация в современной России, как можно видеть, воспроизводит архетип столкновения старого и нового с характерной проблемой сохранения общественных структур и обеспечения выживания государства, общества и человека. Можно согласиться с А. Ахиезером, что «проблема нашего незнания России заключается не столько в нехватке предметных знаний, сколько в характере пути нашего познания, который пока еще выбирается под значительным влиянием инверсионной логики», в то время как для воспроизводства стабильности требуется «формирование проблем на новой культурной основе» [21, с 382–383].
В значительной степени новый путь познания исторического опыта связан с процедурой философской экспертизы, которая представляет собой, своего рода, пространство «срединной культуры». Эта интеллектуальная субкультура возникает как медиация – как поиск смысла и решения за рамками сложившихся ментальных стереотипов культуры посредством преодоления их ограниченности. Медиация противостоит инверсии – быстрому логическому движению индивидуального и общественного сознания, привычно ищущему смысл событий в ранее сложившихся моделях понимания, как правило, в рамках дуальной оппозиции, характерной для мифологического, некритического, неисторического мышления. С этой точки зрения представляется важным выявить соотношение понятий «традиция» и «традиционализм», понимая их содержание как основу консервативной реакции на потребность общества в социальном, экономическом и политическом развитии. Необходимо определить, в какой мере они воспроизводят архаические ментальные структуры и способствуют мифологизации культурной и политической истории России.
Принятое в социальной философии и культурологии различение на традиционную и модернистскую культуру (общество) исходит из понимания традиции как формы трансляции духовного и социального опыта. Согласно данному толкованию, показатель изменений способов индивидуального и коллективного бытия зависит от соотношения консервативно-охранительного и инновационного начала в жизни общества, определяющего, в конечном итоге, его образ и стиль, что позволяет причислить изучаемую культуру к некоторому идеальному типу, выделить ее сущностные черты. Рассматриваемое в подобном ключе, традиционное сообщество предстает как коллективный опыт жизни в традиции, обеспечивающей наличные жизненные потребности в устойчивой и неизменяемой системе социальных и экономических отношений. Целью такого сообщества является воспроизводство и передача знаний и опыта в форме традиции, задача сохранения которой становится доминирующей и получает моральную или сакральную легитимацию. Модернистская культура, содержащая в себе потенцию развития и либерализации отношений, трактуется как ориентированная на накопление знаний и открытие на их основе новых интеллектуальных и инструментальных моделей понимания и преобразования реальности. Важным критерием в определении того или иного сообщества как традиционного или современного является технологическая структура экономики, что необходимым образом приводит к установлению корреляции с типологией цивилизаций, где традиционная характеризуется как аграрная цивилизация.
В истории мировых цивилизаций прослеживается зависимость между метафизическими ценностями общества, характером общественного производства и системой социальных связей. В традиционных культурах мировоззренческие ценности преобладают над инструментальными, находя опору в религиозных представлениях, которые поддерживают и освящают установленный социальный порядок и структуру общества. В истории можно выделить различные культурные модели традиционных сообществ – от примитивных племенных образований до конфуцианского Китая и исламской цивилизации арабского Востока. Преодоление предела допустимых инноваций приводит к изменению культурной парадигмы – традиционное общество начинает приобретать черты модернизирующейся культуры, осваивая современность, как правило, по сценарию секуляризации, демократизации, либерализации политической системы, индустриализации, активного изменения социальных структур. Классическим примером модернизационных и либеральных процессов стала Западная Европа, выступив в качестве своеобразного локомотива Современности как глобального культурного и цивилизационного проекта.
Так, рубеж XIX – ХX веков в России был отмечен активным освоением проекта модерна, историческое авторство которого принадлежит Западной Европе. Ко времени первой русской революции 1905 года Россия представляла собой сложный тип традиционной культуры, в которой сочетались архаизирующие и модернизирующие процессы. Сословная структура общества выступала основанием монархического способа правления в виде разветвленной бюрократической системы с идеологией православной империи. Все более опасным для государства и народа становился разрыв между властью и обществом, между масштабом внешне– и внутриполитических и экономических задач огромной державы и уровнем их понимания, не говоря уже о способности решать таковые. Очевидная инерционность имперского мышления в его исторически сложившихся специфически российских чертах в восприятии интеллектуально-творческой элиты, нарождавшейся буржуазии, ряда представителей аристократии связывалась с традиционалистской консервацией пути развития России, с отказом от продуктивной формы устройства общественной, культурной и экономической жизни.
Преодоление традиционализма в экономической и социальной структуре неизбежно поднимало вопрос о политическом устройстве Российской империи и ее культурной идеологии. Именно здесь, как видится сегодня с точки зрения исторических результатов ХX века, произошла подмена понятий «традиция» и «традиционализм». Во многом либеральные преобразования в социально-экономической и политической сферах жизни российского общества шли по линии преодоления традиционализма как отказа от духовно-культурной традиции, сформировавшей историческую и государственную целостность Российской цивилизации, ее активного разрушения. Незавершенность процесса секуляризации в социально-экономической жизни привела к роковому отождествлению православной традиции русской культуры и, шире, русского мира, с государственно-политическим традиционализмом Российской империи. В исторических реалиях начала ХX века ее культурно-политическая идеологема, выражаемая знаменитой формулой «православие – самодержавие – народность», не только не создала общества как единый духовно-государственный организм, но трагическим образом разъединила и настроила всех против всех, демонстрируя инверсионную логику, ведущую к расколу. Результат оказался катастрофическим, в череде событий нарастая хаосом и кровью. В то же время, отсутствие условий в широком смысле общегражданского творчества компенсировалось в интеллектуально-творческой сфере, которая стала источников новых метафизических моделей и проектов социальной реальности от символизма и «нового религиозного сознания» до марксизма и русского художественного авангарда. Рывок в современность потому и был построен на разрыве традиции, поскольку ее творческое развитие казалось невозможным: культурно-политическая традиция представала как архаика и рутина, как безжизненный традиционализм социальных форм, как «неконвертируемое» в будущее прошлое.
Сегодня чрезвычайно важно, на наш взгляд, понять природу цивилизационных срывов, перечеркивающих выдающиеся достижения отечественной культуры, для чего и требуется работа по осмыслению прошлого и настоящего, но именно в горизонте исторического образа будущего, причем точкой опоры здесь должно стать не реставрируемое прошлое, а возвращающееся будущее. В противном случае России будет грозить повторение не один раз совершенных исторических ошибок, в XX веке уже дважды приводивших к великим социальным потрясениям и трагедиям, когда распадались Российская империя и ее интернациональный преемник в идеологическом формате социалистического государства – Советский Союз.
Речь идет о недопустимости наступления «нового средневековья», с его архаизирующей традиционалистской структурой социальных связей и экономических отношений, четко просматривающихся как в российском абсолютизме, так и в большевистском тоталитаризме. В этом контексте, серьезной опасностью является подмена духовной традиции восточно-христианской культуры государственно-политическим традиционализмом, при котором бюрократическая система легализуется на уровне закона, получая санкцию «свыше».
Каким образом в рамках самой истории Руси/России сложилась возможность такого смыслового соотношения и взаимодействия власти и религиозной традиции – самостоятельная тема исследований, не входящая в нашу задачу. Укажем лишь на то, что в эпоху Московского царства происходит чрезвычайно симптоматичный процесс отрыва от полноты исторического предания: ветхозаветный образ царства устанавливается в новозаветной истории, государство превращается в церковь, царь – в теократического владыку, история теряет горизонтальный вектор развития и мыслится пространственно. Тем самым вселенскость как необходимое условие христианской культуры локализуется местом спасения, а эсхатологическая идея третьего Рима превращается в религиозно-политическую доктрину национального государства, не обладающего атрибутами имперского универсализма, что прежде соответствовало принципам строения церкви в трехчленной формуле единства, вселенскости и порядка, опять-таки воспринятой от политической традиции Рима.
Попытка восстановить полноту исторического предания в эпоху Никона, с его идеей возвращения к греческим основам веры, приводит к расколу. Предельным выражением тенденции секуляризации, обозначенной расколом, становится реформа Петра Великого. В новом имперском формате он пытается вернуть России место в современной истории, преодолев катастрофическое цивилизационное отставание, ставшее, в свою очередь, результатом национально-пространственной локализации христианской традиции. Однако принцип сохранения государственно-культурной целостности опять-таки осуществляется на основе идеи власти, имеющей сакральную легитимность, поэтому в рамках империи продолжает оставаться моделирующим архетип царства, порождающий секулярную версию теократии – русский абсолютизм с образом царя-помазанника как предстоятеля государства-церкви перед Богом. Парадоксальным образом религиозные реформы Петра, проведенные по протестантскому образцу, закрепили традиционалистское существование духовной традиции в ее архаическом обрамлении культуры рода и культуры древнего царства с чертами восточной деспотии. Следствием этого стала деградация церковного сознания, длительность сохранения института экономической и личной зависимости подавляющего большинства населения Российской империи, катастрофический разрыв между властью и обществом, буквальное существование двуязычных культур в рамках одного исторического социума, неразвитость социальных и экономических отношений, болезненное расхождение между традицией разума и опытом веры, приведшее к идейному и духовному расколу в элите, с ее обостренной политической интонацией в обсуждении судьбы России.
Все эти черты составляют характерные признаки российского традиционалистского социально-политического мышления и бытия. С некоторыми отличиями настоящие симптомы могут быть обнаружены и в современной России, что подтверждает острую необходимость критического переосмысления ее истории с целью сохранения богатейшего духовно-культурного наследия. Задача эта лежит в плоскости преодоления архаизирующей парадигмы – в выстраивании перспективы творческого освоения духовно-социального опыта. Модернизационный вектор в этом контексте становится уместным в случае сохранения христианской основы российского культурно-цивилизационного типа на уровне базовых метафизических ценностей, интеллектуально-философских практик наряду с правовой рационализацией социальной жизни.
Преодоление исторических стереотипов. Попытка сформулировать принципы развития, преодолевающие культурно-политический традиционализм, содержится в философско-богословской дискуссии, развернутой русскими мыслителями в первой половине ХX века. В их текстах если и возникала оппозиция консерватизма и либерализма, то на фоне событий трагической эпохи русская мысль иногда вынужденно, силою самих обстоятельств, должна была превозмогать собственный дуализм западничества и почвенничества, традиционализма и модернизма, консерватизма и либерализма. Тем самым она брала на себя ответственность трезвого понимания и оценки происходящего, ибо катастрофы в общеевропейском доме следовали одна за другой. Подобные усилия заметны в работах Н. Бердяева, В. Вейдле, И. Ильина, Ф. Степуна, П. Струве, Г. Федотова, Г. Флоровского. Особенно интересны взгляды русских философов, казалось бы, остававшихся на консервативных позициях, но формулировавших совершенно иные задачи – пересмотра политических и ментальных стереотипов культурной традиции.
Так в основе проекта сохранения культурно-политической идентичности России И.А. Ильина лежит идея христианской культуры, точнее, христианизации культуры, или оцерковления. Русскую цивилизацию он рассматривает как результат процесса христианизации различных сторон жизни, возвращаясь к идее власти монархического типа, но на основе культуры правосознания, для которой характерно ограничение абсолютизма нравственными критериями. Ильин выдвигает тезис о творческой демократии, выражая ее следующим типом зависимости: «внешняя организация жизни не просто безразлична, она является выражением и функцией внутреннего мира человека – его сердца, его воли, его правосознания, его совести» [227, т. 6, кн. III, с. 21]. Так была выношена и родилась знаменитая культурологическая формула философа: христианская культура возможна только как культура сердечного созерцания. Именно такая культура, по его мнению, продолжает оставаться главной творческой перспективой гражданина России, для которого цель воспитания в себе и в другом культуры сердечного созерцания неотделима от задач построения творческой демократии.
Критический взгляд на проблему преодоления традиционализма русской социально-политической истории и культуры содержится в трудах Г. Флоровского. Почти как приговор звучат его слова: «Русская душа поражена не только первородным грехом, отравлена не только “природным дионисизмом”. Еще более обременена она своими историческими грехами, яже ведением и неведением» [563, с 501]. Флоровский вскрывает роковой и трагический смысл русского обскурантизма, связывая его с упрямым недоверием к культуре, где недоверие к богословской науке является частным случаем общей установки. Очевидно, в понятие культуры Флоровский вкладывает универсально-культурологический смысл. Творческое слово, способное преодолеть как подражательность западного рационализма, так и назидательно-дидактическое школярство русской мысли, в авторской программе видится как «восстановление патристического стиля».
Флоровский предлагает свое решение преодоления разрыва с временем большой культуры. Россия как воспреемница патристического синтеза восточно-христианской культуры с его необходимым опытом соборности, исторического мышления и памятью культуры может выступить с особой исторической миссией, которая только ей принадлежит, предназначена и ожидаема от нее в мире. Поэтому для Флоровского в реалиях геополитики творческое возрождение русского культурного мира есть необходимое условие для решения «экуменического вопроса» [563, с 515]. И здесь Флоровский дистанцируется как от идеологических соблазнов русского национализма, так и теократических поползновений западного клерикализма, синтезируя Предание и Культуру, и, тем самым, обозначая границы срединного пространства, лежащего за пределами мифологики истории Руси/России.
В контексте обсуждения поставленной проблемы возникает образ медиатора – опосредствующей интеллектуальной культуры, способной преодолевать инверсионные исторические ритмы российской социально-политической истории. Но как это бывало и прежде, восстановителем общественного порядка и государственных функций управления сегодня оказывается российский политический консерватизм, слегка подреставрированный задачами модернизации. Он позиционирует себя противостоящим национальной катастрофе – распаду государства, проходившего под лозунгами политического и экономического либерализма. Ясно одно, очевидная деградация форм общественно-политической, хозяйственно-экономической, духовно-культурной жизни является той провокативной ересью ко всей исторической традиции Руси/России, которая должна быть встречена в духовном и интеллектуальном всеоружии знания и понимания, мысли и действия. Следовательно, речь может идти о новой стратегии развития России только на основе глубокого изучения и понимания ее исторического опыта. Философская критика культурно-политической истории России есть необходимое условие консолидированной научной, общественной и государственной работы, позволяющей предотвратить в отечественной истории трагически повторяющееся столкновение консерватизма в виде политического традиционализма и либерализма в виде ниспровергателя духовно-культурной традиции, образовавшей, как само государство, так и нацию.
Если свести наши рассуждения к постановке конкретных исследовательских и практических задач, то они будут отражены в следующих положениях:
Сохранение целостности России требует новой интерпретации ее культурной и социально-политической истории, что позволит обеспечить воспроизводство общества, культуры, государства за рамками архетипа консервации и деисторизации/мифологизации культурной традиции.
Философская рефлексия обеспечивает процедуру критического переосмысления и творческого освоения культурной традиции, выполняя роль медиатора во взаимодействии ментальных образов субъектов истории.
Культурная капитализация России связана с процессом формирования в индивидуальном и общественном сознании запроса на ценности и смыслы отечественной культурной традиции, в результате чего они становятся фактом социального мышления агентов (субъектов социального, интеллектуального, исторического творчества). При этом источником культурного капитала остается духовно-культурное наследие России, интериоризируемое посредством образовательных, интеллектуально-коммуникативных, творческих и иных практик.
В этом случае можно надеяться, что для России открываются исторические перспективы в современности, которые не станут очередным сломом ее традиции, а, наоборот, позволят на новом этапе решить актуальные геополитические и внутриполитические задачи на основе принципов культурного универсализма, создавшего когда-то большой мир христианской Европы и национально-культурную общность русского мира.
Глава 3
Социальный порядок, свобода и творчество в русской философии и литературе
Дискурс свободы в русской интеллектуальной традиции.
Проблематика свободы в истории русской мысли занимает исключительное значение, и в этом она обнаруживает концептуальную и историческую взаимосвязь с европейской философией, где свобода является одной из центральных идей, которая возникает в лоне антично-христианской традиции и активно разрабатывается в различные культурные эпохи – от средневековья до актуальной современности. И в то же время русская мысль привносит свое видение онтологической, этической и социально-политической перспективы свободы как философского феномена, раскрывающего базовый смысл жизни человека, нравственные ценности общественного бытия, его правовой порядок. Смысловая взаимообусловленность и взаимодействие европейской и русской традиции в истолковании свободы крайне важны для выявления генезиса понятия и культурно-исторического контекста его существования. На эту внутреннюю взаимосвязь европейской (шире, мировой) и русской мысли в многообразии определяющих философию тем, среди которых и проблема свободы – личностной и гражданско-правовой, – указывал Б.П. Вышеславцев в своей итоговой книге «Вечное в русской философии». По мнению блестящего русского интеллектуала, «основные проблемы мировой философии являются, конечно, проблемами и русской философии. В этом смысле не существует никакой специально русской философии. Но существует русский подход к мировым философским проблемам, русский способ их переживания и обсуждения» [118, а 154].
Развивая мысль Вышеславцева, можно сказать, что в русской философии наличествует устойчивый интерес к проблематике свободы, обнаруживающий специфический русский ««подход» к мировой философской проблеме свободы, равно как и русский способ ее «переживания и обсуждения». Как пишет Вышеславцев, «разные нации замечают и ценят различные мысли и чувства в том богатстве содержания, которое дается каждым великим философом. В этом смысле существует русский Платон, русский Плотин, русский Декарт, русский Паскаль и, конечно, русский Кант. Национализм в философии невозможен, как и в науке; но возможен преимущественный интерес к различным мировым проблемам и различным традициям мысли у различных наций» [118, с. 154]. Замечание Вышеславцева кажется справедливым. Если задаться целями сравнительно-исторического исследования, сопоставив философскую тематизацию свободы в трудах великих западных мыслителей – Августина Блаженного, Джордано Бруно, Лютера, Паскаля, Локка, Гоббса, Канта, Гегеля, и в текстах русских философов – Радищева, Чаадаева, Хомякова, И. Аксакова, И. Киреевского, Соловьева, Чичерина, Бердяева, Булгакова, Струве, Франка, то мы увидим, что интерес к этой теме в отечественной традиции не менее выражен. Он остается, говоря словами Вышеславцева, преимущественным. Отличие западноевропейского и русского типа философствования о свободе будет заключаться в дискурсивных практиках обсуждения данной темы. Это связано, в первую очередь, с доминированием религиозного и художественного опыта в развитии русской культуры, где религия и искусство выступают и важнейшими формами ее самопознания, беря на себя функцию философской рефлексии над основаниями социального и исторического бытия.
Как подчеркнет Вышеславцев, проблема свободы всегда была и остается важнейшей для русской философии и литературы, онтологические и культурные корни которой – в христианском учении свободы и этики любви: «Проблема свободы и рабства, свободы и тирании является сейчас центральной мировой проблемой, она же всегда была центральной темой русской философии и русской литературы. Пушкин есть прежде всего певец свободы. Философия Толстого и Достоевского есть философия христианской свободы и христианской любви. Если Пушкин, Толстой и Достоевский выражают исконную традицию и сущность русского духа, то следует признать, что она во всем противоположна материализму, марксизму и тоталитарному социализму. Русская философия, литература и поэзия всегда была и будет на стороне свободного мира: она была революционной в глубочайшем, духовном смысле этого слова и останется такой и перед лицом всякой тирании, всякого угнетения и насилия. Гений Пушкина является тому залогом: “Гений и злодейство две вещи несовместные”. Неправда, будто русский человек склонен к абсолютному повиновению, будто он является каким-то рабом по природе, отлично приспособленным к тоталитарному коммунизму. Если бы это было верно, то Пушкин, Толстой и Достоевский не были бы выражением русского духа, русского гения. Поэзия Пушкина есть поэзия свободы от начала до конца» [118, с 160].
Свобода как духовный и политический антипод всякой тирании – вот главный тезис Вышеславцева, подводящего в своей знаменитой книге своеобразный итог развития русской мысли, гениальными представителями и выразителями которой являются упомянутые им классики русской литературы. Возводя генеалогию русской свободы к Пушкину, философ указывает на ключевой момент в самоопределении русской мысли. Творчество Пушкина – это первая вершина процесса европеизации и секуляризации русской культуры – высочайший образец национального варианта развития проекта модерна в рамках русского мира, не утерявший религиозной интуиции и связи с почвенной духовной традицией. Пушкин для последующих поколений авторов остается интеллектуальным ориентиром, в орбите его творчества, по сути, удерживается культурная и языковая картина русского мира. Вот почему к этому истоку синтеза национального и универсально-европейского в опыте осмысления свободы как имманентной творческой способности человека, вслед за своим учителем и вдохновителем В.С. Соловьевым, будут постоянно возвращаться представители русской религиозно-философской мысли – Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, Б.П. Вышеславцев, Вяч. Иванов, И.А. Ильин, Е.Н. Трубецкой, Н.О. Лосский, Ф.А. Степун, П.Б. Струве, Г.П. Федотов, П.А. Флоренский, С.Л. Франк, В.Ф. Эрн. Символично, что находясь уже в эмиграции, русская журналистка и писательница, активная участница освободительного движения, член ЦК партии кадетов и первая в истории женщина – редактор газеты А.В. Тыркова-Вильямс, будет изучать опыт русской культуры и понимать произошедшие с Россией потрясения через интеллектуальную биографию Пушкина.
Вопрос об онтологической природе свободы, ее социальных, политических и культурно-творческих формах был отчетливо поставлен в отечественной общественной и религиозно-философской мысли периода конца XIX – первой половины ХX веков и связан с поиском пути «русской свободы». Отметим, что в контексте развития идей русского религиозно-философского ренессанса значим тот факт, что, отстаивая различные точки зрения, все его авторы в той или иной мере обсуждали проблему взаимоотношения свободы и культуры, меры божественного и человеческого в социально-политическом бытии и культурном творчестве. Однако задача определения меры личностной и общественной свободы стала насущной для русских интеллектуалов уже в конце XVIII – первой половине XIX вв. и не только как философско-теоретическая проблема, а как жизненный выбор – моральный и идейный. Драматическая судьба талантливых философов и писателей – Радищева, Чаадаева, Герцена, дерзнувших проявить «свободу в мышлении и во мнении» – тому подтверждение. Самоубийство Александра Радищева, репрессированного властью, видевшей в нем опасного смутьяна, который своей антикрепостнической позицией подрывает социальный базис русского самодержавия, не менее красноречиво, чем объявление «сумасшедшим» Петра Чаадаева, горько рассуждавшего о парадоксальном положении России в мировой истории. Студенческое вольнодумство Александра Герцена, пресеченное на корню николаевским режимом, сделало из наследника богатейшего аристократического рода сначала диссидента, а затем эмигранта-оппозиционера – непримиримого борца с полицейско-бюрократическим русским государством. Все эти примеры свидетельствуют не только о сложных отношениях думающего меньшинства и правящего режима, но и о непростой судьбе самой идеи свободы в русском общественном сознании.
Отметим, что задача рассмотрения концепта свободы в русской мысли оказывается достаточно трудной в постановке и определении подходов, как к самому феномену свободы, так и в отношении к конкретному историческому опыту ее теоретической или социальной манифестации. Главная методологическая трудность – типологические отличия в культурной истории России, в которой можно выделить древнерусский период, характеризующийся как культура религиозного традиционализма, имперский, секулярный, достигший наивысшего расцвета в русской классике, и советский, с неклассической по типу культурой, формировавшейся в теории и практике построения коммунистического (социалистического) общества. Свобода в интерпретации классической философии модерна, конечно, не является тождественной опыту свободы в рамках традиционного общества, чьи высокие практики культуры и социальный порядок выстраиваются под доминирующим влиянием восточно-христианской религиозной традиции. Можно сказать, что разумная кантовская свобода, как интеллектуальный плод секуляризации западной христианской культуры, реализовавшей проект модерна, и свобода в традиционном русском обществе «культуры веры», скорее, противостоят друг другу. Однако их объединяет общее христианское предание, лежащее в истоке как западной, так и восточной культурной европейской традиции. Для большинства представителей русской религиозной мысли свобода человека рассматривалась в истине и духе христианского учения, как свобода в Боге, не отвергающая свободу воли человека, но возводящая разумно-волевое усилие к высшим целям спасения и обожения. Для неортодоксальных мыслителей, как Н.А. Бердяев, свобода в Боге становилась основанием и заданием автономного творчества человека. На сегодняшний день этот вопрос остается открытым для философского обсуждения.
Осмысление феномена свободы в традиции русской культуры богато сюжетами драматического противостояния социально-политического и духовно-нравственного понимания свободы, где сталкивается рационально-философский и религиозно-философский (богословский) тип познания действительности. Зачастую он принимает не продуктивную форму научной или мировоззренческой дискуссии, а выливается в непримиримую идеологическую борьбу. Очевидные следы этой «борьбы дискурсов» носит на себе русская общественная мысль с ее парадигмальным противостоянием западничества и почвенничества. В основе этой борьбы и последовавшего идейного раскола в русском общественном сознании лежит не только вопрос о цивилизационной идентичности России, ее «европейскости» или «самобытности». Это глубинный онто-гносеологический уровень, обозначающий расхождение в путях познания Сущего и конкретных формах его культурной репрезентации в социальном бытии человека. Можно считать, что расхождение между западной и восточной христианской цивилизацией с их исторически сложившимися политико-правовыми и культурно-творческими практиками имеет своим началом великую схизму церквей, однако очевидная разница культурных потенциалов наиболее видна именно в эпоху Нового времени. Именно с этого момента происходит, в терминологии В.Ф. Эрна, одного из идейных лидеров неославянофильства, становление западного рационализма и имманентизма, манифестирующего себя в западном модерном обществе. Рационализм, отрывающийся от сущего, от природы, как отмечает Эрн, противоположен восточному онтологизму и персонализма. Хранителем восточно-христианской духовной традиции выступает русская философия и русская культура с ее тяготением к религиозному опыту переживания Абсолютного. Как определяет Эрн, «русская философия занимает среднее место между философской мыслью Запада, находящейся в неустанном течении и порыве, и философской мыслью Востока, парящей в орлиных высотах и находящейся в неустанной напряженности вдохновенного созерцания» [624, с. 82]. Как считает Эрн, миссия русской философской мысли заключается в том, что она «должна раскрыть Западу безмерные сокровища восточного умозрения» [624, с. 82]. Другими словами, русская философия должна удерживать в культурном опыте европейца связь с Логосом-Христом – с той религиозной метафизикой, где впервые прозвучал императив ««где Дух Господень – там свобода» (2 Кор 3, 17).
Полемизируя с издателями «Логоса», выступившими на страницах нового международного ежегодника по философии культуры с программой научной философии в духе неокантиантства, Эрн категорически не соглашается с С.И. Гессеном и Ф.А. Степуном, отвергая их тезис об отсутствии свободной мысли в России. «Для того чтобы оправдать немецкий характер журнала, редакция “Логоса” сочла себя вынужденной наскоро расправиться с прошлым русской философской жизни, – пишет Эрн. – В результате этой расправы получается, что русская мысль никогда не была свободной, что русская философия – это “постоянное рабство при вечной смене рабов и владык”, что единственный русский философ Вл. Соловьев был не философ, а только лишь личность(!): Словом, бедные скифы ничего интересного в области философии не представляют, и для того, чтоб со временем они могли что-нибудь из себя представить, им необходима школьно-немецкая выучка», – горько замечает Эрн [624, с. 81][1].
Развернувшаяся в начале XX века между «неославянофилами» и «неозападниками» дискуссия о самостоятельности русской философии свидетельствует не только о борьбе за признание значимости ее онтологических и гносеологических оснований, но и об актуализации проблемы свободы, понимаемой как ценность культуры и условие философской мысли вообще. Определяясь по поводу отечественной традиции философствования о свободе, мы должны сказать и о сути нашего подхода к проблеме свободы. Он состоит в том, что собственная природа человеческих целей заключается в преодолении пределов возможного опыта. Настоящий тезис базируется на признании целесообразности и разумности всякого человеческого действия. Осуществляемое автоматически, как своего рода культурный инстинкт, настоящее действие не обнаруживает трансцендирующей природы цели. Но человек не может не оценивать свою способность трансцендировать за положенные ему природой пределы, так как именно в этом находит свое отличие от окружающих его живых существ, ограниченных биологической программой. Как отмечает исследователь, «в живом русском языке слово “свобода” в самом общем смысле означает отсутствие ограничений и принуждения, а в соотнесенности с идеей воли – возможность поступать, как самому хочется» [633, с 421]. В этом случае самооценка человека возможна лишь относительно абсолютного деятеля, внеположного ему и способного преодолевать любые пределы. Здесь и появляется проблема абсолютной меры свободы, относительно которой человек и может себя оценивать как свободное существо. Как нам представляется, генезис идеи свободы в культурной истории человека связан именно с данной возможностью его самооценки относительно Абсолюта (абсолютной свободы). При этом выстраивается значимая для раскрытия нашей проблемы смысловая взаимосвязь: насколько человек соответствует подобной самооценке, настолько он и соответствует себе. Другими словами, мера свободы и есть мера «человеческого в человеке». Результатом самооценки человека относительно абсолютного деятеля является понимание, что в горизонте трансцендентного идеала свободы, в христианской картине мира – свободы в Боге, целостный результат его жизни не может быть исчерпан даже теми границами, которые он прочерчивает себе сам.
Если в восточно-христианской онтологии и этике достижение полноты свободы (благой, благодатной свободы, свободы как дара Духа Св.) связано с достижением святости – обоженного состояния человека, началом которого является труднейшая борьба с грехом, послужившим причиной зла – смерти и конечности человеческой жизни, то философская традиция Нового времени связала достижение свободы с образом человека как культурного деятеля, преодолевающего свою ограниченность в творчестве, реализующего потенцию свободы в идее автономной разумной личности. Свободная личность Нового времени созидает универсум культуры, где разумное устроение общества на гражданско-правовой основе является предпосылкой индивидуальной свободы лица. Нам представляется допустимым предположение, по крайней мере, для русской философской традиции, что с методологической точки зрения продуктивно рассматривать автономную свободу человека, репрезентантом которой являются многообразные формы социального и культурного творчества, и свободу в Боге, как духовно-этический идеал, формируемый христианской религиозной традицией, как два начала жизненного опыта, имеющие общий онтологический исток.
Однако можно ли вообще в рамках древнерусской культуры (религиозного традиционализма), где каждый жизненный акт сопряжен с опытом веры, говорить о проявлении свободного социального и культурного творчества человека, необходимым условием которого выступает свобода, когда человек проявляет себя как самостоятельный деятель? В истории европейской культуры подобная концепция свободы как основания автономного творчества связана с эпохой Возрождения. Россия, не пережившая полноценно опыт Возрождения, восприняла его результаты в готовом виде, в формах, легитимизированных Просвещением, где равновеликость человека Богу приняла уже умеренный культурный вид. Тем не менее, изменения, происходившие в истории культуры Руси/России, также связаны с процессами секуляризации.
Как нам представляется, сложившееся в процессе петровских реформ осмысление свободы как имманентной личностной способности, выраженной в результате творчества уникальным образом в авторском произведении и в идее социально-преобразовательной активности человека, сохранило на глубинном, архетипическом уровне самосознания понимание свободы в качестве трансцендентного идеала личности в горизонте Абсолютного, значимого для древнерусской культуры. Поэтому сложившиеся в философской традиции пары оппозиций «вера – разум», «религиозность – творчество», «традиция – социальная новация» не могут в полной мере выявить специфику процесса рождения индивидуальной свободы из коллективного социального порядка при переходе от религиозной культуре к светской. Этот процесс, собственно, и представляет собой в истории европейской цивилизации переход от традиционного общества к обществу модерна. В этом случае мы должны были бы указывать на непреодолимый разрыв культурной преемственности в истории Руси/России и характеризовать нововременную идею свободы собственно как свободу личности в противовес религиозному традиционализму, такой свободы и, следовательно, проявления творчества, вроде бы не знающего. Но тогда возможно ли было в нашей культуре появление такого глубоко национального поэта, как Пушкин – творческого гения, самостоятельного политического и религиозного мыслителя – «певца империи и свободы», по выразительному определению Г.П. Федотова!
На этом моменте продуктивного синтеза идеи свободы творческого лица и религиозно-поэтической одаренности как сущностной характеристики Пушкина сходились буквально все русские философы. В первом по значению русском гении они отмечали черты пророческого служения (В.С. Соловьев, И.А. Ильин), глубинную интуицию Абсолютного в даре мудрости (М.О. Гершензон), откровение личности поэта (С.Н. Булгаков). Для В.Ф. Эрна Пушкин был наследником традиции, определяемой философом в терминах христианского «онтологического реализма». О «христианском реализме» в творчестве Пушкина свидетельствовал С.Л. Франк, воплощение светлой «меры и мерности» в его художественном и духовном опыте видел П.Б. Струве. По меткому выражению Б.П. Вышеславцева, «полнота жизни, полнота личности есть полнота творческой свободы. Кто ее не переживал, тот не может философствовать о свободе. И Пушкин изображает это переживание на всех его степенях: от простого “самодвижения” и спонтанности жизни, от безусловного рефлекса освобождения, свойственного всему живому, от бессознательного инстинкта “вольности” – вплоть до высшего сознания творческой свободы, как служения Божеству, как свободного ответа на Божественный зов» [460, с. 160].
«Вольность» и «свобода» – две категории, раскрывающиеся в творчестве Пушкина во всей своей многоликости, – подчеркнет Б.П. Вышеславцев. Г.П. Федотов добавит, что пушкинская личная, творческая свобода «стремилась к своему политическому выражению» [460, с. 357]. А.И. Герцен обронит фразу, ставшую устойчивой культурологической метафорой: «…на призыв Петра цивилизоваться Россия ответила явлением Пушкина». Тем самым Герцен, выдающийся публицист и социальный мыслитель своего времени, первым покажет, что свобода как духовный дар проецировалась на политическую плоскость и становилась мерилом и требованием социального порядка. Но эта гармоническая линия взаимодействия «христианской онтологии» и «русской социологии» в жизни российского государства и общества не осуществилась. Как заметит Федотов, «как только Пушкин закрыл глаза, разрыв империи и свободы в русском сознании совершился бесповоротно. В течение целого столетия люди, которые строили или поддерживали империю, гнали свободу, а люди, боровшиеся за свободу, разрушали империю. Этого самоубийственного разлада – духа и силы – не могла выдержать монархическая государственность. Тяжкий обвал императорской России есть прежде всего следствие этого внутреннего рака, ее разъедавшего. Консервативная, свободоненавистническая Россия окружала Пушкина в его последние годы; она создавала тот политический воздух, которым он дышал, в котором он порой задыхался. Свободолюбивая, но безгосударственная Россия рождается в те же тридцатые годы с кружком Герцена, с письмами Чаадаева. С весьма малой погрешностью можно утверждать: русская интеллигенция рождается в год смерти Пушкина. Вольнодумец, бунтарь, декабрист, – Пушкин ни в одно мгновение своей жизни не может быть поставлен в связь с этой замечательной исторической формацией – русской интеллигенцией. Всеми своими корнями он уходит в XVIII век, который им заканчивается» [460].
Почему же так важен XVIII век, к которому Федотов возводит истоки пушкинского мировоззрения и его опыт чувствования и переживания творческой свободы сквозь призму истории русской имперской государственности? Ведь Пушкин, прежде всего поэт, художник, человек культуры Слова, интуитивно схватывающий красоту божественного творения и ее воспевающий. Какова роль искусства и эстетики в трансляции важнейшей ценности европейского модерна – идеи и идеала творческой свободы личности в разумно устроенном социуме? В каких контекстах она прозвучала в художественных и философско-публицистических текстах русской интеллектуальной культуры конца XVIII века и, далее, была философски осмыслена писателями и мыслителя XIX столетия? Рассмотрим подробнее.
Социально-философские и этические аспекты свободы в русской классической литературе. Светская культура, утверждающаяся в XVIII веке, на уровне художественного самосознания переосмысливает религиозную тематику. Главной темой философской и художественной рефлексии становится тема истории, тема социальных взаимоотношений человека в рамках новой, подчеркнуто светской культуры и быта. Христианская проблематика свободы рассматривается в непосредственной связи и взаимообусловленности нравственного опыта личности и ее общественного служения.
В общем контексте развития культуры, создателями которой являются пенсионеры и ученики светских гимназий, лицеев, академий и школ, религиозное миросозерцание не имеет определяющего значения. Аристократическая дворянская культура вырабатывает свои нравственно-этические ценности, для которых христианское учение становится, скорее, нормативной базой общественных отношений, но не живым духовным опытом спасения в горизонте трансцендентного идеала.
Самосознание человека эпохи XVIII века определяют эстетические параметры художественных стилей и социально-философские идеи, доминирующие в умственной и политической сферах. Ведущими в XVIII веке являются эстетическая доктрина классицизма, рационализм и эмпиризм как методы научного познания, в области социально-политической практики – идеология Просвещения. На рубеже XVIII–XIX веков сентиментализм подготавливает почву романтической и реалистической эстетике.
Религиозная идея спасения оказывается проблемой нравственного самосознания личности, но не целью самой культуры, границы которой определяются исторической реальностью и конкретными социальными задачами. Характерно, что в этом процессе, как и в период христианизации Руси, на первый план выдвигается традиция письменного слова, призванного приобщать к новой культуре, а также зримый образ европейского мира в его архитектурном исполнении, тем самым задается художественно-эстетический дискурс христианского универсализма в его нововременной версии, расширяющий русское культурное пространство до европейского. И если петровские пенсионеры создают узнаваемый европейский мир, осваивая практики изобразительного искусства, то ведущим фактором в формировании культурного самосознания человека послепетровской эпохи становится литература.
Универсум русской культуры созидается как реальность человеческого разума и чувства, ума и сердца, его волений. Жизнь получает оправдание в активности познающего разума или изъявлении сердечного чувства. Центр духовных устремлений – правда о человеке, взятая в социально-историческом аспекте его существования. Таким опытом, на наш взгляд, представляется творчество Михаила Васильевича Ломоносова (1711–1765), утверждающего прогрессивный смысл развития истории, в которой образ России занимает центральное место, а европейский проект Петра I с его акцентом на строительстве социально-политических институтов интерпретируется в этических категориях христианского учения.
Творческий путь Ломоносова не имеет прецедента в русской истории, и в этом смысле главным открытием Ломоносова является открытие самого себя – новой свободной личности эпохи модерна, феноменально одаренной и в полной мере сумевшей реализовать свой талант, свою устремленность к познанию и созидательному труду – к творчеству, основанному на новационном знании. Движимый идеалами просвещения и любви к Отечеству, Ломоносов создает первый российский университет. Безгранично веря в величие России, ученый утверждает исторический оптимизм. В новых исторических начинаниях петровской России он видит залог будущей победы добра над злом в мире, устроенном согласно законам справедливости.
В творчестве Ломоносова получают развитие эстетические идеи классицизма. Они оказывают существенное влияние на понимание Ломоносовым истории. Историософская проблематика отражена в его исторической драматургии. В трагедии «Тамира и Селим», «Демофонт» раскрывается позиция ученого, поэта и гуманиста. Устами героев он осуждает порок и восхваляет добродетель, которую он утверждает в качестве созидающей силы истории. Свобода в философской интерпретации Ломоносова связана с идеей прогрессивного развития общества в духе идей просвещения. Эта мысль отчетливо звучит в его драматических произведениях. Все формы тирании – и семейной, и государственной, согласно Ломоносову, обречены: «Безумна власть падет своею тяготою» [481, с. 42].
В своих исторических пьесах поэт и ученый выступает против завоевательных войн, проповедуя мир как залог процветания народов и государств. В этом просветительский пафос соединяется с глубокой традицией древнерусской культуры: уже в «Слове о законе и благодати» митрополита Илариона мир и благополучие были осознаны как высшие цели и ценности жизни народов в единстве всеобщей истории в перспективе христианского универсализма. Европейский универсалистский проект, в реализации которого участвует М.В. Ломоносов, удерживает христианский смысл созидательной культурной деятельности народов как нравственный идеал не трансцендентный, но имманентный самой истории. Таким образом, свобода оказывается коррелятивна социальному освобождению в логике прогресса и просвещения. Тем самым, образ Абсолютного, заданный религиозной традицией, сменяется идеей будущего общества в свободе – общества, преодолевшего все формы тирании как внеразумного и внеморального порядка. Эсхатологический трансцензус человечества заменяется «трансцензусом» истории – ее прогрессивным развитием.
Философская доминанта эпохи – творчество Александра Николаевича Радищева (1749–1802), энциклопедически образованного ученого, историка, археолога, этнографа, врача, экономиста и правоведа. Век бурных социально-культурных преобразований в России стал для Радищева предметом философских размышлений, нередко облекаемых в художественную форму. Мучительные поиски истины, испытания человеческого духа составили суть моральной и социальной философии Радищева. Гражданская незащищенность Радищева, личное одиночество, драматические повороты судьбы усилили трагический момент в его философии, центральная тема которой – человек. Обращение к проблеме человека связано с возросшим научным интересом к человеку как к природному, родовому существу и человеку историческому, культурному. В основе философских построений Радищева – опыт создания целостного образа человека, определение его места в природном и культурном мире.
По Радищеву, человека характеризуют физическая и социальная природы, которые выражают его «естественное» состояние – состояние «нормального человека». Здесь Радищев защищает и развивает концепцию «естественного права», сформулированную философами века Просвещения, пытаясь артикулировать ее в связи с обстоятельствами русской действительности. Отметим, что идеи «естественного права» важны и в философских построениях Татищева, Прокоповича, Щербатова, но именно для Радищева идеалы равенства людей изначально, «от природы», как неотчуждаемое свойство человеческой личности, залог ее свободомыслия и ценности жизни вообще, становятся основным социально-этическим мотивом философского творчества. Согласно представлениям Радищева, общество, исповедующее эти идеалы, должно быть основано на свободном сознательном труде коллективного характера, поскольку только в таком обществе возможна реализация «человеческого начала».
Данная концепция получает развитие во многих произведениях Радищева – художественных, философских, правовых. Об этом – ода «Вольность», «Илимский острог», знаменитое «Путешествие из Петербурга в Москву», философский трактат «О человеке, его смертности и бессмертии», правоведческая работа «Проект гражданского уложения». Побудительный стимул философских раздумий о человеке – чувство моральной «уязвленности», которое испытывает душа. Совестливый разум вменяет человеку ответственность за свои поступки и за нравственный облик общества. По мысли Радищева, все беды человека происходят от него самого и неверного взгляда на окружающие предметы. Вывод, который делает философ: единственная проблема человека – это проблема самосовершенствования на пути социального прогресса. Суть последнего – моральный прогресс общества и человека, свободных от неправды социального гнета – этой высшей несправедливости, совершающейся по отношению к равным «от природы» людям.
Это сведение проблематики личности и свободы к духовно-нравственному содержанию – устойчиво повторяющийся мотив русской философии.
По справедливому замечанию С.Л. Франка, сущность русского мировоззрения определяется религиозной этикой, которая «есть в то же время религиозная онтология» [565, с. 153]. Онтологизированная этика как устойчивая характеристика русского культурного типа объединяет, по мысли Франка, и простого богомольца, и выдающихся авторов русской классической культуры – Достоевского, Толстого и Владимира Соловьева. В своем искании «правды» человек древнерусской духовности и гениальный творец русской классики в своем глубинно-психологическом истоке – все тот же самый искатель правды-истины, поскольку «он хочет не только понять мир и жизнь, а стремится постичь главный религиозно-нравственный принцип мироздания, чтобы преобразить мир, очиститься и спастись» [565, с. 152]. Глубинную мировоззренческую ориентированность русской культуры и русского культурного самосознания на проблемы этики отмечал в своих работах и В.В. Зеньковский. Можно согласиться с историком русской философии, что религиозная этика в духовном опыте русской культуры есть религиозная онтология, усвоенная и истолкованная практически. И проблема свободы возникает именно как этический вопрос, решаемый онтологически. В древнерусской культуре – это живое свидетельство веры святых подвижников, мудрых книжников, церковных учителей и святителей, благоверных князей, благочестивых мирян и позже. В рамках светской культуры, к которой принадлежит Радищев, – этот духовно-психологический тип выделяется обостренным чувством совести и нравственной ответственности философа, писателя, художника, который, оправдываясь за свой творческий дар, имея душу, «уязвленную страданием», подчиняет всю свою жизнь какому-то идеалу или идее, направляя свободную волю и энергию на служение им.
Теория нравственного прогресса А.Н. Радищева диалогизирует с этико-философскими идеями Николая Михайловича Карамзина (1766–1826), которые легли в основу его художественного и исторического творчества. Подобно Ломоносову и Радищеву, главную цель истории Карамзин видит в воспитании нравственного чувства, формирующего гражданский облик человека. Именно нравственное самосознание является основой становления личности, по Карамзину. Оно и определяет меру свободы человека, измеряемую моральным критерием, в который включен и патриотизм как нравственная ценность зрелого гражданского самосознания. Карамзин приходит к мысли, что путь самосовершенствования открывается человеку в опыте приобщения к истории. Писатель и философ занимает ту позицию, которая была характерна для древнерусской культуры, строящейся как опыт научения веры Словом, развернутым в книжный текст. При этом эффект литературной проповеди, произносимой автором, скрывается в прямой эмоционально окрашенной речи его героев, содержащей, как правило, основную мысль произведения – моральное резюме, которое служит ключом к пониманию образа и, шире, всего произведения, как, например, героико-патриотическая речь мужественной и свободолюбивой Марфы Борецкой в «Марфе-Посаднице». Принцип изображения своих героев в конкретности истории, которая призвана служить для ума и сердца нравственным уроком, становится основным в творчестве Карамзина, глубоко воспринявшего идеи французского Просвещения и переосмыслившего социальные свободы, манифестированные Великой французской революции, сквозь призму опыта национальной истории с точки зрения культурной ценности государства.
В видении Карамзина история предстает средоточием двух начал: опыта жизни человека и нравственного его чувства. Поскольку главное жизненное приобретение человека – мудрость – при кратковременности жизни имеет нужду в опытах, автор хочет раскрыть перед читателем историю – «священную книгу народов» для внимательного изучения, вчувствования, сопереживания и воспитания, предъявив ее как сложившуюся целостность традиции, адресованную для восприятия новому «понимающему» сознанию. Так, мерой свободы, по Карамзину, оказывается мера просвещения сердца и разума русского человека, что должно пробудить в нем чувство гражданина, в согласии с просветительской установкой самого автора, и привить идеалы общественной справедливости и разумно устроенного общества, объединяя высокоморальных его членов.
Интересна с этой точки зрения оценка творчества Карамзина, данная А.С. Пушкиным. Поэт называет его литературно-исторический опыт «подвигом честного человека», заложившим основы «народной исторической образованности», подчеркивая этический смысл историософских посланий автора «Истории Государства Российского» в обращении к своей традиции как своему-другому в перспективе строительства национальной культуры, сохраняющей преемственность с древнерусским типом духовности. Поэтому не случайно литературные и исторические изыскания Карамзина охарактеризованы Пушкиным как нравственный подвиг личности, писательским трудом строящей новую целостность культуры в опоре на духовный опыт прошлого.
Эта функция литературы как формы духовно-нравственного исторического предания вызывала гораздо большее доверие и понимание у просвещенной и образованной по европейским образцам дворянской элиты общества, нежели проповедь, произносимая с амвона практически огосударствленной церковью. Можно утверждать, что философская проблематика свободы будет преимущественно погружена в этический дискурс русской литературы. Этот принцип доминирует в эпоху великой русской классики, где художественное слово имеет ценность, если оно служит истине и несет печать личной ответственности человека. Только в этом смысле оно подлинно свободно – оправданно морально и идейно! Нравственные категории дворянской культуры – «долг», «мужество», «ответственность», «служение», «честь», возникающие как социально-репрезентативные формы личной свободы – свободы воли, мысли, совести – во многом определяют не только вектор судьбы, но и мотивы творчества, что становится очевидным при взгляде на жизненный путь Пушкина.
Без преувеличения можно сказать, что всеми русскими мыслителями наследие Александра Сергеевича Пушкина (1799–1837) осознавалось и оценивалось как эталонное по художественному совершенству и духовно-философской значимости – как выражение, своего рода, квинтэссенции национального самосознания – идеал культурного творчества. Будет правильным определить творчество Пушкина как художественный опыт исторического и духовного самопознания русской культуры. Не случайно высказывание Д.С. Лихачева: «Национальные идеалы русского народа полнее всего выражены в творениях двух гениев – Андрея Рублева и Александра Пушкина. Именно в их творчестве всего отчетливее сказались мечты русского народа о самом хорошем человеке, об идеальной человеческой красоте» [Цит. по: 13, с. 43]. Показательно замечание А. Карташева в статье «Лик Пушкина» к 100-летию со дня смерти поэта: «Творится всякий раз что-то необычайное, как только русские соприкасаются с Пушкиным. Пушкинские юбилеи приводят в движение весь русский мир. А сейчас это начало передаваться и всему чужестранному миру» [460, с. 302]. И здесь же, подкрепляя свою мысль авторитетом Гоголя, известный церковный историк и богослов цитирует знаменитое пророчество «вещего Гоголя»: «Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа: это русский человек в его развитии, в каком он может быть явится через 200 лет» [460, с. 303].
Этот будущий русский человек через 200 лет, уже данный прообразовательно в Пушкине, – всемирно отзывчивый русский человек Федора Достоевского, просветленная гармонией социально активная личность Петра Струве, свободный русский человек – гражданин республики Святой Софии Георгия Федотова, строитель творческой демократии Ивана Ильина… Как представляется, русские философы и писатели увидели в Пушкине именно потенциал свободы личности – той личности, которая в российской культурной и политической истории оказалась самым мощным и продуктивным «институтом».
В данном контексте обратим внимание на важные моменты, характеризующие художественное и нравственное самосознание русского поэта с точки зрения интересующей нас проблематики свободы.
Во-первых, это принадлежность Пушкина к творческому и интеллектуальному кругу деятелей «золотого века» русской культуры, к традициям светского образования и дворянской этики. Этим во многом объясняется восприимчивость поэта к общеевропейским проблемам, живая заинтересованность и идейная близость к политическим умонастроениям и художественным веяниям эпохи. Свободолюбие Пушкина – это не только индивидуально-психологическая черта, но и дух эпохи, артикулированный революционно-романтическими идеалами декабристского движения, понимавшего свободу весьма определенно – как изменение политической конфигурации русского общества.
Во-вторых, в диалоге России и Запада Пушкин становится, по определению Ю.М. Лотмана, первым русским писателем мирового значения, создавая традицию великой русской литературы, встречающейся с Западом в новой исторической целостности универсалистского проекта европейской модернизации национальных культур. Пушкин прочитывается в контексте истории эстетических и социально-политических идей эпохи модерна и вписывается в общий ход развития европейской культуры. Его произведения могут быть проанализированы с точки зрения нормативной эстетики романтизма и реализма, ее социального и творческого пафоса, но этим не исчерпываются. Правильнее было бы говорить о глубоко авторской версии русско-европейского синтеза, на личностно-творческом уровне интегрируемой целостностью экзистенциального опыта, в основе которого – идеал творческой свободы как Божественного дара, преображающего жизнь, на что справедливо указывал С.Л. Франк. В своей известной статье «Религиозность Пушкина», он настаивал на присутствии религиозного содержания в творчестве русского гения: «…поэтический дух Пушкина всецело стоит под знаком религиозного начала преображения и притом в типично русской его форме, сочетающее религиозное просвещение с простотой, трезвостью, смиренным и любовным благоволением ко всему живому, как творению и образу Божию» [460, с. 381].
В-третьих, в творчестве Пушкина прослеживается эволюция духовно-нравственного самосознания поэта, его религиозного мироощущения, детерминированного христианской этикой. Опыт проживания свободы в утверждении личностного достоинства поначалу имеет социальную форму выражения, определенную кодексом дворянской чести, личного мужества и гражданской ответственности, а во второй период творчества все отчетливее приобретает духовно-творческую проекцию, связанную с непосредственным переживанием поэтического дара как Божественного – ожиданием того состояния, когда «стихи свободно потекут». Понимание творческого процесса как духовного дара, а поэтического служения как пророческого в конце жизни усиливается рефлексией темы судьбы и предназначения творчества как исполнения Божественного Промысла. Образ судьбы вообще важнейший в историософских и культурфилософских размышлениях Пушкина, где тема свободы решается уже в категориях Провидения – как моральный ответ человека Богу, истории, обществу, себе самому. В известном смысле в логике судьбы героев «Евгения Онегина», «Повестей Белкина», «Капитанской дочки», «Бориса Годунова» вмешательство Провидения – одна из главных «пружин» сюжетного развития, определяющая не только ход событий, но и подчиняющая желания и свободу человека невидимой закономерности, трансцендентной для его восприятия, но исполненной высшего смысла.
По выражению М.О. Гершензона, в лице Пушкина русский народ дал ответ о том, как «возможно сочетание полной свободы с гармонией» [460, с. 240]. Если Запад «жертвует свободою ради гармонии, согласен умалять мощь стихии, лишь бы скорее добиться порядка», то русский народ «этого именно не хочет, но стремится целостно согласовать движение с покоем» [460, с. 240]. В этой антиномической раздвоенности русского духа Пушкину, по мнению Гершензона, удалось выразить волю своей страны в парадоксальном сопряжении свободы и порядка, определяемой формулой «гармония в буйстве» [460, с. 241]. Но жажды свободы в Пушкине все же было больше.
Вопрос о свободе как нравственном выборе, решаемом как последний онтологический вопрос жизни и веры, особенно значим в творческом опыте Федора Михайловича Достоевского (1821–1881) и Льва Николаевича Толстого (1828–1910). Так, особенности этико-философской позиции Достоевского должны быть рассмотрены в самой тесной связи с событиями жизни, которые определили экзистенциальный тип его творчества. Глубинный надлом, произошедший в жизни Достоевского – смертный приговор, его отмена в последнюю минуту и десятилетняя каторга, последовавшая за ним, повлекли за собой «катастрофу сознания». В период отбывания каторги – «внешней несвободы» – произошел метафизический трансцензус личности. Глубинное изменение внутреннего человека было связано с переживанием пограничного состояния жизни, поставленной перед фактом осознания неизбежности смерти.
Запредельному «ничто» и небытию Достоевский противопоставил полноту бытия – вечность. И свободу автор «Преступления и наказания» рассматривал как свободу выбора позитивного и негативного трансцендентного – положительно или отрицательно заряженного бытия, в определении писателя, Бога и дьявола. Религиозность Достоевского есть результат сознательного выбора картины мира, в которой преодолена смерть как переход в «ничто». Пережив катастрофу, его герои, вслед за автором повторяющие экзистенциальную логику его выбора, обретают новую возможность жизни как целостный опыт религиозного сознания. Отсюда менее всего в своих романах Достоевский выступает в роли бытописателя. Его материал – сознание человека, его мысли, сердце и душа, рассматриваемые в логике действий и поступков героев, обретающих или окончательно отвергающих положительную свободу в Боге.
В отличие от своих публицистических выступлений, где часто, по примеру Гоголя, Достоевский занимает место на кафедре, в романе никогда не выносится окончательного суждения о герое, судьба которого проживается автором как событие внутреннего человека. В романе, названным М.М. Бахтиным полифоническим, устанавливаются особенные диалогические связи между автором и героем. Полифония Достоевского – это множественность самостоятельных голосов и сознаний, где голоса автора и героя полноправны. Герой выступает в творческом замысле художника не только как объект авторского слова, но и как субъект собственного непосредственно звучащего слова – свободно проговариваемой мысли. Герой свободен, автор позволяет ему высказаться до конца, подобно тому, как Творец, наделивший человека свободой воли, по Своему образу и подобию, не препятствует человеку ее реализовать. Кругозор автора по отношению к герою не избыточен, что позволяет раскрыть амбивалентность образа автора-героя.
Проживая биографию героя как события авторского сознания, Достоевский выражает духовно-психическую целостность героя посредством идеи, которая одновременно выступает как внутренний образ сознания и способ действия. В этом смысле центральным героем романов Достоевского является идея: и Раскольников, и юноша Долгорукий, и Петр Верховенский, и Шатов, и князь Мышкин, и Смердяков пленены идеей, которая, доведенная в мысли и в действии до конца, заполняет все их существо и диктует логику поступков. Все личностные характеристики человека как бы плавятся в вихре идей: время и пространство реального мира возникают только как время и пространство сознания, а мысль о мире в идее героя определяет очертания самой реальности.
Процесс объективации внутреннего мира, раскрытый писателем в диалектике развития идеи как процесса становления сознания позволил критикам увидеть в творчестве Достоевского мастерское изображение психологии человека. Однако психологизм романов Достоевского – явление вторичное, избыточное. Жанровая формула идеологического романа, данная Б.М. Энгельгардтом, как и формула психологического романа, лишь отчасти объясняют феномен творчества Достоевского, который вполне ясно и определенно выразил свое художественное кредо, назвав себя не психологом, но исследователем глубин души человеческой. Можно согласиться с В.К. Кантором, известным исследователем творчества Ф.М. Достоевского, что «исповеди героев Достоевского выявляют фантастическую сложность человеческой души и мысли. Но это исповедь души перед Богом, Бог выступает исповедником. И в этом смысле, конечно же, так называемый психологизм Достоевского приобретает онтологический статус» [262, с 41]. Душа, в интерпретации Достоевского, это центр человеческой субъективности, ядро личности, наделенной свободой воли и разумом. Именно эти свойства в своих романах исследует гениальный автор «Братьев Карамазовых». Близок к пониманию творческого мышления Достоевского Н.А. Бердяев, который говорит об откровении о человеке, совершающемся в произведениях писателя. Отсылка к понятию откровения призвано подчеркнуть не только религиозно-философский смысл романов Достоевского, но и сам опыт рождения литературного слова как экзистенциальной встречи человека в пограничном состоянии с метафизической свободой – с выбором в пользу Бога или демона, восставшего против Творца и созданного Им мира.
Философские представления Достоевского претерпели значительную эволюцию. Первоначально близкие христианскому социализму с его принципом гуманности, веры в естественное добро, присущее человеку от природы, они теряют свою привлекательность и кажутся едва ли не утопическими. Совершающееся, по словам Бердяева, откровение о человеке связано с образом сердца как центра борьбы добра и зла, Бога и дьявола за человека, что приближает религиозную интуицию Достоевского к святоотеческой традиции толкования сердца как средоточия душевно-духовной и разумноволевой жизни человека, выражающего ее целостность. Идея, проживаемая как мучительный моральный вопрос, становится опытом сердца. Если «подпольное сознание» – это выражение болезни разума в обнищании духовного мира человека, то сердечная глухота, наступающая как следствие мерзости души, где Бог изгнан, – и есть инфернальное ничто, метафизический трансцензус в смерть без надежды на спасения и оправдания – «смердяковщина» духа, окончательное рабство и закрепощение разума и совести. Изгоняющий из своей жизни Бога человек становится одержимым бесами и в этом смысле – слепым орудием инфернального зла.
Писатель вскрывает безбытийную, разрушительную природу зла, которое рождается как идея и, становясь опытом сердца, распространяется на мир, уничтожая его. Достоевский приходит к выводу, что социальная и историческая неправда есть выражение неправды внутренней. Есть подлинная свобода, свобода в Духе, и есть подлая ложь о свободе, свободе вне Бога и без Бога. И здесь мысль Достоевского соприкасается с важнейшей проблемой христианской философии – проблемой теодицеи. Последний вопрос, который может задать человек, переживая экзистенциальный предел допустимости ужасов, несчастья, горя, нелепости и трагической несправедливости в жизни, – это вопрос о возможности существования такого мира. Как Бог мог создать мир, где безвинно страдают самые уподобленные Ему в своей чистоте и сердечной целостности души – дети?
Религиозно-философский опыт Достоевского глубоко персоналистичен и подлинно экзистенциален. Высшая ценность для него – человек. И в низости, и в величии автор не покидает своих героев, оставляет за ними право исповедовать свою веру, свою идею. Вместе со своими героями он проходит все круги ада человеческих страданий до исчерпывающего трагического конца. Достоевский не снимает ответственности за совершенные грехи и преступления со своих героев, поскольку в любых условиях, по мысли писателя, человек может сохранить чистоту Божественного образа в себе, какими бы ужасными обстоятельствами не была определена его жизнь. Рассматривая в данном контексте религиозно-философскую интуицию свободы у Достоевского, можно говорить, что его идея свободы раскрывается в опыте экзистенциального трансцензуса личности, предстоящей перед выбором позитивной и негативной свободы.
Самый главный вопрос – вопрос о возможности существования мира и его свободного принятия получает положительное разрешение в образе Алеши Карамазова. В его любовном принятии Бога, человека, природы Достоевский видит оправдывающее существование тварного мира начало. Этой любви предшествует трагедия свободы в Боге, сопряженная с выбором. Он может быть крайне тяжелым для человека, подобным пережитому самим писателем, но только свободная любовь к Богу преодолевает искушение всеобщего счастья, созданного руками Великого Инквизитора. Как верно замечает Бердяев, Достоевский сносит все мироздание для того, чтобы задать вопрос о возможности мира и утвердить его положительное начало, опосредствуя свой собственный опыт сердца, пережившего «катастрофу сознания», в романных образах героев. Единственной авторской завершающей идеей, его невысказанным, а потому отправленным в будущее словом, которое должно прозвучать в ком-то другом, следует считать слово о Воскресении. Он верит в преображение культуры и общества, совершаемое внутренне преображенным человеком. В этом смысле трансцендентный эсхатологический идеал истории интериоризируется и становится имманентным идеалом культуры, соединяя задание личного спасения и устроения жизни согласно христианским идеалам.
Если герои Ф.М. Достоевского мучимы идеей жизни, то герои Л.Н. Толстого мучимы самой жизнью, в которой вопрос о вере и о жизни оказывается исходным моментом в формулировании собственного мировоззрения и выносится в плоскость моральной и художественной практики. Не случайно своими лучшими сочинениями граф Толстой считал «Исповедь» и «В чем моя вера». Вместе с трактатом «О жизни» они составляют своеобразную философскую трилогию, являющуюся ключом к пониманию творческого опыта писателя, главной проблемой которого оказывается единство художественно-эстетических и духовно-нравственных воззрений в целостном духовно-практическом опыте. Важность философских трактатов Толстого подчеркивается подмеченной исследователями особенностью художественного мышления с характерным самодовлеющим типом высказывания. Герои Толстого говорят «авторским» языком в том смысле, что автор в идейной структуре произведения как бы возвышается над судьбой героя. Художественная воля Толстого-автора доминирует. По определению М.М. Бахтина, его герои знают себя только в авторском голосе. Тем самым, раскрывающийся перед читателем процесс душевных движений, прежде пережитый автором и вложенный в образ героя, рассчитан на эффект сопереживания, вчувствования со стороны воспринимающего сознания со сходным эмоционально-психологическим опытом. В этом диалоге автора и читателя герои становятся формой опосредствования морального сознания автора, его душевной целостности