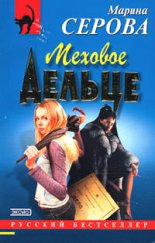Орнамент на моей ладони Дибирова Полина

Я впервые столкнулся с чуждым мне воспитанием и укладом жизни.
Многое казалось обидным и даже оскорбительным в повседневном поведении сослуживцев. Я не пил водку. Долгие годы у нас этому строго препятствовала религия, а после утверждения Советской власти в сущности мало что изменилось в сознании человека, воспитанного на обычаях предков.
Обычный человек грубого и сурового труда, чабан, ремесленник, мастер или земледелец не может себе позволить такое. Семьи в горах у всех большие, а работают преимущественно мужчины, так если они будут пить, на чём будет держаться тухум? Исключение составляют только праздники, такие как свадьбы и случаи рождения в семье сына. Да и там подают обычно молодое вино или бузу.
Настоящий горец никогда не пьянеет. Такое, конечно, может случиться с любым, но в таких редких случаях, что несчастный прослывёт позором на всё селение. Так что он не рад будет своей слабости.
То, что русские пьют много и часто, мне не нравилось. Я считал это занятие недостойным для взрослого, разумного мужчины.
Ещё что удивило меня, так это поведение русских женщин. Они могли запросто вступить в разговор на улице с незнакомым. Без жеманства, смешков, переглядок и ненужного стеснения. Иные же, простоволосые, с непокрытыми головами, ходили мимо нас важно, точно гусыни. Я никогда не говорил с ними. Меня душило стеснение, да и вообще какая между нами может лежать общая тема, чтобы можно было её обсудить?
Видимо, и меня все вокруг принимали за какого-то дикаря.
– Скажи что-нибудь на дагестанском, – как-то попросил меня сослуживец из любопытства.
И каково же было его удивление, когда я объяснял незадачливому товарищу, что в Дагестане проживает более тридцати коренных народностей. А у каждой из них существует не только свой язык, но и в каждом ауле зачастую бытует своё наречие.
– Порой соседи, жившие в сёлах, расположенных друг от друга всего в километре, не понимали друг друга, хотя оба и относили себя к одной нации, – объяснял я, и меня слушали даже с интересом. – Множество таких высокогорных селений потеряло свой язык. Он не дошёл до наших дней.
– То есть как это? – удивлённо спросил меня кто-то из молодых.
– А вот так. Умерли старожилы села, а молодёжь просто приспособилась употреблять в разговоре более распространённое наречие крупного населённого пункта или райцентра. Так больший язык поглотил меньший. А если интересно насчёт письменности, то скажу, что в небольших высокогорных аулах её не было вовсе.
– О! Так это о каком же ты веке, дружок?
– О том, что был до революции.
– Ну да, рассказывай! В древнем Египте фараоны всякие писали свои закорючки, а здесь, значит, нет.
– Совершенно точно вам говорю, что не было. Как и не было своей денежной единицы.
– Ну, ладно с этим. А на дагестанском языке сейчас всё-таки кто-нибудь говорит?
– Да я толкую вам, что нет. Такого языка – дагестанский – не существует вовсе. Дагестан, Страна гор, – это удивительнейший край, и если об этом ещё кто-то до сих пор не знает, то только оттого, что жителей наших земель всегда отличала исключительная скромность. И до сих пор, сколько живу на свете, точно не могу дать себе ответ на вопрос: понял ли я эти великие горы, постиг ли их суть и постиг ли её настолько, насколько она есть велика?
Из моей подробной и увлечённой речи мало кто извлёк для себя суть, но никто больше ни о чём меня не спрашивал.
Меня же тогда в основном занимало моё основное целевое занятие, а именно военная подготовка. Мы изучали оружие.
Во все времена главное назначение его было убивать людей. И чем лучше, эффективнее, быстрее оно это делало, тем больше ценилось и было востребовано.
Но всё же главная сила в любой войне – это не танки, не самолёты, не машины и не автоматы, а люди. Только они могут спасти или убить. Выиграть или проиграть.
Война – это практика насилия.
Война – это архаичный вид развлечения. Это всегда массово, всегда интересно, опасно и зрелищно для тех, кто смотрит на карту военных действий сверху вниз. А уж кто там с кем воюет и уж тем более за что – не важно.
Война – это парадокс существующего мира. Потому что всё человечество со дня своего основания стремится к высшему и наиболее гуманному способу разрешения конфликта. К бескровной договорённости, к дипломатии, к диалогу. К пониманию. Но, как ни удивительно, чем более гуманно и образованно общество, тем более жестоко оно.
Реверсия насилия. В далёкие времена наших пещерных предков один убивал другого в бою для того, чтобы не погибнуть самому, чтобы добыть себе пищу, отнять чужое жильё или имущество для своего блага и для блага своей общины. У них не было возможности убивать сотнями, тысячами, сотнями тысяч. Теперь убивать десятками не страшно и не совестно. Убить единицу куда трудней. Всю жизнь будешь вспоминать его и проклинать судьбу свою за эту роковую встречу.
Чем более умён человек, тем больше нужно ему крови. Тем изощрённее его труд убивать и тем искуснее он в этом деле. Тактика, стратегия, военное ремесло – всё это, по сути, только теория убийства. Наука о том, как убить своего противника быстрее, нежели ему удастся убить тебя.
Наше поколение было поколением выживших в смертельной схватке. Но войны – это позор цивилизации! Как и любое другое проявление насилия. Удивительное сходство между всеми варварами, захватчиками и оккупантами для меня заключалось в их непременной твердолобой уверенности в своей правоте. Ни у кого из этих извергов между извилинами не промелькнуло и мысли о том, что они могут оказаться неправы или несправедливы в чём-либо. И также единственным сходством между двумя воюющими сторонами можно поставить то, что обе они уверены, что их дело правое, что в корне является ложным сразу с обеих сторон.
В войне не может быть победителей хотя бы потому, что это война. Обоюдное согласие на убийство. И нам бы следовало не только перестать тыкать всем в лицо фактами участия в этой бойне, но и устыдиться самой возможности её возникновения. И совершенно не важно в этом случае, кто победил. Ведь это была не игра. Это были людские жизни, человеческие кости, мясо, в котором застревали пули и осколки снарядов.
Возможно, что когда-нибудь про нас скажут: «Это было поколение убийц». И это будет правдой. Но надо попытаться во что бы то ни стало не повторить эти ужасные события, только в этом случае мы сможем претендовать на уважение потомков. Сможем оправдать себя перед лицом века.
Теперь люди идут на войну за чужие идеалы, за чужие амбиции, за лидера, но не за себя. «Я умру за него», – орут они в пылу! Будто матери их мучились, рожая, именно для этого.
XX век наверняка останется в истории как век грандиозных личных амбиций. На всё наше многомиллионное государство приходилась по сути одна «Личность», чьи интересы, решения и мнения ставились превыше всех остальных масс. В нём одном или среди небольшой кучки приспешников словно концентрировались все свободы страны, и они распоряжались ими, как хотели.
Близился конец пути.
В последний день нашего маршрута, перед тем, как расположиться на ночлег, нас всех построили в одну шеренгу. Больным велели выйти вперёд на два шага. Все решили, что хворых направят в санчасть где-то поблизости или распределят куда-то на лёгкий труд. Здоровых среди нас почти не было. Каждый был в недомогании и истощении.
Моё состояние едва ли можно было определить нормальным. Я хотел шагнуть, но удержался только оттого, что был наслышан о немецких больницах для военнопленных. Человека там не лечили и делали всё, чтобы только лечить его уже не пришлось никогда.
Тем не менее из строя вышло почти полсотни. Тогда их отвели в сторону, а остальным приказали идти дальше. И только когда мы тронулись с места, смысл этой затеи стал очевиден для всех. Немцам не нужны были больные и калеки в лагере. Нас вели туда работать.
Тех пятьдесят человек расстреляли за одну минуту прямо у нас на глазах.
Все пули вошли аккурат в свою цель, как начинка в мягкое тесто. Люди, которые прошли со мной вместе все эти вёрсты и мили, километры дорог и множество препятствий, те, которые выжили в суровых условиях, в голоде и нечеловеческих трудностях этой каторжной дороги, были запросто расстреляны.
Зачем было всё это? Ведь и конвоиры видели в рядах стариков и раненых, почему они не расправились с ними сразу, не было ли так человечнее, если в таком контексте вообще допустимо это слово? Но что толку жить теперь нам, всем остальным? Что за жизнь ожидает нас на вражеской земле? И все ли из тех, кто остался в живых, не пожелали бы себе такой же смерти? Но как же всё-таки это глупо. Ведь я уверен, что и у тех, кто встал сегодня к стенке, сохранялась надежда на жизнь. И когда в них стреляли немецкие автоматы, они убивали сначала эту надежду, а только за ней уже падали тела.
На следующее утро наша колонна дошла до конечного пункта. Это были казармы с высоким сплошным забором, одними железными воротами и четырьмя вышками по углам огороженной территории. На каждой вышке прожектор и немец с автоматом наготове. Главный среди наших конвоиров выступал перед начальником лагеря с донесением. Мы стояли и робко оглядывались по сторонам.
Я думал, что теперь, если нас оставят здесь, уже должны лучше кормить, назначив хоть какое-то довольствие. И ещё я мечтал о бане. Я боялся, что до меня доберётся чесотка, которая была здесь повсюду, впрочем, как и обилие другой хвори. Пусть без мыла и пара, но чтоб только ощутить, как проточная вода смывает с тела весь этот зловонный и гниющий мусор.
Тем не менее надежды на лучшее возвращали в меня жизнь. После долгого, нечеловечески изнурительного пути, после голода и унижения мне уже должно было быть всё равно, как ещё смогут истязать мою плоть и унизить мой дух. Казалось, что дальше и некуда. Но человеку свойственно надеяться на что-то приятное даже в самом отчаянном и горестном положении. Если бы я не думал о чистом душе и хлебе, уже давно бы испустил дух.
Во время пути во снах мне часто виделось, как я кусал свежий хлеб. Только-только кто-то (а я имел сильное подозрение, что это была моя мама) испёк его особым, старинным способом в комнатной печи, мы называли её корюк, прямо на горячей, огненной золе. Огромный хлеб, какой пекут на всю семью, был у меня в руках, и только для меня одного. Я ощущал это так явно, что мне даже казалось, что я слышу, как он пахнет, чувствую своими пальцами, насколько он горяч. Настоящий дагестанский хлеб из печи с хрустящей корочкой, чуть подсоленный и пахнущий домом, свежим горным ветром, золой от сухих веток и доброй мукой.
Я вгрызался в его плоть и перебирал медленно между языком и зубами его мякоть. Я рвал огромные куски, и они помещались у меня во рту, и я глотал их, от волнения не успевая разжевать. И просыпался в страхе, когда мне вдруг казалось, что кто-то намеревается отнять у меня этот хлеб.
Теперь, свысока и издали пересматривая в воспоминаниях былое, я всё же не могу не заметить, что какая-то слабая ниточка надежды никогда не покидала меня. Это была даже пусть лёгкая паутинка, видная не каждый раз, но она была. В душе я всегда верил в то, что мне уготовано нечто большее, чем смерть от голода и гноя в скотских казармах. Что есть для меня другая жизнь и когда-нибудь настанет мое избавление.
Человеку свойственно подменять свои воспоминания. Словно части мозаики, которые никак не стыкуются друг с другом, требуют замены, можно заменить один осколок и благодаря этому склеить целый фрагмент. Возможно, так делал и я. И теперь мне только кажется, что во мне, сыром, грязном, забитом, трясущемся и голодном, была всё же эта высокая, благородная и возвышенная вера. Всегда ведь хочется сохранить чистоту внутри, именно за утрату которой тебе впоследствии и бывает так стыдно.
В лагерном дворе нам всем велели раздеться догола и сдать свою одежду. Немцы её просто сожгли во избежание распространения заразных эпидемий среди заключённых. Нас принялись сортировать. Стариков, а это уже после сорока, причём только на вид, отделяли вправо.
Надо заметить, что теперь даже самому молодому из нас невозможно было дать никак меньше тридцати.
В левую сторону определяли всех остальных, за исключением калек, раненых и евреев.
Я был обрезан согласно мусульманскому обычаю. Именно по этой причине меня ошибочно оттолкали к евреям. Но они, конечно, не признали во мне своего. На меня стали коситься.
Через пару минут ко мне подошёл один невысокий человек средних лет. Как я понял, он был главный среди еврейских заключённых.
– Ты кто? – спросил меня он с неприятным недоверием и гонором.
Я отвечал, кто я и где родился.
– Почему здесь? Знаешь иврит?
– Знаю фарси.
Он удалился к своим. Сообщил что-то и совсем скоро вернулся вместе с человеком примерно моих лет. Парень, который пытливо уставился в моё лицо, был в круглых очках с мутными линзами и с маленькой феской на голове.
– Откуда ты? – поинтересовался он, обращаясь ко мне на фарси, языке татов – жителей горного Дагестана.
Я всё объяснил и ему так же.
– Да, – подтвердил он для главного, – он жил в Буйнакске. Я слышал про его отца.
Главный еврей сдвинул брови, грубо схватил меня за предплечье и скомандовал:
– Пошли.
Он подвёл меня к немцам, которые всё ещё занимались сортировкой пленных, и обратился к одному из них по-немецки:
– Заберите его. Он не еврей. У нас его держать нельзя. Наши решат, что он шпион, и убьют следующей же ночью.
Так меня отправили совсем в другую сторону.
Предстоял карантин. Всем велели выстроиться в две отдельные шеренги для получения мыла и дальнейшего прохода в помывочную зону.
В общем, это был обыкновенный деревянный барак, находившийся также на территории казармы. Там был низкий, всего около двух метров, потолок. Прямо под ним по всей длине были проведены трубы с дырчатыми душевыми отводами, направленными вниз через каждые полметра. Света в бараке не было.
Мы зашли в тёмное помещение, где пахло плесенью и сырыми досками. За нами вошёл один человек в форме с презрительным выражением лица, таким, будто его поневоле заставляют копаться в отходах в то время, когда ему должно рисовать тирольские пейзажи на полотне. Он остановился у самой двери и жестами велел всем разойтись дальше от входа. Затем он крутанул несколько раз большой и скрипучий круглый кран, торчащий из трубы у двери, и через мгновение пошла вода. Вопреки моим скромным надеждам, она вовсе не была холодной. В этом не было никакой необходимости. На территории лагеря, как убедился я позже, прекрасно функционировала котельная, где трудились в беспрерывном поту такие же заключённые-рабы.
Зажав в ладони небольшой кусочек мыла, которого, по расчётам практичных немцев, видимо, должно было хватить аккурат на одну помывку, я не спешил применить его сразу.
Я стоял под бьющим мне в грудь потоком горячей воды и смотрел вверх. Для меня это было почти как чудо. Вода касалась моего тела, скользила вниз, затрагивая каждую клеточку моей кожи. Я упивался этой лаской. В тот момент мне не хотелось ничего более, вот только бы позволили мне так стоять час или два. Я сторожил каждую минуту такого покоя. Осознавая, что они недолги, я пытался насытиться каждой из них. Эти мгновения показались мне похожими на счастье. Слабое, хилое счастье…
Другие пленные оказались проворнее меня. Мой сосед уже смылил весь свой запас и стоял, интенсивно потирая себя руками, соскребая отросшими ногтями слоистую грязь с тела. Струпьями она ползла по нему вниз вместе с потоком воды и исчезала за решётками водостоков. Вокруг разносился удушливый, бьющий в нос горячий запах дуста.
Только теперь я заметил, как отощали люди. На них было страшно смотреть. Вокруг меня стояли живые скелеты, будто их из гроба достали. Сутулые, сгорбленные, с конечностями, похожими на сухие ветки, с торчащими рёбрами и выпирающими костями таза, с провалившимися глазницами, с бледными, обветренными губами и с желтой, нездорового цвета кожей. И я в своем теперешнем виде совершенно не отличался от них.
Особенно оглядываться было не с руки, и я принялся за дело. Теперь возможно было дать генеральный бой всем моим постояльцам, которые поедом ели меня на протяжении всего нашего путешествия. В отросших, свалявшихся волосах головы они устроили целую колонию. Впрочем, и с волосами нам всем также пришлось вскоре расстаться. После мойки нас повели на дополнительную санитарную обработку, которая заключалась в поголовной стрижке и бритье под ноль. Потом всех вывели во двор и раздали униформу.
Это были комплекты из грязно-серного льна, включающие штаны свободного покроя и такую же мешковатую робу. Что меня удивило: всё было ново, чисто и даже выглажено. Вместо обуви дали деревянные колодки. Люди здесь и без того еле передвигались, делать же это в таких колодках стало намного труднее. Они были тяжёлые, как кандалы, и больно натирали ноги.
Все процедуры закончились уже под вечер, когда нас, как птенчиков из инкубаторов, всех одинаковой худобы, формы одежды и стрижки, загнали под крышу в казармы – обычное двухэтажное здание с низкими потолками и полусгнившим деревянным полом. Там мы и повалились все без слов, без еды и без сил.
Так закончился первый мой день в лагере военнопленных Люкенвальд.
В ту ночь мне не хотелось думать, сколько ещё дней подстерегают меня в этом аду на земле. Я даже не помню, хотелось ли мне вообще проснуться когда-нибудь ещё.
Карантин продолжался десять дней. Всё это время нас не выпускали на общий двор и выводили только утром и вечером на прогулку в отдельно огороженный участок, примыкающий к нашей постройке. Там же нас и пересчитывали.
Это было невероятно вообразить, но количество заключённых, зафиксированных во время вечерней проверки, могло разниться с утренней отметкой на сотню, а то и более. Одни умирали прямо в казармах на своих нарах, других, по жалобе на недомогания, успевали отправить в санчасть, где они всё равно умирали.
Каждое утро к казармам на конной повозке подъезжала похоронная бригада. Её тоже составляли лагерные пленные. Обычно приезжало три человека. Один правил лошадью, а двое других таскали к повозке трупы. Остановившись у ворот, они заходили внутрь помещения и забирали всех с первого этажа. Мёртвых со второго этажа кидали во двор прямо из окон. Трупы падали на землю, и было слышно, как у них с треском ломались кости.
Извозчик никогда не оставлял своего места. Думаю, что он боялся, что лагерные забьют и употребят в пищу его лошадь.
В отличие от остальных пленных, эти трое были не такие тощие и выглядели здоровей. В одно утро я высунулся из окна и спросил извозчика: «Что вам дают?»
Тот набрал воздуха в грудь и отвечал:
– Дают буханку хлеба и три порции супа в день на каждого.
Я посчитал тогда для себя, что это очень хорошо.
– А куда увозите трупы?
– Хороним недалеко отсюда.
– Много работы?
– Роем одну большую яму на сотню, – пояснил он.
– Почему на сотню?
– Сотнями считать легче. Пока сотню не наберём, не закапываем.
– Так, значит, и метки никакой не ставите?
– Ставим крест, а немец там на своём пишет: «Сто русских пленных».
– А сколько уже таких крестов поставили?
– Думаю, что уже больше трёхсот будет.
Нагруженная повозка медленно выехала за ворота двора и вскоре скрылась из виду. А я всё смотрел ей вслед и думал, когда же на ней поеду я.
Когда карантин кончился, нас перевели в другую постройку внутри этой же лагерной территории. Там на первом построении всем раздали по половнику супа и ломтю хлеба. После нас завели в помещение и оставили так на весь день. Всё это время мы ждали, куда ещё нас направят, и в конце концов тревога сменилась голодным сном.
С рассветом нас разбудил оглушительный по своей высоте сигнал. Он звучал на одной ноте в течение нескольких минут, и только потом в помещение вошёл немец в военной форме с автоматом, дулом которого начал тыкать в пленных, расположившихся крайними у входа. Тогда я понял, что теперь каждое следующее утро, если оно будет начинаться для меня, то именно так.
Всех вывели на воздух и выстроили в один ряд.
Признаться честно, в тот момент мне было совершенно всё равно, что с нами намерены делать дальше. К тому времени я уже давно потерял себя, как потерял вкус и смысл жизни. С тех пор на время прекратилась моя жизнь, и началось глупое и бессмысленное, тяжёлое и отчаянное существование. Я должен был спрятать всё, что ещё оставалось во мне живого и человеческого. Затаить от них, заволочь в самый дальний, тёмный, медвежий угол, чтобы они не нашли и не убили. Чтобы никто не догадался. Чтобы выжить среди них, мне предстояло сделаться одним из них.
И вот эти страшные, бескровные люди, эти изверги с каменными лицами, с бронзовыми, медальными профилями в своей красивой, выглаженной форме идут, чеканя отполированными сапогами шаг по деревянному полу долгого, полуосвещённого коридора. Конец коридора утопает во мраке. По обе стороны множество дверей, и делегация останавливается перед каждой из них.
Во главе группы генерал с орденской атласной лентой и с зажатой в глазу линзой на цепочке. Он командует своему подчинённому, резко выбрасывая правую руку вверх перед собой. Тот моментально выбегает вперёд и отворяет дверь.
Это дверь моей комнаты в родном селе. Но внутри пусто. Только полумрак слегка разбавляет лунный свет из одного единственного окна. Под подоконником стоит кровать с пружинным матрасом. Сбоку шифоньер с зеркалом на дверце. Рядом письменный стол и стул при нём.
Делегация в немом недоумении. Закрывают эту дверь и чеканят к следующей. Генерал командует. Солдат отворяет.
Здесь много света. Вместо пола земля с мелкой выжженной травой, прямо перед дверью растёт большое дерево с раскидистой зелёной кроной и лавочкой в тени под ней. А вокруг опять ни души.
Генерал не считает необходимым зайти и только презрительно заглядывает за дверные косяки, чтобы получше осмотреть окрестности.
Вдалеке, на склоне горы видна панорама села. Потолка, конечно же, нет, и ему явно это не нравится.
Немцы закрывают дверь с оглушительным треском и идут дальше.
Снова команда хлёстким басом, и следующая дверь со скрипом повинуется руке приспешника.
В этой комнате пол, и потолок, и стены – всё есть. Напротив двери основательный дубовый конторский письменный стол, вдоль стен ряд стульев и кушетка. Генерал морщится. До него доносится запах цветов. Это цветы июня, но он не разбирает этого. Ему больше необходимо увидеть их самих. Но где же цветы?
Генералу приходится войти внутрь. И, только оглядевшись, за самой дверью он замечает маленькую тумбочку с резными ножками, окрашенную белой краской. На ней и стоят благоухающие цветы в глиняной балхарской вазе. Генерал криво ухмыляется и делает шаг ближе. Смотрит на цветы, переминаясь с пятки на носок, так, что под ним истошно скрипят половицы.
Цветы вызывают у него какое-то особенное подозрение. Они безупречно свежи, будто только кто-то сорвал у них жизнь и принёс продлить её в эту вазу.
Он снимает кожаную перчатку со своей руки и берёт один цветок. Подносит его ближе к лицу, чтобы убедиться, что он настоящий. Ощущает разительный флёр, морщится и растирает цветок в ладони. Но когда он раскрывает её, чтобы смахнуть распавшиеся лепестки, обнаруживает, что его ладонь пуста, а цветок так же стоит на своём месте в вазе. Со злобой он рявкает, натягивает перчатку и выходит.
А за следующей дверью его будут ждать разрывы снарядов, крики раненых, пулемётные очереди, комья разлетающейся мокрой грязи, стоны, пронзительный звон, бормотание турбин над головами и вечная музыка войны. В общем, сущий хаос. И здесь искать нечего.
Генерал захлопывает дверь и смахивает с мундира частички осевшей на нём пыли. Протирает монокль и продвигается дальше по коридору вглубь. Дальше, дальше, пока вся делегация не уходит в темноту.
На второй день после карантина нас опять построили во дворе, посчитали и завели обратно. Так было ещё следующие семь дней.
Весь день мы маялись в небольшом барачном помещении, где решётки покрывали маленькие высокие окна и стаями под потолком кружили мухи и слепни, дожидаясь, пока мы уснём и перестанем сопротивляться их укусам.
Кормить нас и вправду стали, только из рук вон плохо. Давали жиденькую баланду, но горячую, так что для внутренностей было вполне сносно. Её тепло разливалось по всему телу, что вызывало ощутимый прилив энергии. Но энергия так же быстро таяла. Её хватало только на несколько часов. Потом усталость и голод снова проявляли себя. Как две ненасытные овчарки, они глодали конечности, отчего те наполнялись сонным свинцом. Мысли пропитывались удручающей тяжестью.
В работах нас не использовали. Все ждали чего-то неопределённого и оттого пугающего.
Конечно, оставалась надежда. Думалось или, скорее, хотелось думать, что со дня на день нас освободят. Но всё оставалось по-прежнему, и даже эта надежда, как маленькая восковая свечка, отгорала свою силу и постепенно гасла.
Ещё не прошло и двух лет, а я уже забыл о том, как это – жить без войны. Сидеть у окна в своём собственном доме и смотреть на голубое небо. Есть обыкновенную человеческую пищу. Слушать тишину и упиваться этим беззвучием.
Я вдруг задумался: ведь здесь нет тишины. Никто не разговаривает толком, не звучит музыка, никто не танцует, а тишины нет. Днём её съедают стук рабочих молотков, шум мельничных жерновов и крики надзирателей. А потом, когда все пластом покрывают свои койки, обязательно всю ночь кто-нибудь стонет, точно раненая корова. Это звук тупой беспомощности, действующий на нервы и угнетающий. И ты думаешь совсем не о том, как облегчить его страдания, а о том, когда же он сдохнет, и все смогут спокойно заснуть. И то же самое будет, когда стонать будешь ты сам. И сам же будешь желать быстрее сдохнуть. Неужели когда-нибудь мои ноги привыкнут обычно идти, гордым и ровным шагом, а не бежать, не пробираться, не карабкаться и не ползти.
Теперь часто я задумывался про себя: сумею ли я когда-нибудь забыть всё это? Забыть бомбёжки и стрельбу, косящую очередью, тревогу и постоянное чувство опасности, ночлежки в окопе под дождём и в любую погоду, грязь, пыль, копоть, холод. Избавлюсь ли я когда-нибудь от своих ночных кошмаров?
Вот уже тысячу раз в своих клочковатых, прерывающихся и беспокойных снах я вижу войну. Я вздрагиваю от разрывов снарядов, которые грохочут у меня в голове, и сжимаюсь в комок от боли, причинённой мне пулями, которые вообразил я сам. Меня забрали оттуда, вывели и поволокли по этой бесконечной дороге. Они спасли моё тело, но душу мою насмерть ранила война. Она теперь во мне, внутри, в самом мозгу у меня бушует и клокочет разрядами пламенных залпов и запахом пороха. Похороню ли в своей памяти всех убитых на моих глазах и убитых мною? Будет ли у меня когда-нибудь обычная жизнь или такое никогда не забывают? Неужели я на всю жизнь останусь калекой с израненным сознанием, не способным на нормальные человеческие чувства?
Человеческая память – всё равно что постельная простыня. Когда ты мал, она чиста и без единой складки. Но ты живёшь и взрослеешь. И с каждым прожитым годом на твоей простыне всё больше прорех и латок, всё чаще на ней пятна твоей крови, пота, всё заметнее на ней грязь. И к концу жизни ты лежишь на серых, непотребных лохмотьях, но не в силах встать и сменить их. Смотришь на них, и тебе противно от одного только вида. Но вдруг ты с ужасом обнаруживаешь, что сросся с этой проклятой простынёй намертво и она тебе всего дороже.
В один из дней в наш барак зашёл высокий и статный немец с белыми усами. Указав пальцем на нескольких человек, видимо, произвольно, он приказал им следовать за ним. Они ушли и в барак больше не вернулись.
На следующий день всё повторилось. Зашёл тот же усатый немец, указал на нескольких человек, они вышли, и больше никто их не видел.
Среди пленных поползли самые разные слухи. Кто-то говорил, что людей начали расстреливать, кто-то утверждал, что нас всех переведут в другой лагерь.
Немец с белыми усами заходил каждый день, и после его визита в бараке становилось всё свободнее. Наконец, очередь дошла и до меня.
Я вышел вместе с очередной группой из пяти человек. Нас повели через весь огромный лагерный двор на другой его конец, где располагалась одна из немногих на этой территории капитальных кирпичных построек в два этажа. Зашли мы все разом, и уже в небольшом тамбуре, внутри, нас остановили. С обеих сторон встали солдаты с оружием.
Наш провожатый проследовал дальше по узкому коридору и исчез за большой двустворчатой деревянной дверью в самом его конце.
Через минуты три он вышел и прямо с порога крикнул одному из охранявших нас солдат. Тот, выбрав крайнего из нашей компании, небрежно вытолкнул его вперёд и указал, чтобы тот шёл к двери. Пленный товарищ нехотя и устало повиновался. На другом конце коридора усатый немец затолкал его внутрь комнаты.
Мы стояли молча и ловили каждый звук. А мне всё время казалось, что вот-вот должен раздастся выстрел. К этой «музыке войны» никогда невозможно привыкнуть. Она поселяет в сердце вечный страх, притупить который могут только долгие годы молчания.
Уже через пять минут в коридорчик снова вышел немец и потребовал к себе ещё одного. А третьим был я.
Я волновался. От всего этого ожидания, томления и полнейшей неизвестности чрезвычайно сдают нервы. Это было для меня всё равно, что та же пытка, только без насилия, истязаний и кровопотери. Уже тогда я стал нервный, как электрический скат. Я зашёл в эту дверь. То, что я там увидел, обмануло все мои надежды и страхи.
Я оказался перед большим и длинным столом, за которым плечом к плечу сидели немецкие военные разного чина. Все входили в старший офицерский состав. Они смотрели на меня.
Комиссия расположилась напротив стены так, что из-за яркого света, бьющего в высокие окна за ними, лиц было не разглядеть. Все они были в тени своих собственных силуэтов. Тем не менее я именно чувствовал, что меня пристально разглядывают.
Некоторое время все молчали и посматривали в какие-то бумажки, передавая их из рук в руки. Затем один из них, майор, сидевший с краю, обратился ко мне, читая с листа на ужасно исковерканном русском.
– Фарух Мур-та-залиевиш Дибироф! – важно и с надменностью провозгласил он. – Да?
Я подтвердил.
– Кем вы работали до войны? Какую вы иметь специальность? Отвечать.
Такого вопроса я никак не мог ожидать и от внезапности даже не успел сообразить, зачем им нужно это знать.
– Я освоил профессию механика в техникуме, – начал я.
– Отвечать! Громко! – перебил немец.
Я повторил:
– Я освоил профессию механика в индустриальном техникуме. Неполный год работал на заводе. Также имею способность к рисованию.
Даже не знаю, почему я упомянул про рисование. Возможно, мне захотелось, чтобы они увидели во мне человека значимого, способного. Чтобы поняли: все мы – пленные волею судьбы, все мы люди.
Мой ответ не произвёл никакого впечатления на комиссию. Человек, обращающийся ко мне, перевёл его всего в несколько слов. Все присутствующие с такими же унылыми лицами продолжали смотреть на меня.
Переводчик тем временем задал следующий вопрос:
– Как вы относится к советской власти? Отвечать.
Вот где я вздрогнул. На мгновение у меня промелькнула мысль, что всё это часть какого-то масштабного фарса, целью которого является обличение и уничтожение всех, недовольных режимом. Может быть, и войны никакой на самом деле нет. И всё, что случилось со мной и ещё с миллионами граждан, всё это только один из манёвров правящего режима?
Тем не менее я продолжал отвечать с абсолютной прямотой, перебивая своё волнение.
– Я горжусь, что являюсь советским гражданином и живу в советской стране.
Перевели и эти мои слова. Члены комиссии переглянулись без различимых эмоций, и вскоре последовал ещё один вопрос:
– Фарух Дибироф! Ми создаём особую национальную армию. Считать ли ви себя способним войти в её ряды? Отвечать.
– Я мирный человек. Я – не военный, – спокойным, ровным голосом постарался объяснить я. – И притом я дал присягу Красной Армии.
Видимо, мои слова не поняли, и переводчик ещё раз, но вовсе не командным, а простым, ровным тоном попросил меня:
– Отвечать.
Я чётко и твёрдо провозгласил: «Нет!».
Это не переводили. Я увидел, как немцы устало закачали головами, повторяя: «гут, гут».
В тот же момент в дверях появился знакомый белоусый конвоир, который вывел меня через другую дверь. На выходе из здания он передал меня под надзор немецкому солдату. Поторапливая в спину холодным дулом ружья, меня повели дальше по узенькой тропинке вдоль самого забора с колючей проволокой и за ворота. Дальше по прямой, истоптанной дороге, ведущей в открытое поле.
А который час? Непонятное и отчаянное желание узнать, во сколько оборвётся жизнь.
Я шёл, подняв голову высоко к солнцу, которое уже высоко взошло над этим миром и посылало ему через сотни световых лет миллиарды тонн своей горячей любви.
Как жаль мне было покидать всё это! Как больно было уходить и оставлять за собой тысячи вопросов, надежд на встречу и возможное возвращение. Убитый здесь, я навсегда и для всех просто пропаду без вести. И дома меня будут ждать и уже давно не ждать одновременно. И я буду словно стремиться обратно домой и бежать оттуда во все четыре стороны, нигде не находя себе покоя. Это мучительное чувство неизвестности, оно хуже всего.
Я посмотрел себе под ноги. Мои худые, босые и грязные стопы топтали дорогу, собранную из горячей, седой пыли, сухой травы и мелкого щебня. Но ведь это она, это моя дорога к дому. Вон там, далеко вдали, так, что не видно глазу, стоит мой старенький дом, и скоро я буду там.
– Что ты думаешь, не будет, – услышал я вдруг из-за спины.
Я опомнился и оглянулся назад. Солдат смотрел на меня с неизменным лицом, прямо в глаза. Я не мог понять, что у него на уме. Мне послышались эти слова или нет? Почему он не убьёт меня прямо здесь? Зачем ведёт так долго? Куда?
Опустив взгляд перед собой под ноги, я просто шёл дальше.
Глава вторая
Мама
Что такое имя? То, что ты есть, или то, что ты значишь для других? Едва ли ответ придёт сразу. Меня назвали Парук.
Решение об этом было принято вразрез со всеми правилами и обычаями, неуклонно диктующими давать новорожденным имена их усопших предков. В том была одна воля моего отца. Так не звали никого из моих родных, будь то почившие или здравствующие до того дня, и некоторые из собравшихся на торжество родственников даже не слышали такого имени. Немногие знали другое – Фарух. Это персидское имя осталось на нашей земле наследием от арабов-завоевателей.
В торжественный день, как часто вспоминала потом мать, старший друг отца взял меня из люльки в свои большие, крепкие руки. Я кричал и точно старался освободиться от тугих пелёнок, которыми меня перетянули. Он встал у изголовья праздничного стола, собранного по случаю рождения в доме Дибировых первого сына, и произнёс на аварском: «Пусть будет ему имя Парук; и впредь все называйте его Парук и не иначе».
Я из аварцев. Аварец по духу, ровно так же, как аварец по происхождению. Мой отец, дед, отец деда, все были аварцы. Но вот ведь удивительно, само это название, «имя» чуждо народу, которое носит его вот уже более пятнадцати столетий.
Откуда оно возникло, доподлинно не известно. Учёные-историки расходятся во мнениях. Какие-то источники утверждают, что моих предков прозвали так их соседи-кумыки. На тюркском наречии именно это слово «аваръ» или по-другому «аварала» означает беспокойный, тревожный, сварливый, вспыльчивый.
Возможно, мои далёкие родственники действительно очень уж досаждали своим соседям. Сами же они употребляли это название, обозначая выходцев из бывшей Аварии.
Другие же источники свидетельствуют о том, что Авар звали одного из правителей средневекового государства Сарир и, соответственно, имя перешло к его подданным. Но много ли вы знаете подобных случаев?
Тем не менее слово это прижилось, вошло в русский язык и в дагестанские языки и укоренилось повсеместно.
Так что же такое имя: то, что ты есть по сути, или то, как зовут тебя окружающие? А может, твоё имя – это твоя судьба?
Как бы то ни было, жизнь каждого человека начинается с его имени, как каждая книга начинается с названия. В тот момент, когда впервые было произнесено перед всеми моё имя, кто-то, кто есть и всегда будет над нами, достал с большой полки книгу и принялся читать её вслух.
Поезд довёз меня до Махачкалы.
Я вышел на вокзале и сел на скамейку у платформы, откинув голову, чтобы взглянуть на небо.
Был один из прекраснейших тёплых дней. Начало сладкого, плодородного месяца августа. Мысль о том, что лето уже клонит к концу, но ты ещё сможешь вдосталь насладиться этим августовским закатом, успокаивала меня и внушала душе простую радость бытия. С моря, которое билось о песчаный берег метрах в ста от железной дороги, доносился свежий бриз с пьянящим запахом чистой свободы.
Море. Я слышу, как оно шепчет мне свой приветственный мотив, и как рад я обмануться его мнимым радушием. Оно ведь для всех поёт одно и то же. Для всех одинаково стелет свои волны и дарит прохладу с глубины водной толщи. Но только я сегодня так рад ему, как не рад никто больше из снующих вокруг на этом вокзале. Только я могу слушать теперь его с упоением.
Со мной солдатский вещмешок, в котором восстановленные документы и несколько личных вещей.
Что должен чувствовать человек, начиная свою жизнь с чистого листа? Радость обновления? Возможно. Страх перед неизвестностью? С той же вероятностью. А что, если у этого человека за плечами то, что он не может никому раскрыть и вынужден таскать, как рюкзак с тяжёлыми камнями?
Надеяться мне было не на что. Всё, чем я был, кончилось. Какое будущее я могу теперь себе обещать? Кем я стану теперь?
В городе у меня жила старшая сестра с мужем. В последний раз я видел её, когда уезжал на фронт, и за все эти годы ничего о ней не слышал. Её супруг ещё тогда был важным человеком в республике. Он должен дорожить своим чином, репутацией и благополучием своей семьи. И, конечно, такой родственник, как я, им теперь, мягко говоря, ни к чему. Всё это было совершенно понятно. Но что же теперь мне можно сделать?
Я вернулся, каков есть, виновный в том, что оказался в немецком плену. Это всё равно, что заразиться дурной болезнью. Неважно, как это произошло. Гораздо важнее сам факт, который неумолимо бросает на тебя тень презрения вместе с косыми взглядами окружающих. Я был виноват, хотя моей вины, по сути, в этом, наверное, было мало. Я был изгой в своём собственном Отечестве, и в моей биографии теперь была заложена бомба с медленным часовым механизмом. И я уже тогда понимал, что механизм этот когда-нибудь должен дать пуск.
Я просидел на перроне около получаса. Когда солнце основательно припекло, встал и прошёл в здание городского вокзала. Оно отделяло город от железнодорожных путей. Пройдя его насквозь, я оказался на привокзальной площади.
Но как мне теперь было добраться до села? В Махачкале не было решительно никакого транспорта, а путь предстоял неблизкий. Никак не меньше шести часов на автомобиле.
Дороги были пусты в обе стороны до самого края видимости. Вокруг сновал пеший люд. Женщины в платках, навьючив на спину огромные тюки, придерживали их сбоку одной рукой. Другой же они обычно должны были тащить за собой какого-нибудь заспанного ребёнка, который, в свою очередь, не глядя себе под ноги, ел кусок вчерашней лепёшки или чурека.
Торговые люди выделялись среди прочих глубоким загаром текущего сезона. Они везли за собой тележки, заставленные ящиками с арбузами и дынями.
Один старик с клюкой и котомкой за спиной на скрюченных коротеньких ногах пересекал улицу. Я следил за его перемещением, точно не мог оторвать взгляда. Он необычайно мне приглянулся. Старик проворно загребал ногами и издали походил на океанского краба, словно вышедшего с самого дна прошлого.
Несмотря на жару, на нём были папаха из каракульчи с матерчатым стёганым верхом и тёплые джурабы с загнутым носом, подшитые кожаной подошвой. Вид у него был деловой. Старик явно спешил куда-то, хотя, казалось бы, куда ему теперь? Но он был настолько естествен и понятен в своём наряде, своих движениях и манёврах, что, глядя только на него, я чувствовал себя так, будто и не было этих долгих минувших лет. Будто бы всё могло остаться прежним.
Махачкала действительно заметно опустела. Было в её просторе такое явное и внятное чувство вымытого осадка.
Было ощущение, что я стою не на полуденной площади, а нахожусь там в самое раннее утро. Будто основная масса населения ещё спит или нежится в полудрёме. Вот-вот грянет час, и улицы наполнятся рабочим людьми, спешащими на заводы, фабрики, в конторы, в магазины, кабинеты. Но такого не произойдёт.
Этот город будет ещё долго спать своим полуденным сном: и все эти люди, которые могли бы разбудить его топотом своих ботинок, стуком сапог или летящей походкой лёгких модельных туфель, все эти люди, где теперь они? Их имена на могильных плитах, а жёны и дети их – в слезах. Как счастливы, должно быть, они, эти люди-герои. Никто не спросит с них, никто ни в чём не упрекнёт.
Говорят, что победителей не судят. Не потому ли, что некого бывает осуждать.
В архитектуре и остальном внешнем облике город не сильно изменился. Думаю, что для более наглядных изменений нужны потрясения существенней войны.
Война – это дело людей. Чтобы поколебались горы, чтобы реки повернулись вспять или море вышло из своих берегов, требуется совсем иная сила. Так же, чтобы потревожить устои местных жителей и изменить их вековые традиции и культуру, нужно много больше. Много больше!