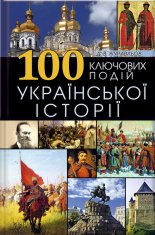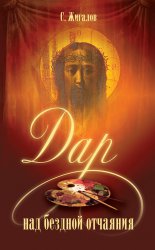Русское богословие в европейском контексте. С. Н. Булгаков и западная религиозно-философская мысль Сборник статей
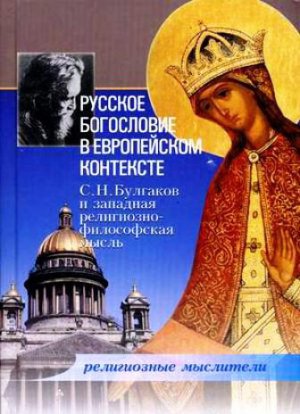
Неизбывная актуальность предостережений С. Н. Булгакова
В. Н. Порус
Шестьдесят лет, отделяющих от кончины С. Н. Булгакова, – повод, собравший богословов, ученых и философов на международную конференцию «Русское богословие в европейском контексте: Булгаков и западная религиозно-философская мысль», чтобы почтить память выдающегося русского мыслителя. Но это собрание – не акт ритуальной учтивости. Обращение к наследию о. Сергия – потребность интеллектуального и духовного сообщества России, ныне осознанная в контексте острейших проблем мировой культуры.
Рецепция идей С. Н. Булгакова в России была и остается неоднозначной, сочетающей различные и даже противоположные оценки – от возвышенно-превосходных до уничижительно-негативных. Сегодня основные произведения о. Сергия доступны русскому читателю, и нет препятствий к их прочтению и усвоению. Но противоречивость их оценок говорит о том, что труды Булгакова не ушли в архивное бытие – они, как и прежде, актуальны.
Конечно, нынешние дискуссии отличаются от тех, которые велись при жизни мыслителя. Другие времена, другая злоба дня. Но и сегодняшние идейные баталии едва ли прохладнее, нежели те, в которых раскрывался публицистический темперамент о. Сергия.
В чем причина страстей, вызываемых его творчеством?
«Философское творчество Булгакова в целом нужно отнести, скорее, к неудачам; его личная творческая трагедия 20-х годов дает выразительное свидетельство ложности пути, по которому он шел и на который призывал вступить своих современников. И поэтому нам никуда не уйти от необходимости пристрастной оценки творчества талантливого русского мыслителя – пристрастной в смысле той истины, которую мы ищем и перед которой нет «малых» и «великих», а все – работники одного дела. Сохраняя позицию восторженных неофитов по отношению к русской философии начала ХХ века, мы рискуем зайти в те же тупики, в которых оказались многие из ее ярких представителей»[1]. Оценка, пожалуй, типичная. С. Н. Булгаков – талантливый философ, литературный критик и публицист, автор исповеданий, поражающих искренностью и глубиной чувства, тонкий ценитель искусства, проницательный богослов. И в то же время – «неудачник», выбравший «ложный» (!) путь, а потому заблудившийся в тупиках, в которых рискуют оказаться и те, кто уподобятся восторженным «неофитам». Парадокс?
П. Я. Чаадаев говорил, что русский народ составляет как бы «исключение среди народов», принадлежа к тем из них, «которые как бы не входят составной частью в род человеческий, а существуют лишь для того, чтобы преподать великий урок миру», предупредить о великих опасностях, ждущих те народы, чье «участие в общем движении человеческого разума сводится к слепому, поверхностному, очень часто бестолковому подражанию другим народам»[2]. Не подобно ли оценивается ныне и мысль русских мыслителей Серебряного века?
Действительно, взгляды Булгакова более чем открыты критическим нападениям. Естественно, их критика велась и ведется с позиций иных либо противоположных. Вот с этих-то позиций и философские, и политические, и богословско-церковные размышления о. Сергия часто оцениваются как безосновательные, эклектические, а то и просто ложные. Даже когда они признаются «яркими» или «выдающимися», тем лишь подслащаются горькие пилюли. По сути же, его творчество объявляется «трагическим заблуждением», достойным сожаления и снисхождения[3].
Вот некоторые мотивы подобной критики.
1. С. Н. Булгаков нелогичен, провозглашая необходимость отразить в философских построениях иррационально-мистические стороны нашего бытия и в то же время склоняясь к «прямолинейному рационализму, который используется в качестве наиболее простого способа обоснования веры». В сочетании с «религиозным высокомерием», то есть догматическим предпочтением православной религиозности как единственно «правильной веры», непониманием «диалектики веры и неверия, скрытой в каждой цельной личности»[4], это оборачивается в конечном счете «дискредитацией разума». Религиозный догматизм и непомерные претензии к разуму приводят к «новому средневековью»: к умалению рациональности и к противопоставлению ей веры.
2. Булгаков не понял и не принял те философские направления, которые «перевернули» традиционную европейскую философию и открыли новые ее горизонты. Так, социальная философия марксизма вызывала у него неприятие за чрезмерное доверие к так называемому «прогрессу», реализующемуся как естественно-исторический процесс, не оставляющий значимого места нравственной и свободной воле. Но он отверг и радикальный волюнтаризм Ницше, отказавшись признать духовность «сверхчеловека». Он «просмотрел» те явления в философии на рубеже двух веков, которые могли бы свидетельствовать о перспективах возрождения религиозного чувства, «утрату которого в европейской культуре Нового времени он справедливо констатировал».
«Его стремление доказать, что европейская цивилизация не нуждается в принципиально новых “символах веры” и что нужно просто вернуться к традиционному христианству, лишь слегка подправленному в соответствии с духом гуманизма, было обречено на очевидную неудачу, оно слишком расходилось с глубинной и неотвратимой логикой исторического развития Европы в ХХ веке. Несмотря на все недостатки, недоговоренности и даже ошибки нового поколения мыслителей – от Фейербаха до Ницше, которые отвергали традиционную систему ценностей, связанную с христианством, и искали новые пути, именно их поиски были единственным источником надежды на возрождение религиозного отношения к миру и человеку, именно они инициировали создание нового мировоззрения, помогающего европейской цивилизации двигаться вперед, не отбрасывая старые ценности, а включая их в более широкие и более плодотворные системы. В противоположность этому, Булгаков в своих ярких публицистических статьях предлагал только одно – возврат назад, к уже пройденным и дискредитированным историей путям, к утратившим свою жизненную силу формам веры»[5].
3. Подправить «традиционное христианство» в духе гуманизма Булгакову не удалось, поскольку идея абсолютной значимости человеческой личности была принята им за идею «человечества без Бога или помимо Бога»; отсюда его возвращение к «“средневековому миросозерцанию” с его представлением о безраздельном господстве Бога над человеком и творческом бессилии человека». В этом Булгаков уступает выдающимся западным философам (Ницше, Бергсону), «которые считали своим долгом именно критику платоновской традиции, господствующей в христианской философии и не позволяющей обосновать творческую свободу человека в ее абсолютном значении»[6].
4. С. Н. Булгаков предстает косным мыслителем в тех вопросах, которые связаны с движением философии и религии навстречу друг другу. «Справедливо критикуя современную философию за чрезмерный рационализм и забвение своих мистических, религиозных оснований, он не желал признать, что жизнеспособность религии в современном обществе прямо зависит от способности ее адептов и служителей отказаться от догматизма и принять как должное возможность современной и свободной интерпретации догматов и Откровения». Этим и объясняется то, что в итоге Булгаков отказался от философии «ради традиционной и уже пережившей свой век формы веры». Вообще, как только перед Булгаковым возникал призрак «чистой», то есть иррелигиозной философии, он изгонял его догматическими заклинаниями: не к абсолютному творческому началу в человеке устремлена его философская мысль, полагал о. Сергий, но к безусловному подчинению человеческих духовных импульсов божественному (или софийному) началу. История философии, как история освобождения человеческого духа из-под власти Абсолюта, представлялась ему «цепью еретических заблуждений и ошибок»[7].
5. Перечень «неудач и ошибок» С. Н. Булгакова мог бы быть продолжен, если рассматривать другие стороны его творчества. Упомяну, не касаясь ближе, о критике софиологических идей Булгакова[8]. Идея «христианского социализма», развивавшаяся им в ранних работах, оказалась несовместимой с российской реальностью. В конфликте с действительностью оказались и его размышления о роли государства в охране первенствующего положения Православной церкви в России. Оказались невостребованными экуменические идеи о. Сергия: лишь в последнее время к ним снова привлечено внимание, но это не означает, что надежда на успехи экуменизма в новой исторической ситуации как-то серьезно возросла.
Повторю: эти и другие критические аргументы основаны на мировоззренческих принципах (или политических убеждениях), противоположных принципам и убеждениям оппонента. Спорящих с принципами рассудить невозможно. Но при неоднозначности выдвигаемых против С. Н. Булгакова возражений за ними видно нечто бесспорное: его творчество действительно являет пример конфликта с определенной исторической тенденцией. Для того, кто считает, что история всегда права, а спор с ней бессмыслен, такой конфликт – свидетельство ошибки, неудачи мысли. Быть может, только тогда, когда история подводит человечество к роковым рубежам, становится ясной высокая цена таких неудач.
«Неудача» Булгакова – это мужественное, но отчаянное, без шансов на успех, противостояние угрозе распада культуры, вполне осознанной им тогда, когда она далеко не всеми воспринималась как очевидность. Когда усилия многих были направлены как раз на то, чтобы содействовать этому распаду, а сопротивление воспринималось как судорожное цепляние за «отжившие» и «обреченные» формы социальной и культурной жизни.
Если это назвать неудачей, то неудачником был не только С. Н. Булгаков. Сегодня говорят о неудаче самого христианства. В начале III христианского тысячелетия осознание этой неудачи, а точнее сказать – трагедии, одних повергает в пессимизм, других побуждает, вслед за Ницше, призывать «утреннюю зарю» (уж не ее ли отсветы лежат на бутафорской эйфории поп-культуры?), третьих – заклинать: «Завтра будет лучше, чем вчера» в надежде на могущество науки или спасительный жизненный инстинкт человечества.
«За две тысячи лет бытия в христианской культуре человечество так и не смогло (не пожелало?) до конца понять суть христианской духовности, освоить и органично принять принципы, заложенные в христианстве в качестве сущностных оснований социальной жизни и культуры…Двухтысячелетний опыт внедрения христианства в человеческое бытие и его глобальное неусвоение человечеством побуждают нас сегодня предположить, что или христианство было явлено человечеству слишком рано, когда оно еще не созрело духовно до его принятия, или ему вообще присуща, доступна и нужна совсем иная форма духовности… Научно-технический прогресс последнего столетия увлек человечество в сферы и на пути, совершенно удаленные от христианских, превратил христианство в сознании основной массы “цивилизованного” населения в некий атавизм, предрассудок или, в лучшем случае, в традиционный красивый поверхностный обряд, исполнение которого остается фактически единственным напоминанием современному человеку о его генетической связи с чем-то таинственным, значимым, но давно ушедшим в историю»[9].
В этих словах – отзвуки вопля «безумного человека» «Бог умер!»[10] и пророчеств «Легенды о Великом Инквизиторе», произнесенных задолго и до современного научно-технического прогресса, и до фразы «После Освенцима любая культура вместе с любой ее уничижительной критикой – всего лишь мусор»[11]. Пути христианства и культурной истории разошлись и, возможно, уже навсегда. Так ли это?
Если так, духовная трагедия С. Н. Булгакова – и впрямь всего лишь неудача. Безуспешно пытался он стать против течения исторического времени и остановить его. Не будем неофитами и пойдем другим путем, говорят критики.
Но что же это за путь – альтернатива булгаковским заблуждениям? Попытаться ли реконструировать его хотя бы из некоторых критических аргументов?
1. Итак, философии следовало бы отречься от «прямолинейного рационализма», неуспешность которого в охвате всех сторон человеческого бытия слишком очевидна. Вместе с ним должны быть оставлены и мечтания о Разуме, причастном Софии. На его место, видимо, идет «умеренный» рационализм, признающий иррационально-мистические стороны человеческого бытия лежащими вне сферы своей компетенции. «Цельный человек» – единство рационализируемых и иррациональных «сторон» личности, в нем сосуществуют или вступают в конфликт вера и неверие, разум и неразумие. Он-то и должен быть в центре философского интереса и размышления. Этот поворот к «человеку» – главная заслуга современной философии и ее преимущество перед «устаревшей метафизикой».
Причина «заблуждений» Булгакова, помимо прочего, в том, что он пытался продлить философскую традицию, которая (со времен Платона) утверждала несовпадение «наличного бытия» человека и его «сущности»; отказ от устаревшей «сущностной» философии человека и является средством исправить эту ошибку. Философия должна обратиться к человеку, каков он есть «на самом деле», исходить из его «данности» и приходить к ней же в своих рассуждениях. В этом видят выход из тупиков. Прогибающийся под все зигзаги бытия разум вполне соответствует столь же гибкой вере, и никакого серьезного конфликта между ними нет. Ведь и разум, и вера – это только способы удовлетворения жизненных потребностей «реального», избавленного от беспокойных сопоставлений с некой своей «сущностью», человека[12].
2. Каков человек, таковы и его символы веры. В чем их новизна и преимущество жизненной силы по отношению к «устаревшему» credo? Ответ действительно поразительный.
Оказывается, именно духовные поиски воюющих с христианством (если не с религией как таковой) философов («несмотря на все их ошибки»!) могли бы указать пути возрождения религиозного чувства. Например, антихристианство Ф. Ницше. «Я осуждаю христианство, я выдвигаю против христианской церкви самое страшное обвинение, какое когда-либо звучало в устах обвинителя. Она для меня худшая из всех мыслимых порч, она обладала волей к самой ужасной, самой крайней порче. Христианская церковь не пощадила ничего и испортила все, каждую ценность она обесценила, каждую истину обратила в ложь, всякую прямоту – в душевную низость»[13]. Конечно, к этой хуле на Церковь, а также на Христа и апостола Павла, следует относиться, по совету К. А. Свасьяна, «осторожно и критически»: «Говорить здесь об авторстве в обычном смысле слова следовало бы с большими оговорками; патологическое помрачение сознания, непрерывные гримасы бесноватости, транспарирующие едва ли не через каждую страницу и вынуждающие читателя уже не просто к философскому, но и к экзорцическому прочтению».
Короче, это визг «бесноватого», и потому «здесь, надо думать, прекращается уже компетенция философа и начинается компетенция психопатолога»[14]. Но за бесноватостью кроется ужас перед смертью Бога, а следовательно, и поиск нового Божественного начала: «Когда он, скажем, ругает христианский «монотонотеизм» и изощряется в кегельбанно-атеистическом остроумии, зашибая насмерть пустых истуканов, когда он возвещает «смерть Бога» и «восхождение нигилизма», только топорный и крайне немузыкальный слух не расслышит здесь полифонии смыслового бумеранга, как бы некой семантики с двойным дном, где само отрицание неожиданно совращает к новому и небывалому приятию – одной случайно оброненной реплики вроде: «Что отрицал Христос? – Все, что сегодня называется христианским»[15] – окажется вполне достаточно, чтобы разгадать тональность ситуации…»[16].
Слух Булгакова, действительно, был слишком «топорным» и «немузыкальным», чтобы разгадать в этой тональности поиск новой религиозности или контуры возвышенного, пусть и антирелигиозного, гуманизма. Он воспринял идеи Ницше как «проповедь самодовольства, самовлюбленности, говоря прямо, филистерства». Ошибочное, хотя, пожалуй, психологически понятное восприятие искренно верующего человека. «Человека, – писал Булгаков, – облагораживает, делает человеком в настоящем смысле слова не это странное обожание натурального, зоологического сверхчеловека, «белокурой бестии» Ницше, но вера в действительно сверхчеловеческую и всемогущую силу Добра, способную переродить поврежденного и поддержать слабого человека. Только веря в нее, можем мы верить в себя и в своих братьев – человечество»[17]. Антипод этой веры – карамазовский Великий Инквизитор, чьи идеи Булгаков ставил в параллель взглядам автора Заратустры. «Основной мотив социальной философии Ницше есть та же идея, что и у великого инквизитора – отрицание этического равенства людей, признание различной морали рабов и господ. С точки зрения этой идеи Ницше приходит ко всем патологическим уродливостям своего учения – отрицанию любви, сострадания, возвеличению войны, полному отрицанию демократических идеалов.»[18]. До понимания того, что в патологической уродливости скрыты основы новой религиозности, о. Сергий не поднялся.
Поэтому, оказывается, «в отношении Булгакова к Ницше с предельной наглядностью проявились слабости его философского и религиозного мировоззрения. Он выказывает удивительную слепоту в восприятии главнейших идей Ницше, буквально перевернувших традиционную европейскую философию и открывших такие горизонты, которые европейская культура не смогла по-настоящему освоить даже к началу XXI века. Булгаков с полной серьезностью воспроизводит самые банальные, почти вульгарные интерпретации “ницшеанства”, и это выглядит очень странным в работах мыслителя, претендующего на раскрытие “глубочайших тайн” человеческого бытия»[19].
Странно ли? Во всяком случае, не более странно, чем узреть в нападках Ницше на Иисуса открытие горизонтов нового религиозного сознания. Что делать, С. Н. Булгакову были чужды выверты ума, искавшего веру в изнанках неверия. Он не увидел ни в этих вывертах, ни в прямом отрицании религии ростки новых «символов веры», якобы идущих на смену устаревшему и уже не способному на реформирование христианству. В этом-то его «удивительная слепота» и «слабость»!
3. Христианство нуждается в «улучшении» и «исправлении». Что могло бы помочь этой нужде? Утверждение свободы творческой личности в «абсолютном значении»? Эта звонкая формула допускает много интерпретаций. Какая из них удовлетворила бы критиков Булгакова? История философии знает многих и разных глашатаев творческой свободы человека. Среди них – тот же Ф. Ницше, яростно бунтовавший против подавления свободы «моралью рабов», то есть христианской моралью.
Булгаков как-то по-интеллигентски называл этот бунт «теорией аморализма» и заявлял, что из ницшеанско-карамазовской философии нет пути, кроме как в безумие; драматическое столкновение ума и совести неизбежно приводит к личной трагедии человека[20].
А. В. Луначарский, философский путаник, смешивавший в затейливом коктейле марксистские, позитивистские и ницшеанские идеи, парировал: «Ницше приветствовал свой аморализм как освобождение, как выздоровление», а его драма и трагедия вымысел Булгакова. «Болезнь есть болезнь, а больная совесть – болезнь гибельная, сопровождающаяся страшной растратой сил. Цель Ницше – освободить человека от этой болезни, в которой он видел нечто унизительное и грязнящее»[21]. Здоровый человек не знает мук совести, не теряет сил на сострадание – он без сомнений вступает в борьбу за то, что любит и считает справедливым. А уж что любить и что считать справедливым – это уж следует решать без подсказок морали или религиозной проповеди: «Полноте, – сказал бы Ницше, – эгоизм человекобога благодетелен, как гроза»[22].
Подобные «тренды» мысли многократно подвергались проверке жизнью. Пожалуй, ни один миф не развенчивался историей так, как миф о «человекобоге» с его «абсолютной творческой свободой». То, что он жив и доселе, говорит о силе соблазна. И еще о том, что человечеству, скорее всего, придется еще не раз платить страшную цену за долголетие этого мифа.
Но какое все это имеет отношение к «улучшению» и «исправлению» христианства?
На это пытался ответить Л. Шестов. Он называл Ницше «первым, быть может, единственным, философом – врагом христианства как религии…, положившим все силы своей души на то, чтобы найти веру»[23]. Только освободив христианство от наследия и влияния «Афин», то есть рационалистической и моралистической традиции, идущей от античной эллинской философии, можно вернуть ему религиозное значение. Такое христианство должно было бы научить человечество и человека обходиться без костылей науки и морали, поддерживающих шатающуюся веру. О том, к каким последствиям для культуры вело бы это преображение христианства, я рассуждал в других своих статьях[24].
Здесь же я только еще спрошу: не поиски ли «новой религиозности» Л. Шестовым, а еще К. Ясперсом, отчасти М. Хайдеггером[25], принимаются за признаки возрождения религиозного чувства в человеке и человечестве? Отчуждение религии как «святого личного и неискоренимого влечения» от универсалий культуры[26] – это и есть «улучшение» христианства?
4. Но, кажется, самым решительным советом «служителям и адептам» религии является то, что им следовало бы подвергнуть догматы и Откровение современной и свободной интерпретации.
Русские религиозные философы начала ХХ века, действительно, питали надежду на реформирование христианства. Вообще, эта идея тогда была в духе времени и разделялась многими не только православными, но и католическими, и протестантскими мыслителями. Реформа веры никогда не осуществлялась без огромных духовных потрясений, не говоря уже о прямой борьбе с реформаторами тех, кто считал себя охранителями устоев. Можно упомянуть, к примеру, попытку Д. С. Мережковского создать основы «Третьего завета»[27], якобы преодолевающего метафизичность исторического христианства и возвращающего Христу животворящий религиозный свет, а Церкви – утраченное единство; эти идеи были с недоверием и настороженностью восприняты православными богословами (в том числе С. Н. Булгаковым[28]). Или искания М. де Унамуно, воспринимавшего столкновение христианских догматов с критической силой разума как трагическую судьбу человека, рвущегося к вере через непреодолимые сомнения в ней[29]; они были осуждены Римской католической церковью как антихристианские, а книги писателя внесены в папский индекс запрещенных книг. К. Барт, чьи проникнутые экзистенциалистскими мотивами критики культуры богословские труды оказали огромное влияние на судьбы христианства в ХХ веке, скептически оценивал саму возможность христианской философии. Он писал: «Теолог, не стыдясь своей философской наивности, должен заявить прямо и безоговорочно, что единая и неделимая истина его – Христос, и это определенно указывает ему путь мышления и словесного выражения и потому отрезает для него философский путь»[30]. Сравним это с цитатой из «Трагедии философии»: «Или философия невозможна и остается ее уделом только новое повторение старых и исхоженных уже путей, бег белки в колесе. или же она возможна как догматически обоснованная и религиозно, т. е. догматически обусловленная философия. И это не принижение, но высшее предназначение философии – быть богословием.»[31]. Булгаков и Барт говорят об одном и том же, но если протестантский богослов не видит возможности самоотречения философского Разума ради понимания «живого Слова Бога» и проводит резкую границу между ними (по крайней мере, в сознании теолога), то православный священник ставит перед Разумом высшую цель – дать философское истолкование учению о Бого-человеке[32]. Различные пути, различные традиции мысли. Но если путь Барта – религиозное новаторство[33], то путь Булгакова объявляется ретроградной приверженностью «пережившей свой век форме веры».
5. Трудно реконструировать как нечто единое критические возражения против «христианского социализма». Например, когда Булгаков создавал программу «Союза христианской политики», его обвиняли и «слева», и «справа»: одни за то, что он искажает суть социализма, разменивая ее на церковную проповедь, другие – за то, что он принижает христианство, сближая его с политическими требованиями социалистов[34].
Вообще говоря, однозначно связывать социально-политическую доктрину с религиозным учением – предприятие рискованное[35]. Исторический контекст меняет смысл этой связи. Так, в 60-х гг. прошлого века лозунг о «социализме с человеческим лицом», популярный в недолгий период «Пражской весны», кое-кем в России еще мог восприниматься как нечто сходное с «христианским социализмом», но уже в середине 80-х он звучал как бессильный и лживый анахронизм. На рубеже ХХ и XXI веков, испытав на себе тяготы, связанные с ускоренной реставрацией рынка и родовыми муками демократии, значительная часть общества ностальгирует по социализму, вернее, по его идеализированному образу, в котором вновь угадываются «человеческие» черты, сближающие его с христианской этикой.
Вместе с тем, вспомним, что именно независимость религиозной позиции человека от политических доктрин и практик была той стеной, за которой К. Барт пытался уберечь религиозность от нацистской порчи. Разъединение или соединение религиозности с социально-политическими воззрениями зависят от исторического контекста и не могут оцениваться в изоляции от него. Поэтому когда безжизненность «христианского социализма» доказывают тем, что этот «проект» был опровергнут ходом истории, то забывают, что последний нельзя представлять как монотонно-поступательное развитие, каждая последующая стадия которого превосходит предыдущую во всех существенных для человека и человечества смыслах. Даже если признать «христианский социализм» Булгакова утопией (что было бы упрощением и даже искажением его мысли), то и тогда конфликт с «реальностью» вовсе не означает ничтожности или ошибочности этого утопического «проекта». Идеалы вообще не опровергаются действительностью; напротив, действительность испытывает на себе силу идеалов и так или иначе сообразуется с ними.
Еще П. Я. Чаадаев обмолвился: «Социализм победит не потому, что он прав, а потому, что неправы его противники»[36]. Ведь критика социальной несправедливости (вопиющего имущественного неравенства, фактического рабства, беспросветного и бессмысленного прозябания как удела большинства) понятнее и ближе массам, чем критика «религиозного соблазна социализма», обещающего «земной рай» для поколений, стоящих «на плечах всего предшествующего человечества» и забывающих о цене этого рая, «о тех бесчисленных трудах и жертвах, которые понесены для его создания»[37]. Но такая победа означала бы поражение человечества. Отсюда мечта: установить «положительное отношение» между христианством и социализмом. «Христианство дает для социализма недостающую ему духовную основу, освобождая его от мещанства, а социализм является средством для выполнения велений христианской любви, он исполняет правду христианства в хозяйственной жизни»[38].
Мечта несбыточная. Булгаков понимал опасность «социалистической варваризации», от которой духовно не погибшим пришлось бы в итоге «прятаться в подземелье»[39]. Но в кризисную пору позиция скептического наблюдателя морально ущербна. Нужно было выбирать, и Булгаков сделал выбор, не суливший успеха. Впоследствии он признал его ошибкой[40].
В этом урок. Неправы те, кто крах социализма в нашей стране связывают с происками внешних и внутренних врагов. Социализм рухнул потому, что оказался духовно опустошенным. Он изжил свою правду – правду критики неправды – и обратил ее в ложь. Но неправы и те, кто пытается опровергнуть идею социализма перспективой глобального мещанства. В этой борьбе неправд каждая порождает, а не побеждает другую. Побежденной может оказаться культурная история.
Сказанное не «оправдывает» Булгакова перед критикой. Крупный мыслитель, он не нуждается в оправданиях. Более того, актуальность критики является доказательством его «крупности». Ведь мелкие мысли критики не заслуживают. Они просто исчезают из памяти.
Повторю: все творчество Булгакова – свидетельство его борьбы против ясно ощущаемой им угрозы распада – культуры и человека, государства и церкви, разложения основ общественного бытия. В этой борьбе были достижения и потери, издержки. Но их невозможно отделить друг от друга, как доходы и убытки в гроссбухе.
Это трагическая борьба, в которой трудно отличить «пораженье от победы».
1. С. Н. Булгаков находил в идее «всеединства», главной в философском и публицистическом творчестве В. С. Соловьева, противоядие против разъединения человечества, утрачивающего единство духовное, а вслед за тем подходящего к краю бездны. В этом исток его «прямолинейности», с какой он пытался соединить рациональность с мистической стороной веры. «Всеединство» предполагает «воссоединение» веры и разума в человеке («втором Абсолюте»). Не без колебаний признав, что рациональность, воплощенная в науке и философии, не может быть основой для такого воссоединения, он в конечном счете пожертвовал ею ради «всеединства». Если на одной чаше весов рациональность со всеми ее цивилизационными преимуществами, а на другой – культура с ее универсалиями «Веры» и «Морали», то следует, полагал Булгаков, признать рациональность слишком легкой.
Многие не согласятся с таким выводом. Те, кого приводит в недоумение или раздражение само слово «духовность», не имеющее перевода на «язык науки», возразят: разве рациональность не есть высшее и к тому же ясное проявление «духа»? Зачем же одно приносить в жертву другому?
Булгаков, имея в виду подобные вопросы, отвечал евангельским иносказанием: если зерно не умрет, то не оживет и не даст плода. Дело не в подчинении признающего свое бессилие разума диктату религии. Речь не о таких пошлостях, а о трагедии разума, отраженной в трагедии философии. «Катарсис мысли, который получается как итог этой трагедии философии, приводит к ее обновлению чрез углубление самопознания, как в ее силах и границах, так и в ее природе»[41].
Разум обязан быть «прямолинейным», не виляя и не делая экивоков ни в сторону «непознаваемой» внутренней жизни человека (где всегда найдется место не только для примитивного неразумия, но и для чудовищ Гойи), ни в сторону самодовольной обыденности, старательно прячущей «непознаваемое» за ширмой лицемерия.
«Второй Абсолют» – человеческая личность – это единство Разума, Добра и Красоты, достигаемое, считал о. Сергий, в Вере. И это идеальная цель, путь к которой труден. Это путь от «жизненного мира», от наличного бытия человека к его сущности. Культура – система ориентиров на этом пути. А не интерьер мещанского существования.
Предостережение Булгакова в том, что, сойдя с этого пути, человечество исчерпает свой смысл. Слагая с себя бремя своей сущности, люди испытывают «невыносимую легкость бытия», под которой обрушится и культура, и само существование человеческого мира. Предостережение, не услышать которого уже нельзя, ибо оно в резонансе с тревожными сигналами, уже привычными в повседневности.
2. Реформирование христианства – эта проблема не раз выходила на авансцену истории. Кто в большей мере осознавал неизбежность этого, чем русские реформаторы, среди которых Булгакову принадлежит заметное место? Но величайшая опасность в том, что процесс реформ может при определенных условиях обращаться в фактическое и сущностное разрушение культуры, уже теперь почти свыкшейся с забвением своих христианских корней. Попытки модернизации вероучения, богословия и христианской практики на поверку, бывает, оказываются только «мероприятиями», не обновляющими христианство, а приспосабливающими его к неоязычеству или вульгарному безбожию. Успех таких «мероприятий» означал бы духовную гибель Церкви и выпадение христианства из культуры.
Булгаков видел в христианстве не «традиционную систему ценностей», которая могла бы, если того потребует исторический «прогресс», смениться иной традицией, иными ценностями. Такой подход к ценностям был для него еще более неприемлем, чем «пошлое и безнравственное понимание прогресса» в сферах социальной, экономической и политической жизни, то есть прогресса цивилизации, когда жизнь и смерть предшествующих поколений рассматриваются лишь как условия повышения материальной комфортности для последующих. «Роковым и мучительным» был для него вопрос: возможно ли сохранить неизменными ценности, которые он считал необходимыми условиями самого существования культурного человечества, без которых он не мог и помыслить «действительное разрешение исторического трагизма», при неизбежном изменении всех сторон человеческого бытия, связанного с движением цивилизации «вперед». «Роковым и мучительным», а не плоским, допускающим обрастание «старых» ценностей «новыми» в «более широких и плодотворных системах». В том-то и мучительность этой проблемы, что движение «вперед» – это движение в «никуда», если вечные ценности помещаются в ряд с преходящими интересами, уравниваясь с ними, а то и уступая им верховенство.
Нельзя называть ни заблуждением, ни слабостью решение, к которому пришел Булгаков. Оно – предостережение: поиски новых путей не должны стать блужданием. Нельзя спутать превращение религии в игру на чувствах либо в ритуальное развлечение с возрождением религиозного отношения к миру и человеку. Цена путаницы – культурная катастрофа.
3. Еще одно предостережение Булгакова – об опасности размена христианства на мелочь псевдогуманистических лозунгов, среди которых провозглашение абсолютной творческой свободы занимает едва ли не главное место. Антиномии свободы хорошо известны. Размышление над ними зависит от того, каким полагается субъект творческой свободы. Теперь на месте, освободившемся после «смерти» самотождественного и ответственного за свои поступки субъекта, оказывается самодовольный и изменчивый, как Протей в своем внутреннем мире, мещанин! А уж для него-то некогда трагически напряженные разговоры об абсолютной творческой свободе – лишь отдохновение от забот, несомых проникающими в его уют напоминаниями о трагизме бытия. И гуманизм он понимает по-своему, как систему ценностей, приспособленных к его небольшим личным нуждам. Творческая свобода для него – это свобода от требований и ограничений культуры, мешающих по своему произволу насыщаться плодами цивилизации. Покушения на эту свободу он рассматривает как насилие и репрессию культуры, а потому и враждебен последней, хотя с удовольствием обставляет симулякрами культуры интерьер своей «ниши».
«Сверхчеловек», враждовавший с христианской культурой, мог быть принят за провозвестника новой, соблазнительной своим романтическим пафосом, культуры. Булгаков предостерегал против этого соблазна[42]. Но он видел также изнанку «человекобожия»: омертвляющую силу «духовного мещанства», подчиняющую себе культуру и превращающую ее в пустую форму, которую спешит заполнить разрушительное, дьявольское начало. «Сатаническое начало мира, “князь мира сего” есть именно олицетворенное мещанство. и иронический черт Ивана Федоровича Карамазова недаром является в образе мещанина»[43]. Гуманистическая фразеология, из которой вынуто религиозное начало, считал Булгаков, в одинаковой мере может служить и «сверхчеловеку», и мещанской черни. Поэтому он и находил в религии антидот против этих ядов: «Конечно, отрицанием мещанства может быть всякая духовная жизнь, как умственная, так и эстетическая, и всякая духовная актуальность, потому развитие и успехи духовной цивилизации парализуют силу мещанства; но самым решительным и единственно непримиримым врагом его является религия, истинная основа духовного человека. Истинная и искренняя религиозность (которую мы, конечно, не связываем здесь ни с какою определенной формой верований) – вот, на мой взгляд, действительно противоположный полюс мещанства»[44].
Можно соглашаться или спорить с этим выводом. Но нельзя не признать силу предостережения: культура, в которой гуманизм трактуется как подчинение культурных универсалий индивидуалистическим притязаниям человека, становится антигуманной и обрекает себя на вырождение.
4. Булгаков предчувствовал и наблюдал наступление решающей фазы культурного кризиса, который сегодня уже охватил человеческий мир и поставил его историю перед последней чертой. Европейская философия не смогла преградить путь кризису. Поэтому, полагал он, ей следует отказаться от своих притязаний на роль учителя и духовного лидера человечества и вернуться в лоно, из которого она когда-то вышла, – вернуться к религии.
Но и христианская религия не предотвратила кризис. Она сама пребывает в кризисе, и выхода из него пока не видно. Из стержня европейской культуры она превратилась в едва ли не второстепенный ее фактор. Не потому ли продолжающийся рост цивилизации все более напоминает рост раковой опухоли, и сквозь завесу фальшивого оптимизма все резче проступает контур апокалипсиса?[45]
Когда горит твой дом, время ли спорить о природе пламени? Продолжающиеся споры между наукой, философией и религией о том, кому надобно уступить первенство в культуре, бессмысленны уже сейчас, потому что если не будет культуры, то первенствовать будет некому и незачем. Урок исканий Булгакова в том, что движения философии и религии навстречу друг другу вообще имеют смысл, если они ведут к совместному противостоянию варварству[46].
5. Идеи Булгакова о связи российской государственности и Православной церкви могут быть поняты только в определенном историческом контексте. В начале прошлого века Булгаков критиковал саму возможность «союза» между самодержавием и церковью: православие, по его мнению, не должно ни поддерживать, ни, тем более, освящать власть, повинную в нарастании социальнополитического, духовного и хозяйственного кризиса; превращение церкви в политическую партию умаляло и дискредитировало бы христианскую идею. Но в годы первой мировой войны он уже по-другому относился к этой связи. Ему грезились перспективы совместного противостояния церкви и российской власти кризису западной культуры и цивилизации. А в годы становления и упрочения большевистского государства он видел в церкви оплот духовного сопротивления диктатуре и, пожалуй, единственную надежду на возможное возрождение христианства в России.
Исторически конкретен и вопрос о поддержке Православной церкви со стороны государства. Например, если говорить о российской современности, то таковая поддержка является прямым долгом государства, коль скоро существует преемственность ответственности его институтов перед обществом (в том числе и за преследование церкви, подавление ее культурной функции, истребление, ограбление и осквернение храмов, часто не только допускавшееся, но и поощрявшееся, инициировавшееся властью на протяжении десятилетий). Поддержка, однако, не должна переходить в потакание безосновным амбициям, например, направленным на изменение статуса светского государства или ликвидацию отделения школьного образования от церкви.
Необходимо считаться с возникающей при определенных условиях возможностью попустительства властей шовинизму, национализму в его экстремистских формах, разжиганию религиозной и национальной вражды. Борьба с этой угрозой – задача и обязанность всех здравых сил общества, в том числе и в первую очередь, самой Православной церкви. Об опасности националистического перерождения христианства предупреждал и С. Н. Булгаков, называя это соблазном «беса национализма, прикрывающегося религиозным облачением», болезненным течением в русской жизни, «в котором национализм становится выше религии, а православие нередко становится средством для политики»[47]. Бес, о котором говорил Булгаков, – не жалкий бесенок, отступающий от крестного знамения или сникающий от либерального культуртрегерства, а страшный враг, недооценить силу которого – значит погубить и церковь, и российскую государственность.
«Пир богов» растянулся на весь прошедший век. В начале века нынешнего все так же слышен стон одного из участников современного диалога: «Россия! О, моя Россия! Что с тобой сделалось? Что мне этот пир богов, если она из него извергнута, как неимущая одеяния брачного? Что мне до всемирно-исторических перспектив, если в них видится мне разлагающийся труп моей России?»[48]
Любовь к Родине у Булгакова сродни вере в Бога. Он не отделял их друг от друга. Это были два основания его жизни.
Теперь любовь к Родине слишком часто превращается в затертый словесный штамп, а то и хуже – в лицемерную позу. То же и с верой. Но так было всегда. Вот строки, написанные С. Н. Булгаковым за три четверти века до «шоковой терапии» и новой российской смуты:
«Россия, родина! те, кто любил тебя, жил тобою, верил в тебя, знали ли они от тебя что-либо, кроме муки? За муки любили, чрез муку верили, но и когда колебалась вера, когда бросали они тебе в лицо горечь плача и желчи, они знали, что для них нет жизни вне тебя, нет родины, нет обетованной земли, кроме тебя, Россия, нет скинии завета, кроме сердца твоего, святая Русь! И отчаиваясь в тебе, в себе же отчаивались, произнося приговор над тобой, себя судили»[49].
Это и завет, и предостережение. Нельзя забыть, что осуждая свою страну, мы судим самих себя. Да будет этот суд справедливым.
I. Взаимное влияние русской религиозной философии и западного богословия ХХ века
«Тезисы о Церкви» С. Н. Булгакова в сопоставлении с Догматической конституцией о Церкви II Ватиканского собора
А. Раух
Я хотел бы показать на примере одного доклада протоиерея Сергия Булгакова, какое значительное влияние оказали русские православные богословы на обновление Католической церкви, осуществленное II Ватиканским собором.
Именно православные русские эмигранты, покинувшие Россию после Октябрьской революции, стали вдохновителями обновления католического богословия и Католической церкви перед II Ватиканским собором. Ведущие представители французского «нового богословия» («nouvelle theologie») – Ив Конгар, Анри де Любак и Жан Даниелу (все они впоследствии получили кардинальский титул за свои богословские труды в качестве консультантов Собора) – находили в экклезиологии Православной церкви импульсы для нового видения Католической церкви, ориентированного не только на ее институциональные элементы, но прежде всего на осуществленную в Духе новую жизнь во Христе.
Поэтому, отдавая дань исторической справедливости, нам следует особо поблагодарить Русскую православную церковь за это обогащение.
В немецкоязычной среде мы можем наблюдать данное влияние на таких богословов и консультантов Собора (а позже – кардиналов), как Ганс Урс фон Бальтазар, Йозеф Ратцингер и Алоис Грильмайер.
Все вышеназванные католические богословы часто указывают на импульс и влияние, которые они получили от русских богословов и религиозных философов, прежде всего от протоиерея Сергия Булгакова, чьи труды были доступны им благодаря деятельности Института св. Сергия в Париже.
Протоиерей Сергий Булгаков выступил на I Конгрессе православных богословов в Афинах в 1936 г. со следующим докладом[50], раскрывающим учение о Церкви.
Он начинается словами:
В наше время с догматической точки зрения наиболее важным и существенным является учение о Церкви.
1. Церковь как предмет веры.
Катехетическое определение Церкви как сообщества людей, объединенных догмами, священством и таинствами, в целом соответствует определению Церкви в догматических трудах протестантизма и римского католичества.
Однако такое понимание связано с видимым бытием Церкви, с ее историческим обликом. Оно не затрагивает ее рациональной «невидимой» основы, познаваемой через веру («Верую… в Церковь») и являющейся предметом веры.
Догматическая конституция о Церкви (Lumen gentium, в дальнейшем LG) в самом начале говорит о таинстве Церкви.
«Церковь есть во Христе некая тайна (mysterum), то есть знамение и орудие глубочайшего соединения с Богом и единства всего человечества» (LG Nr.1).
2. Церковь и церкви.
Церковь обладает и сверхэмпирическим бытием, которое, хотя и видимо выражается в жизни определенного церковного сообщества, но тем не менее не исчерпывается им. Прежде всего, бытие Церкви не ограничено объемом ее видимого состава, но включает в себя также ангельский мир и души ее умерших членов.
Помимо этого, Церковь, как непреходящий принцип жизни, не ограничена пространством и временем, но возвышается над ними. В этом смысле послания апостола Павла различают между единой Церковью и многими церквами как местными сообществами.
Она надвременна и в этом смысле есть вечное основание бытия и творения мира. Мы читаем в книге «Пастырь Ерма», что мир был сотворен ради Церкви, как ее сосуд. Эдемский сад, в котором Бог говорил с первозданными людьми, есть прямое свидетельство тому. В экклезиологическом Послании к Ефесянам сказано: «Бог избрал нас в Нем прежде создания мира» (Еф 1:4)!
Как начало божественной жизни, данное всему творению, Церковь – это «тайна, сокрывавшаяся от вечности в Боге» (Еф 3:9), обитель на небесах, «нерукотворенный, вечный дом» (2 Кор 5:1), слава Божья, которая откроется в нас (Рим 8:18), небесный Иерусалим, сходящий на землю в полноте времени (Откр 21).
Видения раннехристианского писателя Ерма уже давно стали определяющими для нашего понимания Церкви. Этот писатель рассматривает Церковь в двух ее аспектах: как предмировую сущность и одновременно как структуру в мире.
«И явилась мне, братья, в моем первом видении (во сне) очень старая женщина, сидящая на троне.
Во втором видении у нее было молодое лицо, но ее тело было старым и волосы седыми, и она, стоя, говорила со мной; она была радостнее, чем прежде.
В третьем видении она была значительно моложе, с прекрасным лицом, но все же волосы ее оставались седыми; она была очень радостной и сидела на скамье.
Тогда сказал мне юноша во сне: «Как ты думаешь, кто эта старая женщина?» Я ответил: «Сибилла». «Ты ошибаешься!» – сказал он. «Кто же она?»
И юноша ответил мне: «Она – Церковь Божья». Я спросил: «Почему же она тогда стара?» – «Она стара потому, что была создана в начале всего, и ради нее был сотворен мир».
, : , . : ; , , , ; . Et eo dixi: Quis ergo est? Et ait mihi: Ecclesia est. Et dixi ei: Quare senior? Et ait mihi: Quoniam prior omnium creata est, propterea senior est, eo quod propter ipsam saeculum creatum est.
И о Боге говорит он: «Живущий на небесах, который призвал все в бытие из ничего(!), исполнил и умножил ради своей святой Церкви».
Это небесно-вечный аспект Церкви.
В другом видении пред ним предстает исторический аспект Церкви, в виде изображения башни, построенной ангелами и состоящей из христиан, как живых камней. Камни так хорошо подогнаны друг к другу, что башня кажется единым целым, высеченной из одного камня.
Это два аспекта одной Церкви. «Выслушай же теперь истолкование этой башни», – обращается Церковь в образе старой женщины. – «И башня, которую ты здесь видишь выстроенной, есть я, Церковь, – та же самая, которая является тебе ныне и являлась прежде».
« , , , . Turris enim quam vides, quae aedificatur, ego sum, Ecclesia, quae parui tibi modo et antea».
3. Церковь как богочеловечество.
Церковь есть богочеловечество, от вечности на небесах, осуществляющееся в творении как полнота времени. Это осуществление совершается через воплощение Бога и Пятидесятницу, через воплощение Слова и излияние Святого Духа, посланного Отцом.
В силу воплощения Церковь есть Тело Христово (1 Кор 12:27, Еф 1:23; 4:12, Кол 1:24), а в силу Пятидесятницы она есть храм Святого Духа (1 Кор 3:16–17; 6:19,2 Кор 6:16).
В своей связи со Христом Церковь есть Его человечество, которое нераздельно и неслиянно связано с Его божеством. В своей связи со Святым Духом она есть сосуд Духа Святого, который благодатью Своей дает жизнь во Христе и сообщает ей силу обожествления.
Это обожествление тварного существа выражается в образе мистического брака, в котором Церковь есть Невеста Агнца (Еф 5:32, Откр 21:9; 22:17) – Через единение божественной сущности с человеческой в Церкви осуществляется спасение человека от греха и, следовательно, сообщение ему бессмертной жизни и прославления.
Это происходит в течение всей человеческой истории – сначала предварительно в Церкви Ветхого Завета, затем «в конце времен» в христианской Церкви как «воинствующей Церкви» в царстве благодати. Полнота Церкви откроется в грядущей вечности воскресения, в царстве славы.
Во всех этих областях Церковь осознается как сила божественной жизни в естественном человеке, как духовная сила и реальность.
«Церковь была прообразно возвещена уже от начала мира; дивно предуготовленная в истории народа Израильского и в Ветхом Завете, основанная в последние времена, она явилась через излияние Духа Святого и будет завершена во славе в конце веков. И тогда, как мы читаем у святых отцов, все праведные, начиная от Адама, от праведного Авеля до последнего избранного, будут собраны во Вселенской Церкви у Отца» (LG Nr. 2).
«Наше единение с небесной Церковью осуществляется самым возвышенным образом, когда мы в общем ликовании воздаем хвалу Божественному величию, особенно в священной Литургии, в которой сила Святого Духа действует на нас через знаки таинств» (LG Nr. 50).
4. Принцип «соборности» в Церкви.
Члены Церкви, принадлежащие Телу Христову, пребывают в любви Бога Отца и находятся в общности со Святым Духом – не как отдельные личности, но в органическом многоединстве, связанные друг с другом в любви. Эта v, этот церковный союз любви есть многоединство, в котором каждая личность обладает собственным бытием, но в то же время переходит в сообщество всего человеческого рода (и одновременно в сообщество ангелов)».
Это сообщество – не просто эмоционально-психологческое состояние, а благодатный дар церковной любви в соответствии с новой заповедью любви, которую Христос дал Своим ученикам. В этом органическом многоединстве бытие самой Церкви проявляется как свобода в согласии и послушании (2 Кор 3:17); так «тело… получает приращение для созидания самого себя в любви» (Еф 4:16).
Эта природа Церкви называется в русском богословии «соборностью» (от русского слова «соборная», представляющего собой свободный перевод, но в то же время аутентичное истолкование греческого ). Принцип соборности распространяется в современной русской экклезиологии на все основополагающие сферы Церкви.
«Общность (communio) – высоко почитаемое в Древней Церкви (а также и в настоящее время, особенно на Востоке) понятие. Но оно понимается не как какое-то неопределенное чувство, а как органическая действительность, которая требует правового оформления и в то же время одушевляется любовью» (Notapraevia Nr. 2 к LG).
5. Иерархический принцип в Церкви.
Соборность не противоречит основному принципу иерархичности, установленному Богом, но указывает на подобающее ему место – в Церкви, но не над Церковью – и разъясняет его как определенную форму соборности.
Церковь так же иерархична, как народ Божий и царственное священство, хотя в ней существуют различные ступени иерархии.
Высшие ступени иерархии наделены, безусловно, полномочиями в отношении нижестоящих, однако эта власть проявляется только в единстве любви, в органическом восприятии церковной соборности. Если разрушается соборность, то и полномочия теряют свой фундамент.
Поэтому полномочия в Церкви – в соответствии со Словом Божьим – есть прежде всего служение (ср. Лк 22:26–27). Принцип соборности в Церкви, по своей сути, является существенной коррективой и защитой по отношению к требованиям и стремлениям любого абсолютизма, то есть утверждением власти в обособленности.
Этот основной принцип находит и литургическое подтверждение в чине молитвы в таинстве священства, поскольку оно есть не только иерархическое построение, но и включает в себя молитвенное участие церковного народа, подтверждающего через аксиос иерархический акт.
6. Провозглашение церковного учения.
В свете церковной соборности необходимо понимать и учение, принадлежащее иерархии в силу ее особой церковной ответственности, которое также связано с таинством и богослужением. Высшая иерархия должна прежде всего ответственно провозглашать церковное учение, которое как таковое принимается Церковью, так же как и сохранять уже существующее учение.
Однако это служение не должно пониматься как односторонний акт иерархической власти (ex sese, non autem ex consensu ecclesiae) по составлению догматических определений.
Такой внешний орган церковной непогрешимости, обладающий церковной властью и говорящий от имени Церкви, не существует в церковной соборности. Основание этому можно найти во всем известном факте церковной истории: даже высшие церковные иерархи не были свободны от догматических ошибок и подпадали под церковное осуждение. Такой видимый орган церковной непогрешимости не есть ни собор, ни местный синод, ни «Вселенский собор» (понимаемый внешне). Лишь те соборы получают достоинство Вселенских соборов, которые признаны как голос Церкви и авторизованы ею; и они отвергаются Церковью, когда не соответствуют этому голосу, даже если они обнаруживают внешние признаки вселенства.
Дух дышит, где хочет (Ин 3:8), и дар непогрешимости дан всей Церкви, без разделения на две определенные и взаимоисключающие друг друга части: «учащую» Церковь и «слушающую» Церковь.
«Эта иерархическая общность всех епископов с папой глубоко укоренена в предании» (Nota praevia Nr. 4 к LG).
Католики также верят, что эта непогрешимость дана всей Церкви, и только ей (ex sese, non autem… часто интерпретируется неправильно).
Однако I Ватиканский собор определил: в исключительных случаях епископ Рима, осуществляя связь со всей Церковью и как ее «уста», может делать необходимые для того или иного времени непогрешимые высказывани в вопросах догматики и морали, если он говорит об этом ex Gathedra в связи с ситуацией, возникшей из-за новых ересей, для которой необходим позитивный ответ.
Эти формулировки I Ватиканского собора, которые легко могут быть неверно поняты и, к сожалению, очень часто толкуются «папистски», были скорректированы и дополнены положениями II Ватиканского собора, которые гораздо сильнее подчеркивают роль коллегии епископов под председательством Римского епископа. Однако он не принимает решений самостоятельно и независимо от них или тем более вопреки им.
7. Иерархия и таинства.
Иерархия на всех ступенях (в зависимости от компетентности) обладает властью совершать таинства в соответствии с божественным порядком. Поэтому в совершении таинств – исторически и мистически – заключается основание иерархической власти. Однако иерархическая власть совершения таинств дана только в единстве со всем телом Церкви, в соответствии с принципом церковной соборности.
Догматически и литургически все таинства – прежде всего святая Евхаристия – совершаются при участии церковного народа (также, например, через представляющий его хор). Тем самым принцип соборности вносит коррективы и более глубокое понимание в основной принцип ex opere operato, подчеркивающий объективность таинства в отличие от его субъективного усвоения ex opere operantis.
Эти общие мысли о соборной природе таинств, совершающихся непосредственно через орган иерархии, необходимо применять в учении об отдельных таинствах и священнодействиях.
8. Каноническая власть в Церкви.
Каноническая власть в Церкви не имеет самостоятельного происхождения, но она связана с сакраментальной властью и проявляется как выводимый из нее принцип.
Сакраментально данное изначальное единство есть епископская по своему устроению местная церковь, имеющая в епископе свой автокефальный центр. В этом смысле (вся) Церковь канонически и существенно есть собрание местных церквей. Они сакраментально связаны друг с другом епископским рукоположением, осуществляемым в отдельных поместных церквах при участии других епископов. Тем самым самостоятельные епархии сакраментально и канонически включаются в церковную соборность.
На этом основании возникает и исторически развивается канонический институт Церкви как совокупность ряда объединений более или менее широких канонических единиц (в соответствии с государственными, национальными, культурными признаками и т. д.).
Здесь находит свое применение принцип исторической относительности и целесообразности церковной «ойкономии». Однако и в этом случае высшим и руководящим принципом должна быть церковная соборность. Она должна применяться как общий критерий и определять, способствует и соответствует ли та или иная мера единению в любви, или же она разрушает его.
Однако принципу соборности может противостоять церковный провинциализм (филетизм, этатизм), а также псевдо-экуменические притязания церковного империализма любого вида.
Отдельные Церкви (ecclesiae particulares), в которых и из которых состоит одна и единственная Католическая церковь, прежде всего суть епархии.
Епархия – это часть народа Божьего, вверенная пасторству епископа совместно с пресвитерами. Если она предана своему пастырю, который собирает ее через Евангелие и Евхаристию во Святом Духе, она образует отдельную церковь, в которой действительно присутствует и действует (vere inest et operatur) единая, святая, кафолическая и апостольская Церковь.
9. Традиция в Церкви.
Соборность, как органическая жизнь Церкви, предполагает свое осуществление в виде самореализуемой жизни.
Наряду с обязательными постановлениями, выражающимися в догматических, литургических и канонических определениях высшей церковной власти, существует еще одна область в жизни Церкви, для которой не существует подобных определений – именно здесь в Церкви фактически присутствует традиция.
Другими словами: наряду с четко выраженным учением Церкви жива неявно воспринятая традиция, которая постоянно обнаруживается во всей своей силе в случае ее нарушения. И эта традиция есть нечто живое и постоянно находящееся в процессе становления – не только факт, но творческий акт.
Невозможно исчерпать все содержание этой традиции, существующей в Церкви и просветленной разумом Христа и вдохновением Святого Духа. Поэтому в определенные периоды времени Церковь могла обходиться и без соборов, и без четких вероучительных определений, поскольку сами соборы есть лишь внешнее развитие самореализующейся жизни соборности, которое может быть очень разнообразным.
Одним из таких осуществлений православной соборности (причем очень значительным) является нынешняя богословская конференция (Афины, 1936).
10. Ecclesia extra ecclesiam.
Как видимое сообщество, Церковь имеет четкие границы. Она – безусловно, конфессиональная организация, и те, кто не принадлежат к ней, рассматриваются как внешние (и, как следствие, лишенные спасения, поскольку extra ecclesiam nulla salus).
Однако такое определение неприменимо к Церкви как к Телу Христову и к воспринятой Им полноте человечества, прежде всего ко всему церковному миру. Это выражается в том, что Церковь – хотя и в различном объеме – признает действительность церковных таинств, совершенных вне православия.
Поэтому принцип extra ecclesiam nulla salus применяется в том смысле, что признается существование ecclesia extra ecclesiam (хотя и не во всей полноте).
Тем самым создана основа нынешнего экуменического движения, которое стремится к тому, чтобы познать и реализовать это действительное единство церковного бытия и привести недостающее к полноте.
11. Церковь в мировой истории.
Церковь, как основа существования мира, действует в истории как его таинственный центр. История человечества, с которой соединены и судьбы естественного мира, есть апокалипсис, в котором развертывается борьба темных сил против Христа.
Церкви в истории принадлежит ведущая роль, хотя может показаться, что в настоящее время она ее потеряла. Тем самым определяется и ведущая роль Церкви во всех областях жизни: социальной, культурной и государственной сферах.
Церковь не связана с каким-либо классом или только с какой-либо общественной формой, но она твердо придерживается принципа первенства духовного начала и выступает как совесть, судящая жизнь, «невзирая на лица». Таким образом, Церковь ведет мир к осуществлению царства Божьего, от царства благодати к царству славы, в рамках истории и за ее границы.
12. Богородица и Церковь.
Церковь, освящающая и освящаемая Духом Божьим, есть важнейшая носительница святости мира. Святость – это сила и реальность Церкви, в ней видимо выражается истинное обожествление человека, восприятие божественных элементов в естественной жизни.
Поэтому ее природе соответствует тот факт, что центр Церкви, и в этом смысле одновременно ее персонификация, есть Пресвятая, Пречистая Богородица и Дева Мария, которая принадлежит к нашему миру и человечеству, но одновременно, в своем Успении, которое для Нее силой Ее божественного Сына есть воскресение и вознесение, уже полностью принадлежит прославленному человечеству Христа.
Здесь источник того положения высочайшего величия, которое Богородица занимает в кругу святых.
Соборный декрет о тайне Церкви заканчивается главой «Преблагословенная Богородица Дева Мария в тайне Христа и Церкви».
«Богородица – образ Церкви, как учил уже св. Амвросий, а именно в отношении веры, любви и совершенного единения со Христом. Ибо в тайне Церкви, которая по праву называется также Матерью и Девой, первой является Преблагословенная Дева Мария, давая возвышеннейший и исключительнейший пример и Девы, и Матери» (LG Nr.63).
«В то время как Церковь в лице Преблагословенной Девы уже достигла совершенства, не имеющего пятна или порока (Еф 5:27), верные во Христе еще стремятся, подвизаясь против греха, возрастать в святости. Мария, глубоко вошедшая в историю спасения, объединяет в Себе и излучает в некоем смысле величайшие тайны веры» (LG Nr.65).
«…Там свобода»: проблема Божественной свободы и необходимости любви у К. Барта И С. Булгакова
Б. Галлахер
Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода.
(2 Кор 3:17)
Бог свободен в Своей любви, и Его любовь есть Распятый. Иисус Христос это любовь Бога Отца, который прежде основания мира рождает Сына Своего, дабы Он был заколаем как Пасхальный Агнец, и жертвоприношение этого Агнца любовью предается огню через исхождение Всесвятого Духа от Отца, которое неизменно покоится на превечной жертве Сына. Бог не равнозначен Абсолюту в его трансцендентности, как если бы свобода была просто отсутствием границ, простым отрицанием всякой сотворенной категории или вещи. Он, таким образом, не Единое (), или Благо (), Плотина, абсолютно простое, самодостаточное, находящееся за пределами бытия и даже за пределами категории «единства»[51]. Свобода для Святой Троицы – это ее собственная совершенно активная и всецело позитивная полнота жизни, берущая начало в абсолютной самоотдаче внутриипостасных отношений и завершающаяся полным осуществлением каждой из ипостасей. И образ этой свободы – вольное и венчающееся воскресением страдание Творца и Искупителя в Великую Пятницу, Его видоизменение в пригвождении к кресту, в котором всему творению дается спасительный дар оставления Отцом
Своего Единородного Сына, нашего Господа Иисуса Христа, когда попраны начала и силы Зла, а мы становимся наследниками Божьей вечной жизни и причастниками Его божественной природы.
Таково Евангелие нашего Господа Иисуса Христа, и мы знаем, что это благовестие свободы Божьей любви – той свободы, которой Он свободен для Своего творения. Но если Бог свободен ради нас, можем ли мы тогда говорить о Его свободе отдельно от творения? Свободен ли Он для Самого Себя отдельно от Его вечного решения в Иисусе Христе быть единым со Своим Творением в Нем?
Когда Писание именует Иисуса Христа как «предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас» заколаемого Агнца, непорочного и чистого (1 Пет 1:20)[52], мы понимаем этот отрывок как указание на Его собственное само-предопределение или превечный свободный выбор осуществленной во времени солидарности со Своим творением в Иисусе Христе («Он избрал нас в Нем прежде создания мира» (Еф 1:4)). Но каков точный характер этой свободы? Проще говоря, имел ли Господь свободу выбора между ролью «Агнца, закланного от создания мира» (Откр 13:8), и простым отказом от самоистощения, от принятия образа раба, который «смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной» (Фил 2:8)? Более того, если творение, по знаменитому изречению Кальвина, – это «Theatrum gloriae Dei» (театр славы Божьей)[53], сцена, на которой разыгрывается божественная драма Божьего Самопрославления на кресте и попрания смертью смерти через Его воскресение, тогда может показаться, что творение следует Божьему превечному свободному выбору во времени, так как Христос является Богом для нас. Так свободно или по необходимости Бог сотворил и искупил мир, будучи Богом любви? Или же следует считать сам вопрос некорректным, если свободу определяют как то, что противоположно необходимости, по отношению к Богу?
Два богослова, которых обычно не сравнивают, Сергий Булгаков и Карл Барт, помогут нам в обсуждении вопроса о божественной свободе по отношению к Богу, который по необходимости любит. Возможность такого сравнения впервые была осознана мною благодаря случайно оброненному замечанию Роуэна Уильямса[54]. Замечание Уильямса относится к рассуждению Булгакова в «Агнце Божьем», что Бог – Абсолютно-относительная, самораскрывающаяся тайна, и Он нуждается в мире для выражения безграничности Своей любви, и, следовательно, Бог как Абсолют, ставящий Себя в положение существования ради другого – мира, – не может быть понят вне Его обращения к этому миру через любовь[55]. Здесь, – говорит Уильямс, – Булгаков близок не только к Гегелю, но, что еще более интересно, к Барту, который утверждает, что Бог выбирает в Иисусе Христе не быть Богом вне мира, который Он творит и искупает[56]. Однако, как мы увидим далее, Барт и Булгаков расходятся в этом вопросе, и одна из причин этого, среди многого другого, – очень различное понимание свободы.
Что может дать такое сравнение? Маловероятно, что между этими двумя мыслителями были какие-либо отношения (в отличие от Барта и Флоровского[57], которые были знакомы как благодаря своим экуменическим контактам, так и через своего общего друга, востоковеда Фрица Либа[58]). Барт, скорее всего, не был знаком с сочинением Булгакова, но мы не можем точно сказать, ограничивалось ли знакомство Булгакова с Бартом «Бартианизмом» – слабой карикатурой на диалектическое богословское течение в православных кругах того времени[59] – по крайней мере, пока не изучена его переписка с Либом, хранящаяся в библиотеке Базельского университета[60]. Однако сравнение взглядов двух мыслителей имеет два важных для современного систематического богословия аспекта.
Во-первых, для прояснения серьезной богословской проблемы (например, божественной свободы и необходимости любви) полезно сопоставить идеи разных мыслителей, чей интерес к конкретной проблеме совпадает, если в конечном счете их цели не являются совершенно различными. Во-вторых, православное богословие не сможет продвигаться в своем развитии, если откажется от активного взаимодействия (а во многих случаях и ассимиляции ценных элементов) с наиболее заметными и влиятельными направлениями богословской мысли Запада. Вплоть до ХХ в. православное богословие на Западе не вышло из состояния, сформировавшегося как результат двух богословских споров в среде российской эмиграции 30-х годов: связанных с выдвинутыми Булгаковым предложениями о евхаристическом общении (1933) и с разногласиями вокруг софиологии (1935)[61]. Два этих богословских спора нанесли удар по репутации Булгакова как в православном, так и в неправославном мире. По первому вопросу в качестве его главного оппонента от православного богословия выступил Г. Флоровский, а по второму самыми известными богословскими оппонентами были митрополит Антоний Храповицкий, Вл. Лосский и Флоровский. Все эти мыслители, в особенности два последних, решительно призывали отвергнуть «русскую школу» богословия[62], главным представителем которой выступал Булгаков, а также изучать, толковать и излагать Греческих отцов как богословие per se и образец для современного православного богословия. Это главенствующее направление православного богословия на Западе, конечно, относят не к собственно русскому богословскому наследию, но к византийскому православному миру в целом. Так, для сегодняшнего представления о значении греческой патристики типичны взгляды митрополита Пергамского Иоанна Зизиуласа, в прошлом – студента Г. Флоровского в Принстонском университете, а сегодня, вероятно, самого известного на Западе православного богослова. Согласно этим взглядам, греческая патристика не только идентична понятию «православное богословие», но и равнозначна кафолической вере как таковой. Зизиулас называет сою известную книгу «Бытие как общение» (Being as Communion) «обращением к читателю, ищущему в православном богословии веру Греческих Отцов <…>; она призывает и приглашает современное богословие работать на объединение двух богословских традиций, Восточной и Западной; <…> это исследование ставит своей целью внести вклад в «неопатристический синтез», способный приблизить Запад и Восток к их общим корням в контексте экзистенциального поиска современного человека»[63].
Булгаков, в отличие от своих младших современников, работая над двумя систематическими трилогиями и многочисленными статьями, черпал из огромного количества самых разнообразных источников (мистицизм, философия, литература и т. д.), многие из которых – западного происхождения. Из них греческая патристическая литература – чрезвычайно важный, но, конечно, не единственный основополагающий источник. Он был убежден, что патристический корпус, авторитетный в широчайшем смысле и свидетель Церкви, как таковой, следует подвергнуть сравнительной критике, не считая его непогрешимым. Ведь знакомясь с патристической литературой, приходится признать, что в ней часто выражены противоречивые мнения и невозможно найти ответы на многие современные вопросы. Более того, патристические сочинения не следует рассматривать как закрытый канон, потому что каждый исторический период черпал из одного и того же источника вдохновения – продолжающейся жизни Духа Святого в
Церкви[64]. Здесь я хотел бы высказаться в пользу критического изучения современным православным богословием не только патристических источников, но и новых отцов церкви, подобных Барту. В этом я следую Булгакову, имея в виду синтетическое объединение Восточного и Западного богословия, в котором Зизиулас усматривает одну из основных задач современного богословия. Моя статья – это попытка связать диалогом Барта, этого выдающегося западного христианского богослова ХХ столетия, а также опирающееся на него протестантское и католическое богословие, с православным богословием, в первую очередь с Булгаковым, вероятно, самым замечательным православным богословом ХХ века.
Центром систематического богословия Барта является его новый подход к учению о примирении, а для этого нового подхода центральной становится его атака на так называемое extra Calvinisticum[66]. Таков был уничижительный термин, которым пользовались лютеране в своей критике учения Кальвина о том, что в Своем воплощении Logos asarkos (Слово бесплотное) или extra carnem (вне тела), несмотря на Свой статус Слова воплощенного (Logos ensarkos), не ограничивалось Его (Христа) Телом, но наполняло вселенную[67]. Другими словами, Логос был одновременно ограничен плотью как Иисус из Назарета и не ограничен плотью как наполняющий все вещи. Лютеране, напротив, придерживались так называемого intra Luthera-num (от выражения totus intra carnem et numquam extra carnem – «весь внутри тела и нисколько не за пределами тела») – учения, утверждающего в противовес кальвинистской позиции, которая допускала (как они считали) несторианское расщепление на божественную и человеческую природы, что если Христос мог заполнять небеса, то, предполагая некий вариант communicatio idiomatum (общения свойств), это не могло происходить помимо человеческой природы, которую Он взял на Себя как Логос вместе со Своей божественной природой. Таким образом, если нераздельность ипостасей истинна, то Слово никогда не могло быть отделенным от плоти, которую Христос взял на Себя, и свойства одной природы (например, всемогущество) сообщались бы другой[68]. Барт счел кальвинистское учение «неудовлетворительным» в том, что оно допустило возникновение «фатальной спекуляции» относительно logos asarkos («пытаясь принять во внимание этого «другого» бога»), отдельно от того, в ком Бог раскрыл Себя – Иисуса Христа, Слова, ставшего плотью[69]. Иными словами, Барт утверждает, что невозможно знать Бога вне (extra carnem) Его Самооткровения в Иисусе Христе. Далее, по Барту, божественное действие предваряет сущность, так что Божье существо не изменяется по причине принятия Им плоти, но, напротив, Его превечный выбор и акт вочеловечения во времени составляет Его существо как Бога, поскольку «именно как Тот Кто Он есть, Он действует»[70]. Однако критика Бартом Кальвина, в действительности, сосредоточена вокруг новой интерпретации предопределения как конечного акта Бога в качестве Существа, которое любит.
Традиционно, следуя определенным тенденциям, которые можно проследить уже у Кальвина[71], учение о предопределении Богом одних к спасению, а других к погибели[72] было на практике интерпретировано в кальвинизме как предшествующее тому факту, что выбор осуществляется во Христе и Христом[73]. Иными словами, Бог вначале предопределяет людей к спасению или погибели и только затем последовательно решает, что это спасение произойдет в распятом Сыне Божьем: «Об избранных говорится, что они принадлежали Отцу до того, как Он дал им Своего единородного Сына»[74]. В противоположность этому Барт утверждал, что мы должны говорить, что все содержание божественного предопределения сводится к избранию Иисуса Христа, который как истинный Бог является избирающим, совместно с Отцом и Духом, Себя как истинного человека, избираемого, который есть Божья явленная благодать для нас как человек, всецело послушный Богу даже до смерти на кресте, призывающий нас веровать в Него и открывающий нам, что мы сыны Бога, нашего Отца[75]. В избрании Иисусом Христом принятия на Себя ради Себя грешного человека мы понимаем, что на Божьем превечном совете Сам Бог в Своем Сыне отвержен Собою вместо человека, так чтобы человек не был отвергнут: «Предопределение означает, что от самой вечности Бог предопределил оправдание человека ценою Себя Самого. Это значит, Бог предрешил, что на месте оправдываемого Он Сам будет умирать и оставленным, и отверженным – Агнец, закланный от основания мира»[76].
Но этот акт Бога – определение Себя через Свой завет с человеком во Христе, через предопределение Христом Себя как Бога для нас как одного из нас, – явно должен иметь радикальные последствия.
Если Иисус Христос как Бог избирает Себя от вечности, но во времени, стать виновным в восстании против Себя, в которое был вовлечен человек[77], то есть Бог желает прежде всех времен стать во времени Иисусом из Назарета, Богом для нас, то Бог Сам в Себе тогда определяется от вечности как Отец Иисуса Христа, а Дух Святой есть Дух Отца и Дух Иисуса Христа[78].
Нельзя отступить назад от этого вечного Божьего выбора открыть Себя в Иисусе Христе к некоему безликому Logos asarkos[79]: «В этом первичном решении Бог не избирает только Себя Одного. В этом выборе Себя Он избирает также другого, того другого, который есть человек»[80]. Однако если Божья воля о Себе неразрывно связана с Его выбором человека в Иисусе Христе, то, похоже, это потребует творения, которое будет существовать как театр Божьей славы[81]. В действительности Барт утверждает, что творение содержится в воле Бога – «внешнее основание Завета», – каковой завет с человеком во Христе, как мы только что видели, является определяющим для Божьего бытия, но более важно в божественном постановлении, что «Завет – внутреннее основание творения»[82]. Поскольку Иисус Христос, Слово, ставшее плотью, существует в превечном совете Бога, необходимо, чтобы Бог был Творцом[83]. Творение – в Иисусе Христе как избирающем и избранном – тогда будет иметь необходимое отношение к воле и бытию Бога. Таким образом, очевидно, что все богословские учения, включая, по всей видимости, и учение о Боге, принимают форму учения о нашем искуплении в Иисусе Христе. Однако выводы становятся куда более запутанными, как только Барт берется за подробную разработку трудного вопроса о божественной свободе, любви и необходимости.
Проблема интерпретации Барта по этому вопросу заключается в том, что он настаивает, с одной стороны, на необходимости отношения Бога к Иисусу Христу и, соответственно, к миру – так как Христос нераздельно истинный Бог и истинный человек – как в Его воле, так и в Его бытии, а с другой стороны, противореча самому себе, он настаивает на необязательности (случайности) отношения Бога к миру, как в Его воле, так и в Его бытии. Что касается Божьей воли, Барт воспринимает проводимое Фомой Аквинатом различение[84] между Божьей волей, направленной на Себя Самого как Бога, и Его волей, направленной на отличное от Него Самого – творение. В желании Себя как Бога и любви к Себе как к Богу, Божья воля – это Его природа, точно так же как человеческая воля, по утверждению Аквината, в своем желании имеет естественную тенденцию к счастью[85].
Божья свобода или от-Себя-бытие (aseity – отрицание зависимости от производящей причины. – Прим. перев.) по отношению к Себе состоит в Его свободе, не определяемой ничем, кроме Него как Бога, и она проявлена в рождении Отцом Сына, и от нее же Он изводит вместе с Сыном Духа Их любви. Он не может не желать («волить») Себя как Отца, Сына и Святого Духа, ибо тогда Он перестал бы быть Богом. Рождение Богом Себя, – утверждает Барт вслед за Иоанном Дамаскином, – это e (хотя здесь воля – – и природа – – одно и то же), по контрасту с творением, которое является просто e ’[86]. Божье желание творения в качестве работы воли как таковой – это Его творение из ничего, в каковом акте Он, соответственно, не перестает быть Богом, вне зависимости от того, желает Он творения или нет[87]. Таким образом, первое проявление воли – это необходимый акт природы, без которого Бог не может быть Богом (т. е. Он не свободен не желать Себя Самого), в то время как второе – это акт воли, которую Бог волен проявить или нет (т. е. Он свободен пожелать творение или нет).
Барт имеет дело с различными пониманиями необходимости и свободы. С одной стороны, необходимость относится к природе, которая «сама в себе» не может быть иной, разве что она перестала бы быть собой и стала бы другой природой. Отсюда следует, что для Бога необходимо быть Богом, и Он является таковым через рождение Своего Единородного Сына. Это можно назвать «непреложной необходимостью». С другой стороны, необходимость относится к принуждению, которое прилагается к предмету либо как движущая и механическая причина (толчок), либо как конечная причина, подразумевающая, что цели нельзя достичь без данного предмета. Это можно назвать «принудительной необходимостью»[88]. Аквинат и Барт утверждают, что божественное рождение Богом Сына может быть описано как непреложная необходимость, но, конечно, не как принудительная необходимость. Совершенно вне зависимости от того, считаем ли мы само понятие «непреложной необходимости» своего рода богословской игрой слов с целью сохранить внешние знаки различия между Творцом и сотворенным[89], стоит рассмотреть вопрос, не находится ли Бог (и поистине также творение) под принудительной необходимостью, поскольку избрание Иисусом Христом Себя вместо человека принуждает всю реальность соответствовать необходимому искуплению. Если это не представляется принудительным, то не можем ли мы утверждать, что, поскольку воля Иисуса Христа едина с волей Бога как Троицы, избрание Иисусом Христом Себя ради нашего спасения есть непреложная необходимость для Бога, поскольку без этого Он перестал бы быть «Отцом Иисуса Христа»?[90]
В богословии Барта также задействованы два понимания свободы. Он пользуется понятием свободы, которое «негативно», поскольку божественная свобода понимается как полное отсутствие каких бы то ни было ограничений, кроме, конечно, накладываемых божественной природой как таковой. При таком негативном понимании свободы можно сказать, что Бог свободен творить мир, поскольку над Ним не властны никакие ограничения или необходимость творить его. Однако и наоборот, исходя из этого негативного понимания свободы, Бог не свободен перестать быть Собой как Богом (т. е. здесь Он подчинен необходимости), так как Его природа вынуждает Его рождать Своего Сына и т. д. Но Барт также ставил перед собой задачу выразить отношение творения к Божьему существу любящего, и в этом контексте он пользуется, еще больше запутывая проблему, не только «негативным», но и «позитивным» пониманием, как мы в скором времени убедимся. В целом, богословие Барта в контексте его рассуждения о божественной воле и творении находится в прямом противоречии с его же более поздним подведением всего богословия под главенство учения об искуплении. Ибо как нам согласовать тот факт, что воля Бога, направленная на Себя Самого, отличается от Его воли, направленной на творение, с более поздним утверждением, что избрание Богом Себя для воплощения есть акт Иисуса Христа, тождественный («не существует воли Божьей отдельно от воли Иисуса Христа»)[91] божественной воле, действующей во внутритроичном бытии?
Разрабатывая проблему Божественной сущности, Барт предлагает «позитивное» определение свободы. Божья способность любить необходима, так как в этом состоит Его Сущность – быть Тем, кто любит[92]. Мы приняты в Божью вечную любовь к Нему Самому. Иначе говоря, Бог не нуждается в творении как объекте, отдельном от Него Самого, для того, чтобы любить Себя Самого, потому что Он самодостаточен для Себя как объект любви. Бог решил по чистой благодати считать нас любимыми, потому что точно так же Он мог бы считать нас нелюбимыми. Когда мы говорим, что Божья способность любить необходима, мы имеем в виду, что Его Сущность заключена в Нем Самом, а поскольку Его Сущность – это акт любви к Себе Самому, мы говорим, что Он свободен в Себе Самом, не будучи ограниченным ни тем, что Он творит (трансцендентность), ни Своим самораскрытием в любви, как если бы Он был ограничен. «Он может, а также и хочет быть ограниченным»[93] – как Бог с нами, Иисус Христос (имманентность).
Однако Барт не хочет, чтобы Бог был заключен в ловушку в Себе Самом, лишенный возможности принять плоть как Иисус Христос, – Бог должен быть «свободен также по отношению к Своей свободе»[94], поэтому Барт доказывает, что Бог есть любовь, заключающая подлинную инаковость в Себе Самом[95], свободу внутри Троицы дифференцировать Себя от Себя[96], и что эта Его свобода заключается в сущности Бога любви. Однако он также хочет избежать превращения Бога в статический идеал любви, который не может не любить, так что Бог оказывался бы скованным Своей собственной любящей природой и превращался бы в «мировой принцип»[97]. Так он связывает понятия свободы и любви воедино в Божьей реально явленной жизи, доказывая, что Бог в жизни, в Своем бытии в качестве свободного существа, любит Себя («Но Бог любит, и в этом действии живет»)[98]. Но как Бог живет, будучи любовью? Барт вновь повторяет, что мы не можем «отставать от Бога – отставать от Бога в Его откровении нам – пытаясь вопрошать и определять, что есть Он», и потому должны повторять, что воистину Бог любит Себя и мир свободно от вечности в Иисусе Христе[99].
Но не вернулись ли мы к исходному пункту, оставшись с той же самой проблемой: Барт хочет сказать, что Бог не нуждается в творении, поскольку Он свободен (как в негативном, так и в позитивном смысле), но одновременно его представление о Божьей свободе как свободной вечной любви к творению во Христе видимо противоречит этой аргументации? По Барту, творение, а с творением и Иисус Христос как истинный Бог и истинный Человек (поскольку одно не может разделиться надвое, следуя собственной критике Бартом extra Calvinisticum), а Он от вечности избирает Сам Себя, чтобы вступить в борьбу за нас и ради нашего спасения, – так вот, творение, так сказать, не имеет никакой необходимости, никакого онтологического основания в жизни Божьей, кроме того, что Иисус Христос есть совершенное выражение свободной любви, которая является Божественной жизнью. Именно в этой христологической точке напряжения рушатся проводимые Бартом различения между Божьей свободой и необходимостью по отношению к творению. Яснее всего это заметно по его утверждению божественной необходимости творения, прежде им отрицавшейся, – необходимости, происходящей из самой природы Божьей любви к нам в Иисусе Христе. Он заявляет, что Иисус Христос предстоит на «Божьем превечном совете в свободе Своей любви», откуда следует, что «несомненно, не было никакой иной необходимости, кроме Его собственной свободной любви»[100]. Бог просто обязан быть Творцом мира, если Ему предстоит вечно любить это творение в Иисусе Христе: «Если под Сыном и Словом Божьим мы понимаем конкретно Иисуса – Христа, – соответственно, истинного Бога и истинного Человека, как Он предстоял на совете Божьем от вечности и прежде творения, то мы можем ясно осознать, что Богу не только подобало и было достойно, но и с необходимостью следовало быть Творцом»[101]. Но это, по всей видимости, противоречит более раннему заявлению Барта, что Бог не нуждается в другом, отличном от Себя, чтобы любить Себя.
Поль Д. Мольнар в большом исследовании, вдохновленном Бартом и защищающем необходимость божественной свободы и имманентную Троицу против разных современных богословов, не проясняет этот спорный вопрос, но, кажется, считает его решенным, когда заявляет, что без имманентной Троицы Бог не может быть свободен в выборе: быть Ему или не быть нашим благодатным Искупителем[102]. Но этим, конечно, не объясняется, почему Барт не сводит воедино разрозненные пункты своего богословия. С одной стороны, он утверждает, что нельзя ссылаться на Logos asarkos, Слово Божье как абстракцию, т. е. – многократно повторяет он – нельзя пытаться узнать Бога помимо Иисуса Христа. Но затем он противоречит самому себе, негативно приписывая подлинность этому Слову, заявляя, что Logos asarkos и Logos ensarkos – не одно и то же: «Второе “Лицо” Божества в Себе и как таковое не есть Бог Примиритель. В Себе и как таковой Он не Deus pro nobis, ни онтологически, ни эпистемологически»[103].
В чем причина непоследовательности бартовской мысли? Скорее всего, он не смог прийти к такому пониманию божественной свободы, которое свело бы воедино негативные и позитивные определения свободы, не погружаясь при этом в «фатальную спекуляцию» о сущности и действии Logos asarkos по отношению к Иисусу Христу как Избирающему и Избранному[104]. Это приводит его к метафизической спекуляции, почти барочной в своей избыточности. Теперь мы обратимся к Булгакову.
Булгаков, и в этом его сходство с Бартом, утверждает, что нельзя понять Бога вне Его отношения к миру, вне Его деятельности, в которой Он встречается со Своим собственным творением. Однако, в полную противоположность Барту, как я попытаюсь показать, а в конечном счете и противореча самому себе, он начинает аргументацию не с избрания Христом Себя для нас, но с природы Абсолюта Самого в Себе[105]. Для Булгакова Бог – Абсолют. И вслед за отцами церкви он говорит о Боге как об Отце. Но Абсолют никогда не заключен всецело в Себе, но всегда обращен к другому, и этот другой – мир. В дальнейшем, излагая мысли Булгакова, я сосредоточусь на его понимании Бога как Абсолюта, ибо те проблемы, которые, с точки зрения Барта, возможно помыслить только изнутри исторического события распятия Христова, для Булгакова, напротив, укоренены прежде всего (прежде истории) в Абсолюте. Именно по этой причине я попытаюсь показать, что богословие творения и искупления у Булгакова представляются чем-то вроде дополнения его софиологии.
Булгаков утверждает, что Бог всецело в Себе, как абсолютная абсолютность, отстраненный от каких бы то ни было отношений, сокрытый Бог в Своем ледяном храме, Бог, которому поклонялись Плотин и неоплатоники, просто не существует: «Бог существует практически лишь как энергия, Бог же в Себе, Deus absconditus, просто “не существует”, Он есть тьма Абсолютного, к которому неприменимо даже и бытие»[106]. Такое божество, скованное Своей собственной трансцендентностью, – это Бог Кальвина и ислама, – полагает Булгаков[107]. Булгакову легко сделать их мишенью, однако такого монстра можно найти (и Булгаков признает это в «Свете невечернем») даже в отдельных фрагментах Псевдо-Дионисия Ареопагита[108]. Для Псевдо-Дионисия Бог, который именуется «Троица» и «Единица», не может даже содержаться в этих именованиях. «Мы используем имена Троица и Единица для Того, кто, на самом деле, за пределами всякого имени, называя это трансцендентной сущностью над всякой сущностью [ , ]»[109]. Поистине, Бог настолько превыше всех вещей, существующих в рамках противопоставления «наличие-отсутствие», что «мы даже не можем назвать это именем добра»[110], а добро в платоновском смысле – это то, что истинно есть, как говорит нам Дионисий: «Имя, которое наиболее почитаемо»[111]. Таким образом, Бог должен быть обнажен от Своих имен, поскольку ни одно имя не соответствует Его сокрытой сущности. Этот путь освобождения себя от Бога с целью обрести Бога в единении пролегает даже за пределами оппозиции утверждения и отрицания[112]. Тогда Бог как Абсолют для Псевдо-Дионисия, – заключает Булгаков, – есть абсолютное НИЧТО[113]:
«Мы делаем утверждения и отрицания [ ]того, что находится рядом с ним, но никогда не его, потому что оно за пределами всякого утверждения, будучи совершенной и единственной причиной всех вещей [ ], и, будучи, благодаря своей все превосходящей простой и абсолютной природе, свободным от всякого ограничения, за пределами всякого ограничения, оно также за пределами всякого отрицания [ ]»[114].
Такой Бог Отец, – говорит Булгаков, – это «дурной метафизический кошмар, от которого тварь ищет сокрыться в своей имманентности», чтобы не быть замооженной этим «ледяным Абсолютным»[115]. Творение прячется в тепле и изобилии своего собственного мира, не признавая Абсолютное апофатиков, и в своем непризнании Абсолютного (агностицизме) оно уходит в практический атеизм с вытекающим отсюда апофеозом космоса (миро-божием)[116]. Абсолютное просто совершает метафизическое самоубийство, не имея границ, которыми можно было бы его определить:
«Однако не только религиозно, но и философски эта идея трансцендентного Бога разлагается в противоречиях. Как чистая Трансцендентность, она доступна лишь апофатике, которая говорит о ней свое всяческое не, абсолютное НЕ. Но ведь это абсолютное не немо и пусто, его просто нет, ибо оно резонирует, лишь отражаясь от некоего да.