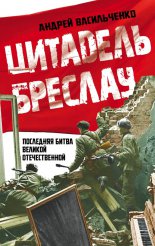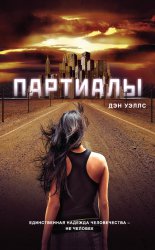Разведотряд Тамоников Александр

Октябрь 1939 г. Ровно
– Где ты так по-немецки насобачился? – спросил у Войткевича новый, но, похоже, перспективный его ровенский товарищ Йося Остатнигрош, когда геррен оффициерен в штатском, в сопровождении двух товарищей офицеров, тоже в штатском, но с густопсовым чекистским духом, укатили за ворота пищекомбината.
– Внечувственно превзошёл, – каким-то извивистым книжным оборотом ответил Яша и хмыкнул: – А ты своего польского, понимаю так, от соседей набрался?
Новоназначенный – всего пятый день как – «красный директор» Яша Войткевич и его зав. производством, местный как минимум в пятом поколении, плотный, как сбитый, смуглый и чрезвычайно волосатый Иосиф Остатнигрош прошли по хоздвору комбината. Яков, прежде чем подняться на второй этаж, в контору, потрепал по загривку страхолюдного цепного пса Гавлица, который по ночам в одиночку успешно заменял полдюжины сторожей и подпускал к себе прежде только двух штатных кормильцев, – а вот теперь, с первой минуты знакомства, ещё и Войткевича.
По дороге Йося, подвижный, чуть ли не вопреки своей инвалидности и комплекции, жестами и мимикой изобразил нечто чрезвычайное и отвратительное, а словами усугубил:
– Я их, пшеков, терпеть ненавижу.
А затем, видимо, от полноты чувств, перешёл на идиш и вкратце описал, как с этими пшеками трудно было не только порядочному еврею, но и местным полищукам, не только сельским кугутам, но и вполне приличным горожанам, которых пшеки, даже прислуживая им, всё равно, кроме как за «быдло», и не считали.
– Но языка всё-таки ты набрался, – вставил Яша. – И говори, кстати, по-русски. Идиш понимаю, но не люблю. Да и с людьми как-то неудобно…
Украинский, даже в местном, ровенском варианте, Яков Войткевич тоже понимал, разве что за исключением немногих диалектизмов и полонизмов, и не только в силу замечательной способности к языкам: в родной его Одессе, на самом деле, украинский звучал чаще, чем идиш и не намного реже, чем русский. Понимал, но пока что не разговаривал и не особо свою понятливость афишировал.
…– А шо с людьми? – удивился Остатнигрош. – Они таки по-русски не очень петрят, здесь это не сильно так водилось. Хотя, когда при Александре и его сыночке – кстати, ты таки расскажи мне, почему его ваши, ну которые теперь наши, называют «кровавым» – здесь войско стояло, так всё панство и жупанство ещё и как расейской щебетало.
– Ты давай о чём-то одном, – порекомендовал Войткевич. – А то у меня от тебя голова кружится, всё с пятого на десятое скачешь.
– Ай, пан директор, вы бы про свою голову не сильно жаловались, я вот пятый день на вас смотрю и всё удивляюсь – или это у вас в Одессе что-то сильно большое сдохло, что такие люди косяками пошли, то ли все Войткевичи от природы такие, что даже промеж наших как на поглядку. И то сказать – даже Гавлиц этот, сукин сын, который пять лет меня знает, а сожрёт, как только дотянется – так он перед вами за просто так на брюхе ползает, а ведь он мандаты читать не обученный.
– Я так понимаю, – усмехнулся Яков, усаживаясь за директорский, в зелёном сукне, стол с рогатым телефонным аппаратом и бронзовой чернильницей в виде щенной борзой. – Остатнигроши пошли от корчмарей, которые клиентов до нитки, до последнего грошика уговаривали.
– Силком же не поили, – расплылся от удовольствия Йося. – А прозвище таки прицепилось. Так прапрадеда и записали, когда реестровые книги вводили. Родовая фамилия была как, не к ночи будь помянутым, у…
– И не поминай, – поспешно и неожиданно резко сказал Яков Осипович (откуда он её знал, Йосе сообщать было совсем ни к чему). – И вообще, давай по делу…
О причинах такой резкости в Ровно могли догадаться, кроме самого Якова ещё всего трое. Один – в обкоме и двое – в ГУ НКВД, те, кто по долгу службы весьма глубоко были посвящены в задание и детали биографии Войткевича, в известном смысле совсем не случайно назначенного «красным директором» в край, где только что была восстановлена историческая справедливость и сбылись вековые чаяния украинского народа на единство нации. Так, во всяком случае, говорили «красные» идеологи, а особое мнение здешних жовтоблакитных ещё только формировалось, точно так же, как только-только начинали собираться первые боевые группы под хоругвь местного вожака с гордым именем Тарас Бульба (на самом деле звали его Василий Боровец).
Всего двое во вновь сформированном Ровенском горуправлении НКВД знали, что родовая фамилия «красного директора» – вовсе не Войткевич и что задачи его в Ровно не ограничиваются руководством пищекомбинатом, владелец которого сбежал на свою историческую родину, в Великопольшу, почему-то полагая, что немецкий оккупационный режим окажется благоприятней, чем советский освободительный.
Под этой взятой Яшкой-шпанёнком у воспитателя-родственника фамилией он и в макаренковскую колонию попал, и срочную служил, и в институте учился, и даже в кандидаты в члены ВКП (б) вступил, хотя там биографии чуть ли не под микроскопом проверяли. Не было это фамилией матери, которая в разгар интервенции, равно как и многочисленных смен власти в Одессе, вдруг решила, что немец-управляющий Иозеф Карлович, который сманил её семь лет назад из правоверно-еврейского родительского гнезда, не лучший отец для Яши и всех, вероятно, последующих в будущем, детей. Не было это и фамилией отцовской. Правда, ничего такого, по большому счёту, предосудительного в смене фамилии, а также в отдалении от своих родителей, по мнению проверяющих, не было. Тем более что мать и новый её муж были всего-то врачами (и как позже выяснилось – хорошими; на отчима, полевого, затем госпитального хирурга, в войну вообще молились стройные батальоны спасённых раненых), а до параноидального гонения на врачей-убийц и безродных космополитов оставалась целая вечность. Ещё лучше обстояли дела с кровным отцом – тот ушёл в РККА на не последнюю должность, служил успешно, не попал, хоть и немец по крови, ни под ежовские, ни под бериевские чистки, и наконец в 1939 году оказался начфином срочно воссоздаваемого Владимир-Волынского укрепрайона…
…Обсуждать директору и зав. производством было что: от мелочей, текущего ремонта в коптильне, который надо произвести в ночную смену, чтобы не сорвать план, до вопросов с сырьём и закупки угля. Йося Остатнигрош по каким-то местным приметам прознал, что грядущая уже скоро зима с 39 на 40-й год будет холодной, а посему надо закупить угля побольше. Войткевич не спорил, спор был только насчёт того, где брать уголь – по старым, «пшепольським» связям у соседей-волынян, или по новым, советским, на Донбассе.
…Но слишком вдаваться в биографические подробности, даже при подаче заявления в самый передовой отряд рабочих и крестьян, Яше Войткевичу не порекомендовали. Специальные товарищи не порекомендовали, те самые, которые приняли в Одессе эстафету знакомства и работы с Войткевичем от особистов армейских, ещё с Забайкалья.
Очень как-то «глянулся» им Яков. И не только знанием немецкого языка, родного – почти до пяти лет Яшенька воспитывался в немецко-еврейской семье, где говорили чаще по-немецки, чем по-русски, но и особым складом личности. Было нечто такое в этом отчаянном, скором на язык и на затрещину парне, картёжнике, гуляке, чрезвычайно физически сильном атлете и снайпере, что привлекло внимание «краснопёрых». Внимание, которое наверняка обернулось бы лагерями или пулей в затылок, будь Яша постарше и в каком-то более солидном звании-положении. А вот для рядового бойца срочной службы РККА, затем – прилежного слушателя командирских курсов, обернулось это внимание кое-чем другим.
Впрочем, начиналось это не в самую расстрельную пору, а в тридцать пятом. Тогда среди особистов воинских частей, расквартированных в зоне близости с Маньчжурией, читай – Японией, хватало настоящих профессионалов, питомцев Берзина, с обострённым чутьём перспективы. И в Одесском ГУ НКВД, куда армейские особисты «передали» перспективного Войткевича, тогда ещё работали-дорабатывали последние годы все как один вскорости расстрелянные, при Ежове, – мастера. И «старики», которым хватило и чутья, и ловкости переживать до того времени все извивы политики и даже не слишком увлечься словом и делом Лёвы Бронштейна, и молодые, выкормыши Артузова, Серебрянского и прочей блестящей чекистской команды.
Войткевича завербовали, но как бы «втёмную». От него не требовали до поры до времени ничего, тем более – «стучать» на своих соучеников или, прости господи, партнёров по футбольной команде. Не особо бдили за «чистотой» его связей и моральным обликом, позволяя гулять и делать всё, что положено делать отвязному студенту-одесситу двадцати с небольшим лет. Чекисты справедливо полагали, что те, кто заинтересуется Войткевичем с «враждебными» целями, непременно постараются разузнать как можно больше о его прошлом; а раз так, то чем «хуже», с коммуно-моральной точки зрения, он себя ведёт, тем лучше для дела. Даже доносы на него, которые с конца 36-го посыпались от бдительно-перепуганных, а то и арестованных уже сограждан, пачками – отправляли в глубокий архив.
Потребовали от Якова только одно – впрочем, даже не столько потребовали, а порекомендовали – подать заявление в эту самую «ум, честь и совесть». С определённым, но самому Войткевичу ещё не названным прицелом.
Беспартийным или хотя бы не комсомольцам поручать серьёзные задания не полагалось.
…Чуть позже производственное совещание пришлось прервать. Точнее, изменить его формат. Пришло время органолептического контроля качества продукции первой смены. Ассортимент был достаточно разнообразным: шесть сортов колбасы, говяжий балык, ветчина, два сорта мягкого сыра, творог и полдюжины видов овощных консервов и компотов. Всё это полагалось попробовать по чуть-чуть, проанализировать, обсудить результаты с технологами и сделать соответствующие записи в цеховых журналах. Запивать полагалось пивом, тоже в порядке дегустации – оба маленьких городских пивзаводика, в отличие от большого Здолбуновского, входили в сферу управления пищекомбината – но Войткевич передоверил эту миссию Йосе. Не складывалось у Яши-одессита с пивом.
…О том, что надо на самом деле совершить для блага Родины и Партии, Войткевич узнал только в Ровно в конце первой недели после весьма неожиданного и престижного назначения. Как-то вечером без предупреждения к нему в только что выделенную квартиру, ещё с чужой мебелью и чужими пруссаками, приехал начальник ОУ НКВД, так и не назвавшийся по имени, и начальник отдела, капитан госбезопасности Алексей Трофимович. С «ужимками и прыжками», с недомолвками и эвфемизмами специальные товарищи ему и объяснили, что молодому коммунисту надо не только и не столько держать глаза и уши открытыми в процессе внедрения социалистических методов хозяйствования в гнилую буржуазно-капиталистическую экономику, сколько зарекомендовать себя человеком свободных взглядов, которому ничто человеческое отнюдь не чуждо. А затем, по мере проявления интереса со стороны вражьей агентуры, которой здесь наверняка полным-полно развелось за время польской оккупации, поддаться на вербовку, проникнуть в разведывательную сеть врага, эту всю братию выявить и с помощью специальных товарищей истребить.
…– Ну что, пойдём в футбол гонять? – спросил наконец Яков.
– Нет, если я скажу: «Не ходите, Яков Осипович, на Замковый луг», – вы так, конечно, решите, это потому, что Йосиной ногой (и Остатнигрош постучал для убедительности по своему скрипучему протезу «з самого Краковья») черти давно уже в футбол гоняют. А я так скажу: не ходите, потому как пану директору без порток бегать не к лицу. Надо благородно играть в преферанс, и я давно хочу познакомить пана с Софочкой.
– Так я не понял, – вроде бы совсем серьёзно поинтересовался Войткевич. – В преферанс или к Софочке?
– Я на вас удивляюсь, Яков Осипович, – со скрипом поднялся с дивана, обитого «чёртовой кожей», Остатнигрош. – Враги преферанса – это шум, скатерть и жена. А в доме тихо, скатерть реквизировали для стола президиума, а Софочка только мечтает про ваши усы на её шейке и будет молча подавать на стол и кофе, и что там ещё положено…
…Первый осторожный вербовочный подход к Войткевичу состоялся именно в тот вечер, прямо за удачно (как, впрочем, почти всегда у Якова) складывающейся пулькой.
Нет, в поддавки против него никто не играл, но, по крайней мере, два мизера из пяти удачно сыгранных им были «ловленными». Во всяком случае, сам Войткевич, если бы так разложилась карта у противника, выстроил бы ему «паровозик» минимум на три взятки.
Йосю, игрока никудышного, на правах хозяина просторной двухкомнатной квартиры – третьей части апартаментов беглого поляка-адвоката на углу Калинина и «17-го сентября» (бывших улиц Рейтарской и Пилсудского), – в партию не взяли: и квартет без него складывался, и пожалели бедного еврея. Игра шла нешуточная и преферансных дел мастера за столом собрались преизрядные, а за вист поставили по гривеннику – для начала, то есть при скромной зарплате Остатнигроша неизбежный его проигрыш вылился бы в болезненную сумму. Софочка, неопределённо далёкая Йосина родственница, но определённо хорошенькая миниатюрная смуглянка, вела себя крайне прилично, чтобы не сказать церемонно, вот только смущённо краснела, встречаясь взглядом с Яковом (которого, кстати, Остатнигрош представил всем, кроме неё). Короче, мужскому разговору – а он, как известно, важнейшая составляющая вечернего преферанса – совершенно не мешала. Ни шума, ни скатерти тоже не было, кофе и микроскопические штрудели Софочкиного приготовления сделали бы честь любой венской кавьярне, и разговоры шли уважительные и весёлые. В том числе и о Вене, и о том, что теперь, в силу новых и, по большому счёту, естественных отношений между Союзом и рейхом, станет значительно проще обмениваться опытом, ездить друг к другу. А молодой пан директор, который, кстати, произвёл прекрасное впечатление на германских гостей, наверняка смог бы почерпнуть в рейхе производственные новинки, тем более что с языком у него проблем нет. И вообще, смог бы составить себе реальное представление о жизни новой Германии. А то ведь, увы, за прошлое десятилетие нагородили столько выдумок в советской, не говоря уже о польской, прессе…
Через три дня собрались у Роберта Шиманского, инженера местной энергослужбы, того самого, который расхваливал производственные успехи, злачные места и достопримечательности Вены. Йося Остатнигрош тоже был в числе приглашённых, но ему как признанному кулинару была поручена ответственная миссия приготовить карпа по-мадьярски, то есть с кучей лука, специй, выгибонов и церемоний, – так что на пару часов он был для общества, что называется, пропащим. Утешением служила ему расторопная и весьма эффектная блондинка Ирма, зачем-то, но, как оказалось, кстати, пришедшая в гости к тишайшей Маше Шиманской. И, конечно же, утешали совершенно искренние комплименты всех, когда они карпа отведали. Рыбка и впрямь получилась на славу, а поскольку предстоял выходной и не предвиделось ранней побудки, то закономерно хлопнула пара пробок.
И так, между картами, рюмками, исходящей паром и соком рыбой и лукавой переглядкой с Ирмой оказалось, что пан Роберт знает о происхождении Якоба Иозефовича куда как больше, чем его коллега Остатнигрош; «и вообще, геноссе, вы больше наш, чем (брезгливый кивок в сторону раскрасневшегося Йоси) их».
Ноябрь 1939 г. Ровно
К великому большевистскому празднику 7 ноября, который впервые отмечался на «воссоединённых» землях, ещё похолодало и посыпал негустой, крупными хлопьями снег. Впрочем, к особенностям местной погоды Войткевич особо не присматривался: у всех служб области и всех партийцев хватало предпраздничных забот. Торжества проводились, что называется, по полной программе: тут тебе и военный парад (а на трибуне, средь почётных гостей – и германская делегация), и многолюдная демонстрация трудящихся, и митинг со всенародным утверждением приветственного послания ЦК и лично товарищу Сталину (конечно же, на особом коммун-языке, которого честно не понимали три четверти здешнего «народа»), и приём (названный партхозактивом), и концерт, и банкет.
А для всего этого требовалось – сами понимаете, что; а конкретно требовалось от директора пищекомбината перевыполнение мыслимых и немыслимых планов для обеспечения праздничных столов не столько собственно народа, сколько лучших его представителей. Ну и, конечно, беззаветных слуг то ли народа, то ли этих представителей – короче, специальных товарищей. Пришлось на целых две недели отложить в сторону самые драгоценные занятия: читать немецкие и польские, и русские дореволюционные книги, оставшиеся по наследству от предыдущего владельца квартиры, и слушать мощный «телефункен», который ловил всю Европу.
Когда пищекомбинат и лично товарищ Войткевич оказались положительно отмеченными, пусть и в том числе, но на высоком уровне, Яша заслуженно и совершенно добросовестно сорвался в недельный загул.
Что происходило во время этого загула, Яков помнил смутно. Какими-то яркими, но разрознёнными картинками, которые ещё к тому же имели тенденцию накладываться друг на друга. Накладывался, по-видимому, и сам Яша тоже, вот только объект под ним, счастливо повизгивая, всё время двоился – то миниатюрная смуглянка, то стройная блондинка – и обе они с некоторым удивлением, но разной эмоциональной окраской отмечали, что брит-мила у него так и не состоялась. Были и какие-то разговоры с разными людьми и на разных языках, и в диапазоне от Ницше до нищих, от Оперы до оперов, от идолов до идеологов, от фареров до фюреров, от дел до тел – и так чуть ли не до янки и портянки. А ещё совершенно явственно, хотя без начала и без окончания, высвечивалась сцена с попыткой гоп-стопа со стороны какой-то местной шпаны, и сиё никак не относилось к фантазиям, поскольку ссаженные костомахи и «трофейный» браунинг в кармане кожанки Войткевича – сёчь надо было, дешёвки, на кого мазу тянете – были вполне реальны.
А раз так, то ни к фантазиям, ни к алкогольному бреду нельзя было причислить и серьёзный разговор, состоявшийся на излёте запоя. Разговор, начатый у невесть как оказавшегося собутыльником Роберта Шиманского, а продолженный – на чистом немецком – с Карлом Бреннером, почётным гостем, благополучно ускользнувшим от бдительности специальных товарищей.
Да что там фантазии! Яков не сомневался, что всё сказанное им и ему подробно фиксировалось и что самого его фотографировали. И в дружественном обществе штурмбанфюрера, хоть и пребывающего в штатском, Карла Йозефа Бреннера, фотографировали. Просто-таки в обнимку, потому как – вспоминал Яков – разговор тогда зашёл о Венской опере и вообще об опере, горячей любви обоих. И чуть ранее – фотографировали в ещё более дружественном обществе Ирмы, пребывающей не только без знаков различия, но и без всяких атрибутов мундира и того, что положено носить под ним. Превосходного качества – хоть из-под полы продавай любителям «клубнички» – фотографии показали ему вроде так ненавязчиво, а ещё – предъявили небольшую, но убийственную пачку стенограмм…
Так что геррен оффициерен не пришлось долго объяснять, чем это всё чревато для молодого большевика на ответственном посту, если тот вдруг не захочет понять глубинную близость своих и национал-социалистических идеалов и необходимость дальнейшего сотрудничества.
Войткевич понял.
Штурмбанфюрер, дирижируя тросточкой, сообщил ему агентурную кличку (Spiller, Игрок) и заставил вызубрить несколько рун, похожих на птичьи следы, и порядок их использования для связи и опознания.
…И правильно понял его, чуть позже, энкавэдэшный капитан, один из двух чекистов, которые в своё время напутствовали Якова Осиповича.
Только Йося Остатнигрош долго – ещё целый месяц – не хотел понимать, почему это пан директор не торопится жениться на Софочке, которая не только отдала Войткевичу всю девичью драгоценность, но и определённо намерена не далее чем грядущим летом продолжить его славный род.
Пришлось жениться, пока перемены в Софочкиной комплекции не стали слишком бросаться в глаза.
Декабрь 1939 – март 1940 гг. Ровно
Зима и в самом деле накатила холодная (хотя, конечно, не настолько, как на Карельском перешейке) и отменно снежная. Пищекомбинат, благодаря солидным запасам бурого волынского угля, от холода не страдал, трудности были только с транспортом: дороги едва успевали укатывать, и перебои с сырьём досаждали не раз. Выручали железнодорожники – до большой узловой станции в Здолбунове было всего-то пятнадцать вёрст, а Ковельская железная дорога проходила чуть ли не через всю область; и вдобавок бесперебойно работали узкоколейки до Сарн, Оржева и Костополя.
Софочка оказалась чистюлей, хозяйкой и вообще прекрасной женой, разве что излишне влюблённой и посему ревнивой. А ревновать было к чему и к кому. Пристрастился южанин Войткевич к лыжам. Точнее, к лыжным прогулкам в обществе белокурой Ирмы, оказавшейся (чего Софочка, естественно, не знала) основным его связником с разведывательной сетью. Номинально – с германской, но на самом деле, как достаточно быстро понял Войткевич, с многослойной.
Все «прогулки», совершаемые с ведома НКВД, безукоризненно легендировались и документировались непосредственно служебными мандатами и путёвками: пищекомбинату и в самом деле нужно было изыскивать новые возможности поставки сырья. И с кем только ни приходилось общаться!
Встречались им солидные, степенные, седоусые волыняки, в том числе завербованные ещё в австрийском плену в Империалистическую.
Заглядывали «командированные лыжники» в аккуратные и, как по шаблону, заполненные домашним кружевом дома слегка обрусевших чехов, которых в местечках оказалось не так уж мало. И среди этой малости – агенты чехословацкой разведки, плавно перешедшие под крыло СА. Немногочисленные, кстати, и только из разведки «политической», потому что весь персонал военной разведки со всей документацией 2-го отдела Генштаба и списками агентуры до оккупации успел перебраться в Лондон.
Были здесь и остатки польской агентуры. Но с этими разговаривать приходилось «втёмную», от имени польской разведки, на самом деле – частично уничтоженной, а частично ушедшей в эмиграцию и подполье.
Кстати, от поляков услышал Войткевич первые правдивые, а потому – особенно жуткие рассказы о том, что происходит там, за рекой, в германской зоне оккупации. Этого он не узнал ни от своих энкавэдэшных наставников, ни во время новогодней поездки по обмену опытом в Австрию и Германию, организованной «Комиссией по экономическому сотрудничеству» в развитие Московского договора. Поездки, насыщенной интересными показами оборудования (не только для пищевкусового производства), переговорами и визитами в оперу, где Яков неизменно встречался с истым, похлеще его самого, меломаном Карлом Бреннером. Поездки, во время которой его обласкали, подчёркнуто именуя «фольксдойче» и не слишком акцентируя расовый мезальянс и его происхождения, и брака. И весьма солидно «подогрели» материально, так что опись переданного и подаренного, составленная по возвращении Войткевичем (оперативная кличка Везунок) для НКВД, занимала целую страницу.
«Прогулки» эти – их собственно лыжная часть была невелика, добирались обычно или на комбинатской «эмке» с цепями на задних колёсах, или в пассажирском вагоне узкоколейки, а затем лишь вставали на лыжи – были не так уж безопасны не только с точки зрения семейного благополучия. Несколько раз им пришлось отстреливаться от небольших и кое-как вооруженных бандгрупп. То перекрывали дорогу, то пытались догнать в паре вёрст от очередного села. Но «лыжники» были настороже, да и оружие было у обоих: у Якова – положенное по должности, у Ирмы же, по бумагам числившейся его начснабом – нелегальное, но никто её не обыскивал. А стреляли они оба почти одинаково метко, так что достаточно было два-три раза гавкнуть нагану Войкевича и тявкнуть браунингу Ирмы, как со стонами и «прокльонами» разбойники или бульбаши ушивались, неизменно оставляя капли крови на снегу. Но к весне 40-го попытки нападения почти прекратились, несмотря на то что забирались «командированные лыжники» во всё более легендарно глухие места вроде крепкого села с говорящим названием «Вовковыя» посреди лишь к февралю подмёрзших болот, или небогатого села Выплясункова, во времена оны подаренного то ли Потоцким, то ли Чарторыйским обожаемой им балерине. Оттого и «Выплясунково» – выплясала, вытанцевала. Отстреливаться им ещё пришлось всего-то раза четыре, и лишь от волков настоящих, серых, на четырёх лапах и с толстыми хвостами.
С двуногими же всё обстояло иначе. Всю холодную снежную зиму на «освобождённой и воссоединённой» земле шла чистка, и к весне край замер, оцепенел.
Брали по доносам и внешним признакам, по национальности и образовательному принципу, по наветам и просто так, за компанию и для выполнения плана.
Брали зажиточных и умелых за то, что они умелые и зажиточные.
Брали тех, кто вдумчиво расспрашивал о преимуществах колхозного строя – за то, что слишком умные.
Брали тех, кто не понимал, почему надо отдавать своё кровное в общий котёл, из которого и похлебать не придётся – да ещё и благодарить за это. Их – за тупоумие.
Бывших харцеров – за харцерство, бывших пластунов – за пластунство.
Брали членов компартии Западной Украины, КПЗУ, чтоб не задирали нос, и кружковцев «Просвиты», чтоб не сомневались, что лучшие украинские писатели уже назначены Советской властью…
Некоторым полякам, правда, разрешали выехать без гроша за пазухой в оккупированную дружественным вермахтом Польшу, чехам и словакам – соответственно в протектораты Богемии и Моравии, а немногим всё осознавшим и ни в чём не замешанным, а порою и давшим подписку о сотрудничестве, евреям – в Палестину.
«Титульным» же украинцам, счастливчикам, которым не поставили свинцовую примочку в Корце, Костополе, Остроге или Дубно, предстоял долгий благостный путь на бескрайние сибирские просторы.
Встречали «командированные лыжники» конные и моторизованные («эмка» и тентованная полуторка с бойцами, звенящие цепями, и неизменно «воронок») команды энкавэдэшников.
Встречали пешие колонны и угрюмые вереницы саней и телег с будущими покорителями сибирской глубинки.
Видели и разорённые или сожжённые подворья и целые хутора.
И не слишком уже удивлялся Войткевич, что раз от разу всё труднее становилось логически объяснять селянам необходимость и преимущества сотрудничества с сов. структурой (то есть по основной своей работе), хотя речь шла о всего-навсего поставках сельхозпродукции – и всё легче оказывалось «расконсервировать» неважно чьего агента и получить все необходимые несоветской структуре сведения.
А то и завербовать…
Весна-лето 1940 г. Ровно
Весною нарисованные мелком на филёнке парадной двери руны «ос» и «ман», вызов от Ирмы, появлялись нечасто. Иначе говоря, загородные поездки стали происходить реже. Не только потому, что их так болезненно воспринимала трогательная в своей стыдливой неуклюжести Софочка, но главным образом потому, что агентурная сеть была в основном восстановлена, исследована и выявлена, а сам Войткевич, похоже, стал пользоваться безоговорочным доверием германских друзей. Во всяком случае, он, встречаясь и со связником, и с Шиманским, и, наконец, с самим герром Бреннером, вполне легально посещающим объекты ЗапВО, без особого напряжения уловил новые веяния в их разговорах и наставлениях.
Как раз к тому времени, когда представил в НКВД очередную схему расстановки вражьей агентуры, на этот раз в Дубно, и скромно поинтересовался, когда и в какой последовательности будут произведены аресты.
Ответ Алексея Трофимовича его не сильно порадовал.
И потому, что порекомендовал энкавэдэшник не совать нос в волеизъявление Партии – мол, когда надо будет, тебе, возможно, скажут, или сам увидишь. И потому, что почувствовал Яков досаду и напряжённость в ответе заметно осунувшегося куратора – будто не о самом важном деле контрразведки шла речь, а о чём-то не очень актуальном, несвоевременном; да и словно сомневался товарищ капитан в том, насколько можно доверять этому Войткевичу – и можно ли доверять вообще.
Но куда больше огорчила Войткевича последующая реплика, сказанная как бы в сердцах – и оттого, наверное, искренняя. Дословно запоминать её Войткевич не стал – к тому времени у него, бывшего беспризорника и одесского уркагана, прошедшего макаренковскую колонию и воинскую службу у чёрта на куличках, выработалось стойкое отвращение к мату. А смысл был такой, что вот время это – непонятно какое, всяких и всяческих внутренних врагов изничтожать не успеваем, да ещё и ждём, что со дня на день самих нас изничтожат.
Прозвенел звоночек у Якова Осиповича в голове.
Затих Войткевич на какое-то время, без особого напряжения поддерживая уже хорошо налаженную работу комбината; ко всему прочему больше прислушивался и приглядывался, но не проявлял рвения и не выказывал инициативы, и даже чрезмерной заинтересованности. Опять много читал и крутил вечерами «Телефункен»… А там и Софочка в срок и благополучно разродилась крепенькой девочкой с волосиками цвета ранней морковки. Из ниоткуда вдруг появились двое премудрых тётушек и принялись их всех учить, как нельзя с маленьким ребенком; Войткевич их, конечно, через неделю выставил и привёл необразованную, но добросовестную няньку из лемкивок. И теперь, к неописуемому счастью Софочки, гораздо чаще бывал дома, чем в командировках, или за ломберным столом, или на футболе. Приносил из кондитерского цеха всякие вкусности; бывало, что кормил жену с рук и вместе они слушали, как в детской гукает Валюша и поёт вперемежку лемкивские, словацкие и польские колыбельные няня Маша.
Затих Яков Осипович – и всё присматривался. Думал.
Как-то не сразу понял он, к чему это немцам такая разветвлённая разведсеть. Нет, кое-что было совершенно понятно. Например, по количеству, маршрутизации и, насколько удавалось узнать, составу грузов, идущих по Ковельской железной дороге через большой Здолбуновский узел, можно было составить сносное представление о масштабах, темпах и ходе строительства укреплений в приграничной зоне. Дополняли эти сведения данные с цементных заводов и базальтового карьера в Яновой Долине, лесокомбинатов и деревообделочных фабрик в Клевани, Сарнах и Костополе, сообщения от агентов в деревнях и поселках у шоссейных дорог, ну и прямые наблюдения. И дополнительные адреса, и всё возрастающие объёмы поставок продовольствия. Но в большинстве случаев агенты разведсетей давали не то что дублирующую, а буквально пяти-, а то и шестикратно повторённую информацию – и как правило, только лишь о том, что без особого труда можно было вычитать в областной газете с гордым названием «Червоный прапор». А то, что по сверхбдительности цензоров или же по нерасторопности корреспондентов не попадало на газетную полосу, неукоснительно сообщали двое агентов в областном статуправлении.
Потом, когда прохладный август начал плавно перетекать в тёплый сентябрь, понял. Им нужен был не один и не два агента на узловой станции, а больше, как можно больше. Для того чтобы в день Х заставить станцию, пусть ненадолго, работать так, как надо абверу. И чтобы организовать диверсии – или же помешать взорвать пути и оборудование при отступлении РККА. И то же самое на всех коммунальных предприятиях: когда надо – отключить или включить; возможно – взорвать, а возможно – напротив, воспрепятствовать разрушению. Пусть послужат новым хозяевам. То же самое касалось и связи. Нет нужды рвать в десятках мест провода, если можно захватить узлы – и передавать только то, что нужно. И некоторые мосты надо взорвать, чтобы задержать выдвижение частей, чтобы войска сбились в кучу, в идеальный объект для штурмовки и бомбометания. А некоторые – сохранить, спасти от подрыва, чтобы танки беспрепятственно катили на восток…
Разведки смежных стран всегда работают друг против друга. Вот только стратегия и тактика этой работы сильно различаются в зависимости от политической составляющей, или – отношений между соседями.
Такой размах и такая направленность работы немцев могла означать только одно: они готовят нападение и уверены, что весьма скоро смогут оккупировать, по крайней мере, западные области Украины и, можно предположить, Белоруссии.
Зима 1941 г. Ровно
– Слушай, Войткевич, ты соображаешь, что несёшь?
Голос капитана госбезопасности был непривычным. Без жёсткости, без всегдашних высокомерия и самоуверенности посвящённого в некие тайны, недоступные простым смертным. И выглядел он паршиво: красные, воспалённые глаза, землистый оттенок лица, какая-то дряблость. Даже кисти рук с застарелыми ссадинами на косточках чуточку подрагивали.
– Алексей Трофимович, – сказал Войткевич как можно мягче. – Не обдумав всё как следует, я бы вас из Управления не вытащил.
– То, что вытащил – это правильно, – мрачно кивнул капитан и размял, не закуривая, папиросу. – В Управлении нашем и стены имеют уши. Неровён час, услышал бы кто, как ты оспариваешь мудрые решения – и к стенке поставили бы прежде, чем в твоём спецзадании разобрались.
«Ты бы меня и поставил, – подумал Яков Осипович. – Упреждая, так сказать, возможную прослушку».
Но вслух сказал только:
– Ничего я не оспариваю. Если вам так больше нравится, думайте, что эти мудрые решения доведены до масс и до вас затем, чтобы не сорвать нашу подготовку к войне и не спугнуть противника. А всё, что надо, там, в Кремле, уже давно поняли. Вот только никакой мудрости не хватит им, чтобы понять, что в одной дальней-далёкой области назрел момент обезвредить вражью агентуру, а то вся подготовка пшиком пойдёт.
Для конспиративной встречи куратора с оказавшимся самым ценным агентом забираться далеко не требовалось. Встретились, по договорённости, на восточной окраине города, так называемом Грабнике, на старом христианском кладбище.
Листья на деревьях и кустах давно облетели, могилы присыпало пушистым снегом; видно было всё вокруг – от западных ворот, где прикорнула к стене пустой (обезлюделой чекистскими стараниями) часовенки директорская «эмка», до пролома в южной стене, за которым поблескивала синим округлым боком конфискованная у какого-то неблагонадёжного, ныне, наверное, покойника, «Татра-87». Никто не смог бы подойти незамеченным ближе чем на полторы сотни метров – а с такого расстояния не то что услышать, и разглядеть толком ничего нельзя. И всё же капитан сказал шёпотом, предварительно посмотрев по сторонам:
– Думаешь, я не докладывал?
– Думаю, что докладывали, – кивнул Войткевич. – И думаю, что услышали что-то не слишком приятное.
– Вот именно. И во второй раз выслушивать не собираюсь.
«Потому что второй раз может оказаться и последним», – мысленно сказал Яков за капитана госбезопасности.
– И не надо мне советовать подать рапорт наверх! – неожиданным фальцетом воскликнул Алексей Трофимович. – Потому что тогда меня точно шлёпнут. Ты не знаешь, что у нас творится…
– Догадываюсь, – как можно спокойнее сказал Яков. – Хотя бы по тому, что всё сотворённое здесь органами в последнее время – по большому счёту, во вред нашему делу.
Наверное, не стоило это говорить. У капитана даже рука дёрнулась – выхватить пистолет… Но сдержался Алексей Трофимович. И не потому, что знал: Яков Осипович тоже вооружён и реакцией обладает отменной.
– Это тебя наши закадычные враги так просветили? – не столько злым, сколько усталым голосом после паузы спросил капитан.
– Немчура-то? – хохотнул Яков. – Нет, они не теоретизируют. По крайней мере, в моём присутствии. А вот морды довольные-предовольные. И дома присматривают – где и кто апартаменты себе обустроит. Слышал краем уха, что здесь, в Ровно, даже резиденция гауляйтера Украины окажет честь расположиться.
– Слышал я тут, – вроде бы без особой связи с предыдущим, устало сказал капитан госбезопасности, – что наш Персек самому жаловался: подаём, мол, заявку на истребление двадцати тысяч врагов народа, а нам утверждают, только девять… Тысяч.
– Сочувствую, – после паузы отозвался Войткевич.
– Кому ты сочувствуешь, Везунок? – Спросил Алексей Трофимович, потому что реплика Войткевича могла относиться, по его разумению, минимум к трём направлениям.
Но Яков Осипович говорил о четвёртом.
– Нам сочувствую. Коммунистам.
– Эк хватил, – только и поёжился, будто ветром хлестнуло, Алексей Трофимович. – Месяц как в партию из кандидатов приняли, а уже на все высоты заглядываешь? Шею свернуть не боишься?
– Много набирается охочих до моей шеи, – невесело усмехнулся Войткевич. – И те, кто врагов множит, и сами эти враги, которые размножаются так, что и десятой доли не переловишь, и новые «друзья» закадычные, для которых «коммунистишен мит юден» – уже приговор. Вы мне скажите, Алексей Трофимович, реально – что делать будем?
– Когда, как ты думаешь, они начнут? – вопросом на вопрос ответил капитан.
– Думай, не думай, а по всему, что видел и слышал – скоро. Весной, наверное. Или в начале лета…
– Жаль…
– Не сам же придумал – наслушался уже от них. Да и видел много, когда по периферии мотался. И Бреннер проболтался… Не провокация – война будет.
– А ты в курсе, сколько мы силищи сюда нагоняем?
– Сила – это когда все драться и хотят, и могут. Вот с той стороны, помянёшь моё слово, так и получается. А у нас – не так… Очень уж многим сала за шкуру залили…
По лицу Алексея Трофимовича трудно было понять, удивлён ли он небывалой, не принятой в их кругу откровенностью или просто болезненно задет словами Войткевича.
– А немцы с австрияками, когда в Империалистическую здесь стояли, – продолжил Яков, – чисток не устраивали. Нормальные тогда оккупанты были, на идеях не свихнутые…
– Жаль, что не узнаю – прав ли ты.
Наверное, целую минуту оба молчали. Даже остановились на едва протоптанной дорожке между безымянных – снег припорошил надписи – могил.
Наконец Войткевич не выдержал, переспросил:
– Так что делать-то будем?
– О себе подумай, коммунистишен мит юден, – с непонятным ожесточением бросил Андрей Трофимович и, не прощаясь, крутнулся на каблуках и отправился к пролому.
Чуть позже побрёл к восточным воротам и Войткевич. Прошёл уже полпути и посмотрел направо.
Ни капитана. Ни его машины. Никого. Только ряды заметённых снегом могил.
20 июня 1941 г. Ровно
«Пора» – совершенно чётко прозвучало в сознании Якова. Будто неведомый, но категорически-требовательный голос раздался в предутренней тишине.
В комнате уже совсем светло – двадцатое июня, начинается летнее солнцестояние, самые длинные дни и самые короткие ночи.
Спит жена, свернувшись калачиком, спит дочка, прижав к щёчкам розовенькие кулачки.
Войткевич быстро и бесшумно собрался.
Верная лемкивка Маша, тем не менее, услышала и к тому времени, как свежевыбритый Яков выбрался из ванной, подала кофе и бутерброды.
«Пора» относилось не только ко времени сборов перед дальней – не один час езды – дорогой. Пора было закончить дело, помочь в котором определённо никто уже не мог, а вот помешать – сколько угодно. И оттягивать неизбежное было просто невозможно. И так этот невероятно тихий рассвет можно было считать подарком судьбы.
Уже два месяца прошло с того дня, когда, позвонив по служебному телефону в тот самый отдел Управления, Войткевич напоролся на чужой и неприятный голос. И разговаривающий с кавказским акцентом оперативник тут же принялся напористо выяснять, кто это звонит, по какому делу, с какого телефона и почему это только Алексей Трофимович может помочь, если дело государственной важности.
Означать это могло только одно: Алексей Трофимович арестован, арестован внезапно для него самого – хотя давно ожидал он ареста и, возможно, готовился к нему.
Если бы прошёл простой перевод по службе, хоть с повышением, хоть по горизонтали – он бы непременно оповестил Войткевича и «передал» бы его новому куратору. Или, в самом крайнем случае какой-то сверхсрочности и тайны, вызвал бы Якова второй осведомлённый, начальник Управления, и свёл бы с новым куратором.
Вскоре после того звонка (а Войткевич, мгновенно среагировав, не назвался, не «раскололся», не дал ни одной наводки и, поскольку звонил с уединённого телефона-автомата, имел все шансы остаться неузнанным) состоялся предпраздничный актив, на котором коммунистам-активистам представили нового начальника областного управления НКВД – ничего не сказав о судьбе предыдущего.
И в президиуме областного партхозактива, тоже без объяснения причин, отсутствовал второй секретарь обкома. Тот самый, который знал.
Едва ли не впервые за несколько лет Яков содрогнулся от ощущения зияющей холодной пустоты вокруг беззащитного тела. Пожалуй, впервые с того самого дня в Забайкалье, когда во время прочёсывания приграничной глухомани отвернул в сторону от общей цепи и оказался под прицелом нескольких винтовок хунхузов.
Такого ощущения не было ни разу во время стычек с бандитами или бульбашами, или мельниковцами – возможно, потому, что всегда было под рукой оружие. И рядом – сучка, белокурая бестия, но хладнокровная и бесстрашная сучка, к тому же отменный стрелок Ирма. И получалось, что реально силы были соизмеримы, даже если нападавших было вдвое или втрое больше.
Сейчас же оружие и взрывчатка были бесполезны: если станут брать – от Системы и от своих не отстреляться, а если пустить себе пулю в лоб, то страшно подумать, что произойдёт с женой и дочкой…
Но сразу же после актива, перед самым первомайским праздником, на комбинат наведались двое из Управления, в том числе и седоголовый начхоз, который не по должности, а по каким-то таинственным флюидам всегда чувствовал, в какую это сторону в их ведомстве подул ветер. Наведались, как обычно перед праздниками, за вкусненьким – и понял по разговору с ним Яков Осипович, что ничего ещё не выявлено, никакой его связи с недавно разоблачёнными врагами народа, пролезшими в чекистские ряды, не найдено.
Можно вздохнуть с облегчением?
Как бы не так! Теперь он оказывался чуть ли не ключевым звеном германской разведывательной сети, раскинутой на область, и ответственным за уже произошедшую передачу «закадычным друзьям» целого массива сведений. Любой серьёзный провал в разведсети мог привести, да что там «мог», непременно приводил бы к нему – и попробуй докажи тогда специальным товарищам, что ты в самом деле выполнял задание партии, а не соучаствовал в преступлениях разоблачённых шпиёнов и врагов народа!
Войткевич не знал – не мог себе представить при всём том сложившемся уже у него мнении о бериевском НКВД – что его личное дело лежит в глубине стопки папочек раздела «Резерв» и, по всему, должно выползти на свет божий нескоро. Папка же «Везунок» с грифом «Сов. секретно», в которой аккуратно подшиты все его (подписанные оперативным псевдонимом) донесения о германской разведывательной сети, остаётся пока что и не востребованной, и даже не прочитанной. Вот так – потому что никак не могут решиться вопросы с новыми назначениями и распределением обязанностей в Управлении.
Долго это продолжаться, конечно, не могло и не продолжалось – но по причинам, которые чекисты безосновательно считали не зависящими от них.
…Элементарный инстинкт самосохранения требовал обеспечить сохранность разведсети, обезопасить себя от провалов в ней. Простейший путь – предельно затаиться, прекратить даже сбор и передачу информации. Оказалось, что это вполне совпадало с пожеланиями руководства, переданными через Ирму.
Так прошло две недели; но за это время Войткевич окончательно понял, что до наступления германских войск остаются считанные дни. Открытым текстом об этом не говорила ни Ирма, ни второй резидент, Шиманский. Ирма только передала инструкции – ему лично и четырём старшим районных ячеек, с которыми контактировал Яков, и привет «с уверенностью в скорой встрече» от Карла Бреннера. Но при этом она была такая вся воодушевлённая, в таком приподнятом настроении, с таким превосходством говорила и «холуйском» сообщении ТАСС, и о мышиной возне энкавэдэшников, что заставила бы насторожиться и куда менее внимательного человека, чем Войткевич.
И Роберт Шиманский (или, как он теперь произносил, «Шемански») отказался начисто от воскресного преферанса – не до того, мол, будет – да ещё и начал расспрашивать, завершена ли ротация отделения милиции в Яновой Долине. Мол, если там уже все милиционеры наши, он подастся на недельку туда с семьёй.
И переданные Ирмой через Войткевича инструкции для агентов указывали окончательные сигналы и схемы оповещения, и конкретные диверсионные, оперативные или, наоборот, охранные действия, которые следовало предпринять.
Войткевич всё это переправил по назначению – потому что знал: инструкции дублируются и, задержи он их – пришлось бы отвечать перед СД ещё до «часа Ч». Вот только внёс в них небольшие дополнения, касающиеся первых действий по сигналам. Проверить аутентичность сообщений за оставшуюся неделю немцы уже не успевали – если Яков правильно вычислил «время Ч».
И вот девятнадцатого, возвращаясь поздно вечером с работы, Войткевич увидел на условленном месте, на столбике перед поворотом к своему дому, руну «ман» – извещение о том, что шифровка уже в тайнике.
Окно на лестничной площадке между первым и вторым этажом не отворялось, похоже, со времён пребывания города под Польшей. Копоть и нетронутая паутина. Но если правильно нажать на два гвоздя замусоренного подоконника, то приоткрывался маленький тайничок. В нём – папиросная гильза, а в гильзе – полупрозрачная бумажка.
Время «Ч»: 13.00 21 июня. К этому времени, знал Войткевич, надо прибавить двенадцать с половиной часов и действовать согласно инструкции.
20–22 июня. Ровно-Киев
Ирма, ещё полуодетая, не стала пенять ни за ранний час, ни за нарушение конспирации, когда Войткевич зашёл к ней домой. Только и сказала:
– Ах, Якоб, ты заехал не вовремя – мне надо сейчас отправляться в Костополь, нам не по пути.
– Удивляешь, партайгеноссе, – усмехнулся Войткевич. И продолжил на немецком, зная, что это всегда нравилось Ирме: – Тут такое начинается, а ты в глухомань забираешься.
– Потому и забираюсь, что начинается, – так же по-немецки ответила белокурая бестия. – Небесных гостей надо встретить.
– А на часок позже – никак? – невинно поинтересовался Войткевич и погладил рыжеватые усы.
– А ты успеешь? – спросила Ирма, приближаясь и раздувая ноздри. – У тебя ещё Здолбунов, Мизоч, Дубно…
– А ты мои секретные инструкции читаешь? – поинтересовался мимоходом Яков, увлекая белокурую бестию к кровати.
– Но мы же об этом никому не скажем, – согласилась Ирма, освобождаясь от блузки. – Есть вещи, о которых знают только двое…
Войткевич быстрыми, словно натренированными, движениями перехватил её кисти ремнём и примотал к спинке массивной кровати.
– Якоб, ты что, когда нам играться? – только и спросила Ирма; а в следующий момент, когда Яков сорвал шнур балдахина и резко затянул петлю на ногах белокурой бестии, поняла и зашипела: – Шайссе, да тебя наши на куски порвут!
– Есть вещи, о которых знают только двое, – очень серьёзно сказал Войткевич, проверяя надёжность пут. – До ваших далеко, а до Бога – близко. Так где небесных гостей встречаем?
– Зачем это тебе? – вдруг очень спокойно, чуть ли не равнодушно спросила Ирма и перестала дёргаться. – Ты же понимаешь, что всё уже решено.
– И что? – спросил Яков Осипович, невольно поддаваясь этому спокойствию. Даже нож, с помощью которого предполагалось разговорить белокурую бестию, чуть задержался в ножнах. – Лапки вверх и «Хайль Гитлер», и может, ещё помилуют?
– Тебя так точно помилуют, – всё так же спокойно и даже как будто лениво проговорила Ирма и чуть пошевелилась, похоже, что устраиваясь поудобнее. – А об этой выходке я никому не расскажу.
– Обрадовала, – хмыкнул Войткевич и обнажил финку. – Ваших милостей ждать не собираюсь. А если уверена, что всё так уж решено, – так скажи, что знаешь, не заставляй кожу портить. Я ведь не садист, меня это не заводит…
И вдруг перехватил Яков Осипович острый взгляд шпионки, направленный за его спину, на дверь во вторую комнату, и понял в неуловимое мгновение, что в него целятся.
Мышцы сработали быстрее, чем сознание. Одним слитным движением Войткевич наклонился влево и, не глядя, метнул финку в сторону двери.
Два звука почти слились воедино: негромкий выстрел и удар пули в плоть. А затем ещё несколько секунд раздавалось хрипение и судорожная возня у двери. Тишайшая Мари Шемански левой рукой дёргала рукоятку финки, до упора вошедшей в грудь, правой – силилась поднять «вальтер», и оседала, оседала на пол.
И опустилась. Руки обвисли, взгляд остекленел, и только маленькие ножки в лакированных туфельках ещё подёргивались и скребли по паркету.
Яков приложил ладонь к правому боку. Касательное ранение, всего-то царапина на коже.
– Так что? – спросил он, поворачиваясь к Ирме.
Но та при всём желании не могла ничего сказать. Не бог весть какая убойная сила у маленького «вальтера», но выпущенная с трёх метров пуля, предназначенная Войткевичу, попала белокурой бестии очень точно. Между ребёр и в самое сердце.
…Через пятнадцать минут Войткевич, с лёгкой наклейкой-пластырем под свежей рубашкой, вышел из квартиры, тщательно запер дверь и прошёл к «эмке», оставленной за квартал от дома.
Дальше он действовал как автомат. Здолбунов-Мизоч-Дубно-Клевань. Везде он, согласно инструкции – им самим усовершенствованной инструкции на «час Ч», – встречал руководителей групп и их заместителей, и вывозил к тайникам. И там – это уже не по немецкой инструкции, а по совести – расстреливал. Восемь патронов – восемь трупов. Четыре обезглавленные агентурные ячейки не сработают. Немного, но не так-то мало, если приплюсовать мёртвую парочку, изображающую в запертой комнате любовную трагедию (труп Ирмы Яков развязал и уложил так, чтобы сложилось впечатление, будто она метнула финку – и напоролась на пулю или же, наоборот, метнула, умирая). Большего сделать было нельзя. На помощь этой смены специальных товарищей рассчитывать не приходилось.
Затем возвратился в Ровно.
Заехал домой, приказал жене быстро собраться, взять только документы и самое-самое необходимое. Затем – на комбинат. Открыл своим ключом кабинет, выгреб из сейфа документы, печати и деньги – немалые деньги, предназначенные на закупки – и выписал себе и Йосе командировки в Киев. Всё запер; перед уходом, во дворе, потрепал по загривку Гавлица. Псина заскулил – почувствовал…
Заехал к Остатнигрошу, приказал быстро собраться, взять документы и – ни слова никому. Йося побледнел и кивнул – почувствовал…
Уже смеркалось, когда заехали домой и забрали Софочку с малышкой. Надо было выехать из города – и они выехали, и заночевали в лесу на полдороги до Острога.
В Киев отправились утром, но довольно поздно. «Эмка» застряла, а Йося с его протезом даже на акселератор толком не мог нажать. Пришлось напрячься, в одиночку вытаскивая передок из колдобины. Ехали, с многочисленными остановками, почти весь день, хотя и всей-то дороги – четыре сотни вёрст. Даже заправляться не пришлось.
Но республиканский наркомат пищевой промышленности – как почти все наркоматы, приученные к сталинскому распорядку дня – ещё работал.
Войткевич здесь уже бывал не раз и не два, барышни-секретарши моментально расплывались в улыбках – и некоторые оргвопросы решались прямо в приемных; и там же удалось с давней уркаганской ловкостью скопировать с беззаботно оставленных бумаг нужные подписи. Чуть сложнее было в бухгалтерии и Первом отделе, куда Яков Осипович сдал, соответственно, всю до копеечки комбинатскую кассу и печати. Но выручала самоуверенная морда и бюрократическая система – закорючки на обходном листе были не аутентичные, но достаточно похожие. И вообще, сдавать – не получать, а какие там высшие соображения – пусть думают те, кто расписался сверху.
В 21.45 отправлялся поезд на Свердловск. Наглости проскочить в кабинет начальника вокзала, обаяния, двух батонов сырокопчёной колбасы и сувенирного флакона «Полесской», плюс, конечно, полная стоимость билетов, хватило на два места, купе в литерном вагоне.
Прощание с перепуганной и заплаканной Софочкой и спящей дочкой заняло не больше пяти минут – поезд уже отходил. С бледным и всё понимающим безногим Йосей, которому Войткевич доверил семью на всё грядущее лихолетье, уже ничего не обговаривали напоследок – не было необходимости. Переговорили в дороге.
«Эмка» так и стояла перед вокзалом.
Яков Осипович, осторожно выруливая и притормаживая у трамвайных путей, проехал полпути к военкомату, остановился у тёмного скверика и переоделся.
Ещё битый час просидел в машине, обдумывая и сосредотачиваясь. Затем подкатил поближе к бессонному военкомату, вышел, одёрнул гимнастерку, надел фуражку и уверенным шагом направился внутрь.
– Лейтенант Войткевич для получения назначения прибыл!
Глава 8
Всё та же ночь июня 1942 г.
Гурзуф, лавка Марии Казанцевой
Скривив насмешливую гримасу, лейтенант Войткевич выдернул из-под застигнутого врасплох Кольки Царя табурет и уселся напротив Саши:
– Ну… как лейтенант с лейтенантом пить я с тобой не буду… – выложил он на стол командирский куцый наган. – Потому как я строевой командир, а ты легавый. Тем не менее, прежде чем решить, что с вами делать, спешу представиться – Яков, для своих – Яша, но насколько вы свои – нам ещё предстоит выяснить. Так что для вас – Яков. Можно просто, Яков Осипович…
– Ну, и какое отношение вы имеете к партизанам? – спросил Новик, иронически покосившись на матросов, объявившихся, как черт из табакерки: кто из-под столовой скатерти с бахромой, кто из-под кровати в соседней комнате, а один так даже скрипнул дверцей платяного шкафа в полутёмной прихожей…
Ответа не последовало.
– Каким боком вы к партизанам? – переспросил Новик и выложил со своей стороны на стол табельный ТТ. – А?.. Яков Осипович?