Убийство по Шекспиру Соболева Лариса
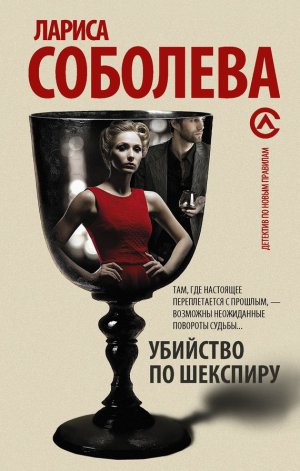
Степа проверил, хорошо ли она закрыла за собой дверь, оседлал стул. Присмотревшись к Овчаренко, болтавшей ножкой, закинутой на колено, сделал вывод, что ей много меньше лет, чем ему показалось на первый взгляд. Явное пристрастие к алкоголю – отечность, мешки под глазами, да и повадки выдавали человека пьющего, причем сильно пьющего. Тем временем Микулин почесал затылок, не представляя, о чем спрашивать эту раскрашенную (она не успела снять грим) и пьяную куклу. Степа пришел на помощь:
– Не возражаешь, если я допрошу? Я все же смотрел спектакль…
– Валяй, – согласился Микулин, приготовившись писать.
– Клавдия Анатольевна, – начал Степа, – Ушаковы были муж и жена?
– Почти в разводе, – ответила Овчаренко.
– Как это – почти? Можно состоять в разводе или в браке, но «почти» странно звучит, не находите?
– Ой, я уже ничего не нахожу, – отмахнулась Овчаренко и наклонилась за бутылкой. – У меня от всего этого один кошмар в душе. Хотите? – предложила бутылку по очереди ментам.
– Гражданка, – протянул Микулин, – как вы себя ведете? Мы вас сейчас…
– Не пугай, мне и без тебя страшно. Так не хотите? Ну как хотите. – Она вынула газетную пробку, сделала несколько глотков, словно выпила компот, заткнула горлышко и поставила на пол. – Вы хоть представляете, что чувствует человек, отыграв спектакль и видя своих коллег в образе… трупов?! Нет? А у меня нет слов… описать… мое состояние.
Все-таки ее развезло, впрочем, в бутылке было меньше половины и, надо полагать, выпила ее она одна. Микулин безнадежно махнул рукой и глазами спросил Степу: что будем делать? Тот кивнул, мол, продолжим. Овчаренко не заметила бессловесных переговоров, поставила локоть на гримировальный столик, обхватив пятерней подбородок, проникновенно заговорила, поминутно вздыхая:
– Жуткая смерть. Вот так живешь, копошишься, а потом – раз! Не так страшно подохнуть от… инфаркта там… от гриппа… А вот… это страшно. Я тут сидела одна… и так тоскливо стало… мрак! Видите эти стены? Я в них торчу со дня окончания театрального училища, да. Всю свою жизнь я провела в этих стенах, и все. Ну, гастроли. Были когда-то, сейчас мы никуда не ездим. И что, чего я добилась? Заслуженная артистка, а кто обо мне знает? Кто знает в России, что есть такая Овчаренко? Мне до пенсии восемь лет, а потом что? Выкинут. Всех выбрасывают! Я пока держусь. И думаете, мне хорошо, что держусь? Нет… мне нехорошо. Я нищая, живу от зарплаты до зарплаты, которая заканчивается, как месячные, в три дня. А я живу! И подличаю. Потому что не мыслю себя без театра. А театр не принес мне ничего, кроме боли. Но без него не могу. Как тут быть? А? Вот скажите: как быть?
– Клавдия Анатольевна, – остановил поток откровения Степа, – а что, Ушаковы конфликтовали с коллегами?
– Пффф! – заерзала она. – Конечно. В нашем храме все конфликтуют! Кто скрыто, кто открыто… по-разному. Одним словом, храм… хрям-хрям, и нету.
– А вы конфликтуете?
– Я похожа на дуру? Я хочу играть. Хочу работать. А работу, роль, не получишь, кон… конфликтуя.
– Так, ясно, – сказал Степа, понимая, что Овчаренко допрашивать все равно что воду ситом черпать. – Не скажете ли, с кем именно конфликтовали Ушаковы?
– Ну… э… со многими. Знаете, я сейчас не в том настроении, чтобы оценить и вывод сделать. А по секрету скажу, – она перешла на шепот, подавшись корпусом вперед, – мне жить не надоело. Я плохо живу, но живу. Уж лучше так, чем никак.
– Хорошо, подпишите и идите, – протянул ей исписанный лист Микулин, которому диалог с пьяной бабой попросту надоел.
– Не, не, не! – замахала та обеими руками. – Ничего подписывать не буду.
Невозмутимый Микулин несколько растерялся:
– Да вы что, гражданка! Я вас привлеку…
– Привлекай, привлекай, – засобиралась Клавдия Анатольевна, не забыла водку сунуть в сумку. Вскочила, повалив стул, ринулась за пальто, висевшее на вешалке. – Вдруг я не то там… Завтра прочту и, может быть, подпишу… а так… не в том градусе…
– Пальто не трогать! – гаркнул Микулин, она отдернула руки. – Пока не закончен опрос свидетелей, никто не выйдет из здания театра.
– А как же я домой пойду? – в удивлении развела она руками. – Без пальто холодно.
– Вы что, не поняли? – свирепо прорычал Микулин, поднимаясь с места. – Или вам наручники надеть, чтоб понятней стало?
– Не надо! – выставила она вперед ладони, защищаясь от него. – Не надо наручников. Я все поняла. Не пойду домой, подожду. Я все поняла.
Овчаренко метнулась за дверь, а Микулин в сердцах бросил папку и авторучку на стол. За сегодняшний вечер он впервые вышел из себя:
– Они что, все тут пришибленные? Я от кого-нибудь добьюсь вразумительных ответов или нет?
– Ты же только начал допрашивать свидетелей…
В это время послышался грозный женский голос, перераставший в крики, и чеканящий шаг. В данной обстановке все эти громкие звуки показались не столько нелепыми, сколько дикими. Два трупа еще не остыли, а кто-то бесцеремонно разорался.
– Неужели еще кого-нибудь пришили? – обреченно вздохнул Микулин.
– Пойдем посмотрим, – сказал Степа, вставая.
4
Нет, никого не пришили, во всяком случае, пока. Это пожаловала директор театра, срочно вызванная администратором по случаю ЧП. Директор – высокая и худая женщина лет шестидесяти пяти, однако в сапогах на высоких и тонких каблуках, с рябым и некрасивым лицом, с химической завивкой, слегка растрепанная – наверняка ее подняли с постели. Стоя на сцене, она сурово свела брови к переносице и без того тонкие губы поджала, раскрыла блеклые глаза во всю ширь, глядя на тела, которые успели положить на носилки и накрыть простынями. Атмосфера заметно накалилась, хотя ни один из работников театра не рискнул предстать перед очами директора, а воздух, казалось, задрожал в ожидании взрыва. «Ну и ну! Одна тетка привнесла с собой ядерный заряд», – отметил про себя Степа и посмотрел на Микулина, который, как буйвол после ярма, уставился на новое действующее лицо, дескать, этой только не хватало.
– Что здесь произошло? – рявкнула директор, распахнула демисезонное пальто и поставила руки на бедра. По всему было видно, это пришла бесспорная, полноправная хозяйка сего заведения. – Что, я спрашиваю, здесь произошло? Какое ЧП?
Администратор, находившаяся у сцены внизу, – ни слова. Физиономия ее приобрела выражение обиды, как будто только что именно администраторшу обвинили в отравлении артистов. Степа разглядел еще одного человека, которого сразу не заметил из-за… да, из-за его незаметности. Неопределенного возраста, маленький, невыразительный мужчинка сидел, вжавшись в кресло первого ряда. Изредка его голова осторожно выныривала из тени, приподнимаясь над креслами, как головка черепахи из панциря, в такой момент Степа и заметил его. Тип неприятный, неприятно поблескивали и очки на его носу, а маленькие бесцветные глазки следили за всем поверх них. Тем временем директор, не дождавшись разъяснений, гаркнула:
– Где помреж?
– Я здесь, Эра Лукьяновна, – опасливо выглянула из-за кулис кудряшка с бюстом. Кажется, появлением директрисы она была напугана больше, чем двумя трупами, не вставшими на поклон в конце спектакля. Она плаксиво выговорила сухими губами: – Ушаковы умерли. Оба. Сразу. Во время спектакля.
– Почему у тебя на спектакле умерли актеры?!! – взревела директриса.
Степа незаметно прыснул. Вопрос прозвучал глупо, но что не ляпнешь в состоянии аффекта! Хотя все равно смешно и глупо.
– Гражданка, не кричите, – и Микулин двинулся навстречу директрисе. – Все же в этом дворце два трупа.
– Вы кто? – встрепенулась грозная директриса.
– Микулин, капитан милиции и старший опергруппы, прибывшей на место происшествия, – представился тот. – Могу я узнать, кто вы?
– Директор театра Эра Лукьяновна, – отчеканила та.
– Очень хорошо. Тогда я бы хотел поговорить с вами.
– Идемте, – сказала Эра Лукьяновна и ступила на первую ступеньку, намереваясь сойти со сцены. В поле ее зрения попала администраторша, которая от свирепого взгляда директрисы попятилась. А Эра Лукьяновна напустилась на нее: – Не могла мне сразу сказать? Что, язык отсох?
– Я хотела вас подготовить… – буркнула администратор, накуксившись.
– Спасибо, подготовила! – съязвила директриса, буквально сползая со ступенек, так как боялась свалиться вниз, уж больно неудобно в столь почтенном возрасте спускаться на высоких шпильках со ступенек без перил.
Сидевший на первом ряду мужчинка соскользнул с места и услужливо подал ей руку. Спустившись, Эра Лукьяновна зашагала как фельдфебель – твердо и уверенно, чему теперь не мешали высокие каблуки. Микулин оглянулся на Степу, сделал знак рукой, мол, идем со мной.
Эра Лукьяновна привела их в свой кабинет, обставленный безвкусно, но дорого. Особенно бросились в глаза искусственные цветы, сразу напомнившие Заречному о гробах и покойниках. Директриса расположилась в директорском кресле за столом, предложив милиционерам диван напротив. В кабинет приплелся и мужчинка, но Микулин вежливо попросил его выйти.
– Это наш руководитель творческого состава, – сказала в защиту мужчинки директриса. Она словно дала понять: он не может быть лишним, ну никак не может.
– Прекрасно, – произнес Микулин, садясь на диван с ковровым покрывалом. – С ним мы обязательно побеседуем, но после.
– Подожди у себя, Юлик, – сдалась директриса, мужчинка гордо вышел. – Что будете пить? Водку, коньяк, виски, вино, шампанское?
– Ничего, – сказал Микулин, хотя ему ужасно хотелось выпить. Но в этом заведении, как показали события, пить опасно. – Мы при исполнении. Ответьте, сколько человек в труппе?
– Восемнадцать, из них пять дармоедов, – откровенно высказалась она.
– Каких дармоедов? – не понял Степа.
– Известно каких! – почему-то вспылила она. И в дальнейшем Эра Лукьяновна разговаривала так, будто с ней спорят, а она доказывает прописные истины кретинам. Эта манера общения была свойственна ей со всеми без исключения. Впрочем, исключения есть – вышестоящее начальство, с которым она предельно мила. – Это те, кто ничего не делает, но регулярно получает заработную плату и еще при этом недоволен.
Она бы с удовольствием продолжила распространяться по поводу дармоедов, но ее прервал Микулин:
– Значит, в сегодняшнем спектакле занята не вся труппа, так?
– Да, десять актеров и технический персонал.
– Я знаю, мне принесли программку.
Ее тонкие, подкрашенные брови взметнулись вверх, но Микулин не посчитал нужным объяснить, почему интересовался количественным составом труппы. А интерес не праздный, если кто-то из незанятых актеров был в театре во время спектакля, само собой, он попадает в круг подозреваемых. Микулин задал следующий вопрос:
– Какие отношения были между Ушаковыми?
– Хм! – Эра Лукьяновна передернула плечами. – Он ушел к другой. Эта другая – наша молодая актриса, она тоже была занята в спектакле. Играла служанку. Должна сказать, он был редким бабником, даже за мной ухлестывал.
«Ну, ты и загнула! – возмутился про себя Степа. – Такой видный мужик не станет ухлестывать за старой обезьяной. У тебя, бабушка, мания величия. А вот служанку я, убей, не помню».
– А она? Я имею в виду, как Ушакова реагировала на его уход?
– Брошенная женщина… – развела руками Эра Лукьяновна, мол, этим все сказано. – Знаете, ей уже было все-таки тридцать семь. Ролей давно не получала, ее выставили на сокращение…
– Кто выставил? – спросил Степа.
– Художественный совет, а профком утвердил. Я к этому не имею отношения, только подписываю приказ. В нашем театре художественный совет решает, кто нужен театру, а кто нет. А она всю свою отрицательную энергию направила против меня, представляете? Бегала в управление культуры, к мэру на прием и замам мэра – жаловалась, что я ее травлю. Смешно, честное слово. И никак не хотела в зеркало посмотреться. Мы не можем содержать богадельню, кто же тогда играть будет? На дворе уже капитализм, развиваются новые отношения. Люди должны перестраиваться, искать другие источники дохода, если не нужны предприятию, а не жаловаться по инстанциям…
Степа припомнил: «О покойниках либо хорошее, либо ничего». Циничная откровенность директрисы покоробила. Вспомнился и актер, тоже порядочный циник, но которого не привлекли к ответственности в свое время. Возможно, в театре засело скопище негодяев, тогда гибель актеров прямо на сцене не должна вызывать ни потрясения, ни удивления. Только в данном случае все же кто-то конкретный бросил яд в кувшин или в бокал, следовательно, привлечь к ответственности можно… нет, нужно!
– Я видел у вас на сцене много немолодых артистов… – начал было Степа.
– А я про что! – не дала закончить фразу директриса. – Вот из-за таких, как Ушакова, мы не можем взять молодых, ставки заняты. И не выпихнешь из театра, у нее, видишь ли, премии, заслуги, которые были когда-то…
– Положим, у нее сейчас ничего нет, – резко оборвал ее Степа. – А враги у них в театре были?
– Еще бы! Вы не знаете, что такое артисты! Это же… они из-за роли загрызть друг друга готовы. До моего прихода у них здесь одни склоки были. Меня и назначили сюда директором только потому, что возлагали определенные надежды. Если уж я не справлюсь, то с ними никто не справится. Тогда театр закрыли бы. А я его вывела из кризиса, при мне он зазвучал…
– С кем конфликтовали Ушаковы? – перебил ее Микулин.
– Я же вам объясняю. Актеры – люди очень странные, непредсказуемые, неуравновешенные. У них то один в друзьях, то другой. Завтра друг уже враг, а другом становится вчерашний враг. Это ж нонцес какой-то.
Помимо «нонцеса» Степу вообще поразила речь Эры Лукьяновны. Говорила она с произношением иностранки из ближнего зарубежья, плохо владеющей русским языком, и неправильно расставляя ударения. Речь никак не соответствовала должности директора русского театра. Подобные погрешности можно услышать на рынке, куда приезжают из приграничных селений крестьяне продать плоды своего труда, но в театре… просто «нонцес какой-то».
– Значит, конкретных людей вы назвать не можете? – уточнил Степа.
– Я думаю, нет, конечно. Я в их связях запуталась, поэтому не забиваю голову. Но ЭТО сделать мог кто угодно.
– А что именно сделать? – прикинулся недогадливым Степа.
– Убить. Не удивлюсь, если и на меня будет покушение. Они ж меня ненавидят, потому что спуску не даю… Привыкли всех директоров и рыжиссеров снимать. Это мне кто-то пакость сделал. Другим способом снять меня не могут – трупы подсунули!
– Почему вы решили, что артистов убили? – снова спросил Степа.
– А что же, они сами на тот свет отправились? Ну я выведу эту гниду на чистую воду! – пригрозила пальчиком директриса. – Он у меня пятый угол найдет! Или она!
Степа, извинившись и сославшись на желание покурить, вышел из кабинета. Он не курит и практически не пьет, просто не терпит бесполезного разговора. Его невероятно заинтриговали смерти в театре, и он, в отличие от Микулина, просто грезил распутать этот клубок. Без экспертиз понятно, что произошло двойное убийство. Отравление. Но обстоятельства, сопутствовавшие сему факту, так сказать, были овеяны флером романтизма. И кто же этот человек, придумавший такой тонкий ход – отравить актеров в то время, когда они по пьесе выпивают яд? Что преследовал? Ведь рассчитал все до мелочей. На сцене и за кулисами масса народу, так или иначе, все проходили мимо кувшина и бокала, значит, вычислить отравителя не представляется возможным, ибо кто угодно мог незаметно бросить яд – тут директриса права. А раз невозможно, значит, вдвое, втрое интересней распутывать. И сейчас Степа был занят тем, что гадал, кому же из следователей попадет дело, от этого зависит, сможет ли Степа поучаствовать в раскрытии преступления. А Микулин что – опросит, заведет дело, которое потом сдадут в прокуратуру, и все. Хочется, очень-очень хочется покопаться…
5
Сбежав по ступеням со второго этажа в полутемное фойе, Степа задержался у портретов, развешанных по стенам. Вот они – артисты крупным планом. Лица у одних нарочито беззаботные, у других важно-серьезные, у некоторых загробно-фатальные, а у кого и философически умные. Да, на фотографиях, показалось Степе, не суть запечатлена. Очевидно, сидя перед фотообъективом, актеры тоже играли роли, играли тех людей, какими желали бы быть на самом деле. Вон и Клавдия Овчаренко счастливо улыбается, искрится вся, по фотографии не скажешь, что перед тобой заурядная пьяница.
Здесь же, в фойе, на стендах развешаны и снимки сцен из спектаклей. Степа, приблизившись насколько возможно к стендам, внимательно изучал фотографии, пытаясь узнать знакомых артистов. Роли, роли, роли… Это же не настоящие люди, а выдуманные образы. Какие они на самом деле? Тут-то и мелькнула интересная мысль…
– …и нас поодиночке, – услышал Степа обрывок фразы и притаился. Это был женский, довольно высокий голос.
– А что ты предлагаешь? – тихо произнес мужской, басовитый голос. – Опять ее снимать? Бесполезно.
– Я считаю, надо писать, – вновь сказала женщина.
– Куда? Кому? – безысходно вздохнул мужчина. – Уже писали, по инстанциям ходили, жаловались… А!
– Президенту писать надо, – настаивала женщина. – Собрать все факты, документы и отправить. У меня есть отдельная тетрадка, там все номера приказов и их содержание переписаны. Я все продумала. Отправлять надо с нарочным, чтоб письмо бросил в Москве. У нас, я точно знаю, корреспонденция в Москву проверяется прямо на почте, потом письма в высшие инстанции изымаются. А в письме надо написать, что с нами расправляются уже физически. Только нужно убедить всех, чтоб подписали.
– Со всего театра ты не соберешь подписи. Боятся люди.
– Сколько соберем. Не сидеть же сложа руки! Повторяю: нас прикончат.
– Да понимаю… – протянул мужчина, затем помолчал. – У президента без нас забот полно. И ты же не напишешь в письме, что Эпоха мокрушница? Нас привлекут за клевету.
– А я и не собираюсь писать, что она отравила Ушаковых, – возразила женщина. – Но она создала моральный климат в коллективе, способствующий этому. Прости, но совершены убийства, от них не открестишься. Если хочешь знать мое мнение, то Эпоха запросто могла подсыпать яд в бокал.
– Знаешь, Люся, ты того… – басовитый голос поменял окраску, стал вполне нормальным баритоном. – Ее в театре не было.
– Зато ее альфонс был! Не улавливаешь? Он проходил в свой бункер через сцену перед началом спектакля, а потом вышел тем же путем в антракте, кувшин и бокал уже стояли на реквизиторском столе. Ленка Ушакова с ним и с Эпохой на ножах была, Виталька Ушаков хоть и не воспылал страстью к мощам, но в последнее время лебезил. Для нашего альфонса это повод. Или мотив, называй как хочешь. Да он всех пришьет, кто посмеет оторвать от него Эпоху. Ты припомни, где он служил и за что медаль получил! Единожды убивший, убьет и вторично. Вот посмотришь, я окажусь права.
– Не знаю, может, и так… А я давно не пью и не ем на сцене. Брезгую. У Олимпиады мыши в цехе, моя Катя видела не раз. Предупреждала Олимпиаду: сделай санитарную обработку! Нет, ей все некогда.
– И мыши, и тараканы, – согласилась Люся. – Только не мышей надо бояться, ты разве не понял? Вот скандал будет! На весь город и на всю область. Короче, думай, завтра встретимся и обсудим.
– Да не соберешь ты подписи, не надейся…
Голоса перестали слышаться отчетливо, заговорщики удалялись по направлению к сцене. Степа осторожно выглянул из-за щита, стараясь разглядеть фигуры, но не успел, они уже скрылись за овальным поворотом стены. Заречный повторил шепотом:
– Эпоха. Люся. Альфонс. Служба и медаль.
В администраторской вызвал по телефону такси и выбежал на улицу. Яна спала в милицейской машине. Степа наклонился к ней, тихонечко сказал на ухо:
– Карета подана, Янка.
– Это ты? – промямлила сонно она, даже не открыв глаз. – Нашел убийц?
– К прискорбию, я не Эркюль Пуаро. Вставай, Яна.
– Тогда, значит, трупы ожили? – и не думала вставать она.
– Трупы уже в морге, – и Степа коснулся губами носика Яны. – Идем, такси ждет.
Яна тяжело поднялась, опираясь на Степу, пересела в такси, так и не проснувшись полностью. Степа назвал адрес, обнял девушку и всю дорогу думал, что завтрашний поход в бассейн, скорее всего, отменяется. А послезавтра боже упаси отменить поход в гости к родителям Янки. Но и это может произойти, если следователь согласится на его помощь. А если не согласится…
– …он будет полным козлом, – вырвалось вслух.
– Кто будет козлом? – пробормотала Яна.
– Да так, есть один…
Больше она ничего не спрашивала, а продолжила дремать. В дреме и по лестницам шла на седьмой этаж – лифт работает только до одиннадцати, и в комнате раздевалась механически. Степа лишь успел постелить постель, Яна тут же упала со стоном на кровать, укрылась одеялом и затихла. Он еще помылся под душем, выпил холодного чая с печеньем, только потом, стараясь не разбудить Яну, лег. Не спалось. Все же поход в театр оставил неизгладимое впечатление.
6
Шел четвертый час утра. Только-только уехала милиция, а свидетелей отпустили по домам. Галеев Лев остался ночевать в театре, спрятавшись под сценой. Директрисе не объяснишь, мол, бабок нет на такси, выставит на улицу все равно, в придачу разорется, поэтому пришлось унизительно прятаться. Но вот смолкли голоса, он выбрался из убежища, пришел в гримерку и долго стоял, не решаясь ни сесть, ни лечь на диванчик, давно отживший свой срок. Да разве уснуть после таких событий? Два трупа, каково?! У Галеева после спектакля волосы дыбом встали! Странно устроен человек, еще днем после репетиции поцапался с Виталиком по пустяку, который тогда не казался пустяком, Лев уже забыл даже, что послужило поводом к стычке. А в начале десятого вечера Виталик не поднялся на поклон. И Ленка не поднялась. Переполох царил за занавесом, все пытались разбудить Ушаковых, окликали их по именам, не решаясь дотронуться. В зале аплодисменты, надо было выходить на поклон. Вышли, еще не сообразив, что актеры, лежавшие за закрытым занавесом, никогда больше не встанут. После поклона зрители выходили из зала, а актеры и технический состав, примчавшиеся на панику, услышанную по трансляции, стояли вокруг Ушаковых. Машинист сцены, сидя на корточках, потрогал пульс у обоих, поднялся:
– Они, кажется, мертвые…
Мертвые – как ножом проткнуло грудь. Сразу забылись распри, неприязнь, а заколотилось тревожно сердце в груди: как же так, почему? У Аннушки началась истерика, остальные в шоке молчали. Потом вызвали милицию, «Скорую»… ждали, не уходя со сцены…
Нет, не уснуть. Галеев вскипятил кипятильником воду, бросил в кружку две чайные ложки дешевого растворимого кофе и спустился в курилку под сценой. Огляделся, словно видел этот уголок театра впервые. Здесь валялись щиты с объявлениями о спектаклях, бутафорские ступеньки, декорационные кубики, на которых можно стоять и сидеть. А тишина как в склепе.
Ходят байки, что по ночам по театру разгуливают привидения. Сам Галеев не видел призраков, но кое-кто из работников с ними встречались, особенно дежурные пожарные. Один рассказывал, что видел высокого мужчину с тростью в черном пальто и шляпе. Когда дежурный за ним побежал, предполагая, что это вор забрался, человек в черном растаял, будто его и не было. Еще рассказывали, как по зрительному залу летала прозрачная женщина, ее видели по очереди три человека. Еще ни с того ни с сего треснуло зеркало перед премьерой, летучая мышь два дня не давала репетировать – все это не к добру. В коллективе долго гадали, кто и зачем появляется по ночам в театре, пришли к выводу, что это те актеры, которые ушли из жизни рано и с обидой. Их души не находят покоя на том свете, стремятся в театр, которому отдали жизнь, ищут обидчиков.
Галеев поежился от навязчивых мыслей, которые гнал прочь, а они лезли и лезли в голову. Так и нынешние погибшие актеры будут искать обидчиков, да найдут здесь Льва в одиночестве. Дурак! Зачем остался? Эту чертовую тишину хотелось взорвать. Он кашлянул для храбрости, надеясь отпугнуть привидения, которые не любят, по слухам, шум, плюхнулся на бутафорский диван и вдруг…
– Что такое? Где я? Кто тут?
Галеев подскочил, нет, взлетел с дивана, очутившись на вершине декорационных кубиков под потолком и испустив сдавленный вопль. Внутри все клокотало, пульсировало в бешеном ритме с сердцем, а из-за спинки дивана в темном углу вылезла растрепанная голова. Горел лишь дежурный свет, в полумраке Галеев не разобрал, кто ползет из-за дивана, поэтому вторично издал вопль.
– Чего орешь, Левка? – сказало нечто хриплым голосом из-за дивана, развернутого к Леве торцом. Дряхлый диван почему-то не разрешала выбросить Эра Лукьяновна, жадность – одна из основных черт директрисы.
Нечто заговорило знакомым голосом, только Лев не разобрал, чьим. Оттого, что привидение знало его имя, Галеева охватила трясучка. Он так затрясся, что горячий кофе пролился на руки, а Лев не почувствовал. Тем временем нечто поднялось во весь рост, небольшой, надо сказать, рост, неуклюже перелезло через спинку дивана и неловко на него завалилось, попав в световое пятно. Тут только Галеев разглядел Овчаренко Клаву. Ноги подкосились, расслабилось тело, он сполз с груды кубиков на самый нижний и прерывающимся голосом выдавил:
– Так разрыв сердца можно получить. Ты что тут делаешь?
– Сплю, – ответила Клава, слегка пошатываясь. – Дай сигаретку, у меня кончились.
Галеев поставил кофе на пол, возрадовавшись, что не с призраком повстречался, и, хотя трясучка еще не прошла, достал сигареты и протянул Клаве. От нее исходил такой «свежак», что у Галеева закружилась голова. Наверняка Клавка приняла алкоголь чистоганом, то есть без закуски. Она прикурила от его зажигалки, откинулась на спинку дивана и объяснила свое странное появление:
– Мне не дали пальто! Сиди, сказали, и не рыпайся. Ну, я пришла сюда, дай, думаю, полежу. Я как Черчилль, он всегда искал место, куда сесть или лечь – где-то читала, не помню. Ой, а наши… не ожили, нет? Так и… лежат там?
– В морге лежат, – проговорил скорбно Галеев, садясь на диван рядом с Клавой.
Она покивала несколько раз, выпятив нижнюю губу, развела руками и снова покивала, мол, что-то непонятное случилось, шепотом спросила:
– А все где?
– Разъехались по домам недавно, – ответил Галеев все тем же скорбным тоном.
– А ты чего остался?
– Бабок нет. Пешком далеко топать.
– Ой, и у меня ни пенса. Слушай! Выпить хочешь?
– Я не пью, – насупился Галеев.
– Да ладно, не заливай. Не пьет он! Закодировался, честно сознайся? У тебя ампула или что другое?
– Другое, – хмуро ответил Лев.
– И как оно, не хочется? Неужели не хочется выпить?
– Хочется, – угрюмо сознался Галеев. – Код заканчивается. Опять придется…
Он парень запойный. Глоток спиртного – и он уже не он, а алконавт во всей красе. Из-за этого пристрастия его на поруки брали, гнали из театра, жена ушла с дочерью к родителям, что и побудило его закодироваться. А водка, вино и пиво ночами снятся. Особенно сейчас выпить захотелось, страсть как захотелось.
– Вот и я подумываю закодироваться, – сказала Клава, проворно вскочила, метнулась к своей сумке, выудила из нее бутылку с мизерным количеством водки. Поднеся ее к глазам, определила: – Шестьдесят грамм, на каждого по три буль. Будешь?
Лев впился глазами в бутылку. О, какое искушение! Это же нектар, бальзам, амброзия – напиток богов. Галеев, борясь с соблазном, отхлебнул кофе, глядя на бутылку в руках Клавки, как не глядят на желанную женщину. Да что женщина! Разве можно сравнить секс с чувством освобождения, которое дает душе и телу алкоголь, разгоняя в жилах кровь, облегчая боль, убивая страх, разжигая или усмиряя ненависть и все известные человечеству страсти? Ни с чем не сравнить те ощущения, когда становится легко и весело, внутри просыпается удаль молодецкая, серая жизнь меняет краски на пестрые, а преграды становятся нипочем! И это происходит всего от нескольких глотков! А потом еще добавляешь чуточку, и уже паришь над миром, старым, занудливым миром, где тебе постоянно брюзжат: нельзя, не делай! Алкоголь разрешает все, придает силы и смелости.
– Будешь? – повторила Клава, потрясая бутылочкой.
Искушение! Не хватает воздуха. И сил не хватает сказать «нет». А во рту пересохло, пить хочется, пить. Но не кофе. А глотнуть спасительного бальзама, который излечит душу после сегодняшних страхов. Пить!
– Давай, – сдался он, и мгновенно стало свободно внутри.
Действительно, зачем столько терзаний, ради чего? Любой человек имеет право на малюсенькую радость. Готовясь к священнодействию, Галеев все же пообещал себе: завтра в рот не возьмет, но сегодня всего чуть-чуть, пару глоточков. Да и что там пить! Только губы помазать. При таком нервном напряжении от этого не охмелеешь. Но Клава вдруг достала непочатую бутылку, вызвав бешеную радость Галеева. Так у нее есть еще целая бутылка водки, а не три капли на донышке?! Клавка никак не могла открутить пробку, а Лева не предложил помощь, ибо следил за ней завороженно, повторяя про себя: «Быстрей! Быстрей!» Клава нашла способ провернуть пробку – зубами, затем выплюнула ее в сторону, этикетку принялась изучать, болтая не по делу:
– Стаканов нет. Ну ничего, мы из горлышка. Нормально. Чего нам притворяться? Мы ж с тобой не ханжи какие-то. Все пьют, только не попадаются. А мы залетаем. Ну и ладно. Пусть мы с тобой алкоголики, я знаю, нас так называют. В сущности, чем алкоголик хуже гипертоника? Та же болезнь. А водочка фирменная. Я на такие сосуды только смотреть хожу, как на экскурсию. А помнишь, в совдепии всего два сорта было: три шестьдесят две и четыре двенадцать до первого повышения? А теперь – залейся. Не прощу совдепии, что скрыла от меня ассортимент водки и прокладки с тампонами. Нельзя так издеваться над женщиной. – Клава протянула полную бутылку Галееву. – На, пей из этой, а я старую добью. Ну, будем.
Он схватил сосуд, шутливо приложил к бутылке Клавы, мол, чокнулись, но она:
– Не, не! Сегодня не чокаясь. Помянем. Знаешь, что скажу… (Галеев нетерпеливо сжимал бутылку, Клавке поговорить охота, а из уважения нельзя не слушать бредни.) Между нами, зря ведь Ушакову долбили. Артистка она была неплохая. Но, как говорится, не пришлась ко двору. Гонору много имела. В нашем положении гонор лишняя вещь. А Виталька сволочь был, прости господи. Ну да что теперь, за упокой душ убиенных…
Клава опустошила свою порцию, утерла губы ладонью, пустую бутылку поставила за диван. Галеев поднес ко рту горлышко и ощутил завораживающий запах, проникающий в каждую клеточку. Каждая клеточка мечтала напитаться водкой. Сейчас прольется внутрь живительная влага и… Он сделал глоток, еще глоток, третий… пожалуй, хватит, это же чужая водка. Ну, четвертый… и совсем маленький пятый, а потом заключительный аккорд – шестой. Вот теперь можно передохнуть. Он оторвался от горлышка, шумно вдохнул воздух и зажмурился, чувствуя блаженство в чреслах. Кайф!!! Когда Галеев открыл глаза, счастливо сиявшие, Клава полюбопытствовала:
– Ну и как? Код не помешал? (Галеев восторженно мотнул головой – нет!) Знаешь, мне рассказывал один мужик, что даже вшиться не страшно. Ну, в смысле – не страшно потом выпить. Рецептом поделился. Перед принятием спиртного надо выжать сок одного… или двух? Да, двух лимонов. Выпить сначала сок, после этого пей, и никакие там ампулы… ничего! Сам так делал. А то вошьешься и мучайся, всеми фибрами души ощущай ампулу в заднице. А потом как не сдержишься и – фью! К праотцам отправишься безвозвратно. Я туда не хочу раньше срока… Ты чего? Эй!.. Лева…
Галеев замер, словно его заколдовали. Вдруг подбородок его начал опускаться вниз, подниматься… снова и снова…
– Блевать тянет? – посочувствовала Клава. – Значит, все же код действует. Смотри-ка, не врут эскулапы!
Галеев не отвечал, вытаращил глаза, его худое и морщинистое лицо побледнело, губы посинели. Он поднялся на ноги, сделал несколько шагов к выходу и повалился на пол, корчась в судорогах.
– Ой! – взвизгнула Клава. – Левка, что с тобой? Не пугай ты меня.
Он еще немного подергался и затих, лежа на боку. Клава некоторое время рассматривала его так и эдак, не понимая, что за выкрутасы он устроил и зачем. Сидел себе, разговаривал, вдруг – брык! Что за ерунда? А он все лежал на цементном полу, не собираясь вставать. Позвала его по имени – не откликнулся. Тогда Клава слезла с дивана, шатаясь, приблизилась к нему. Споткнулась о цементный выступ, грохнулась на Галеева.
– А, черт! – потирала ушибленное место ниже поясницы. – Лева…
Клава перевернула его на спину. Глаза закрыты.
– Лева, ты случайно не умер? – пошутила она.
Молчание со стороны Галеева почудилось Клаве розыгрышем, но заставившим волноваться, она слегка толкнула его:
– Ладно тебе, ты хороший артист, хороший. Вставай, Лева, примем еще по чуть-чуть. – В ответ ни звука, ни движения. Клава вдруг улыбнулась, приблизила губы к его уху и прошептала тоном заговорщика: – Левка, клянусь, что проголосую на художественном совете за повышение твоей ставки! А?
И посмотрела на его реакцию, лукаво прищурившись. По ее мнению, он должен был вскочить и заплясать от радости, ну а потом обмыть обещание. Ставку Леве постоянно рубили из-за пристрастия к алкоголю, а точнее, из-за того, что срывал в нетрезвом состоянии спектакли. Она тоже робко поднимала ручку против повышения его зарплаты по указанию директрисы. Зачем было разыгрывать на художественном совете эти представления, она не понимала, но каждые осень и весну Галеев выдвигался на повышение зарплаты, а потом успешно задвигался обратно. Он же после «задвижения» запивал. Все повторялось два раза в год с неизменной цикличностью.
Клава выпятила нижнюю губу: реакция у Левы нулевая. Клава рассердилась, стукнула его по плечу:
– Кончай пугать! В нашем серпентарии и без твоих шуточек страшно аж жуть.
Галеев и на этот жест не отреагировал, и вообще, лежал безжизненным бревном. Клава перевела взгляд на грудь Левы – не дышит. Но может быть, он дышит незаметно? Она поднесла к его носу руку – никакого движения воздуха. Помимо воли, на нее напала дрожь, как после тяжелого похмелья. Клава затрясла Галеева за плечи, подвывая:
– О-о-ой… Левочка… ты правда умер? Ну скажи, умер, да? О-о-ой… не умирай… будь человеком, не умирай…
А сердце? Вдруг сердце бьется? Она приложила ухо к груди. В груди тихо, как в театре. Умер! – ударило ее так, будто пропустили через Овчаренко электрический ток высокого напряжения. Клава, мигом протрезвев, отползая от него на четвереньках, сначала шептала, затем шепот перешел в крик:
– Помогите! Кто-нибудь! Помогите! Милиция!.. На помощь! Аааа!!!
И понеслась Клава по лестнице вверх, перескакивая через ступеньки. Она бежала темными переходами, крича, словно встретилась с чудовищем. Споткнулась о ковровую дорожку, упала, но не переставала кричать, пока не достигла комнаты дежурного. Дежурный, перепуганный насмерть воплями, дверь не открыл, а предупредил:
– Я звоню в милицию. Все, набрал номер…
– Ой, звони! – завыла Клава, тарабаня по двери. – Звони, миленький, и открой! Мне страшно одной. Вызывай всех! Всех зови! Открой!
– Милиция? – раздалось за дверью. – Срочно выезжайте в театр, у нас опять ЧП. Грабитель забрался в здание театра! Дверь ломает, срочно приезжайте!
– Да пусти меня! – билась всем телом в дверь Клава. – Пусти, гад!
– Все, позвонил, – отозвался дежурный. – Чего орешь? Ты вообще кто?
– Овчаренко я, Клавдия Овчаренко… Пожалуйста, открой!
– Заслуженная артистка?
– Да! Да! Пусти меня, скотина! Я боюсь! Я тебя, гада…
Он приоткрыл дверь, чтобы убедиться в правдивости слов невесть откуда взявшейся женщины, называющей себя Овчаренко. Но Клава навалилась на дверь, приложив все силы, и вломилась в комнатку дежурных. Показывая в неопределенном направлении, проговорила хрипло:
– Галеев… там… Я его… а он никак… Никак он! Слышишь? Никак!
И грохнулась в обморок.
II. А день грядущий приготовил…
1
Степа встал раньше Яны, сделал легкую гимнастику. Обычно он еще и бегает вокруг дома, не столько о здоровье печется, сколько форму держит. Да и нравится по утрам пробежка, утренний воздух. Но сегодня он проснулся немного позже обычного и на бег уже не было времени. Он приготовил кофе, бутерброды и, подсев на постель, тихонько позвал:
– Яна…
Она повернулась на другой бок и с головой укрылась одеялом. Степа пощекотал ее пятку, Яна дернулась и проворчала:
– Я сплю.
– Тебе в институт, – напомнил Степа, стаскивая с девушки одеяло.
– Первую лекцию пропущу, – уцепилась она за одеяло.
– Не пропустишь. Мне не нужна жена недоучка. Поднимайся, завтрак готов. Или тебе в постель кофе подать?
Тут Яна окончательно проснулась, села, глядя на Степу округлившимися глазами, подозрительно спросила:
– Степочка, что случилось? Ты приготовил завтрак? Ай как интересно… Ну, давай кофе в постель, давай.
Он поднес ей чашку на блюдце. Яна сделала глоток, затем снова уставилась на Степу с изумлением:
– И сахар положил…
– Мало? Я добавлю.
– Нет, нормально. Просто у меня с сегодняшнего дня диета, сахара нельзя… но ради такого случая я отменю диету. А обед ты тоже приготовишь? И ужин? Я все съем.
– Ну, ты, мать, даешь! – хмыкнул Степа, поражаясь женскому коварству. Ни на йоту нельзя послабления давать. – Сегодня я тебе сделал подарок, а подарок потому так и называется, что он редкость. Так что на ужин не рассчитывай, если ты не приготовишь, его никто не приготовит. А теперь подъем!
Степа подхватил Яну на руки и понес в душ.
Не успел Степан переступить порог УВД, как дежурный окликнул:






