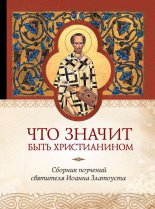Кто по тебе плачет Дружков Юрий

– Потом попадёт. Я больше никого не испугаюсь, ничему не удивлюсь.
Мы также устроили мой ночлег в коридоре, не совсем удобном, как любой коридор, но сухом и чистом, с надёжным потолком над головой, с четырьмя стенами вокруг…
Вот оно белое наваждение. Две простыни, подушка, мягкий провал в никуда.
В руке у меня холодело чудо, никогда не замечаемое прежде мягкое, нежное, в белом тюбике… Содержит биологически активные вещества… хорошо освежает рот и укрепляет дёсны… разработана совместно с НИИ гигиены… улучшенные вкусовые качества. Эти слова я никогда не разглядывал, а тут сложились буквы сами собой… Нашёл чему радоваться? Но я не радовался, нет, я наслаждался. Кто не копил таёжный перегар сухим воспалённым ртом – ничего не поймёт.
Утром она хлопотала у плитки, заваривая краденый чай. Хлеба на складе не было. Мы ели глазунью с дорожными сухарями.
После завтрака я принёс в комнату самый лёгкий приёмник, поставил на стол, включил в розетку, нажал…
Почему я должен так волноваться? Разве мы не видели приёмников?.. Я веду по шкале алую ниточку, потрескивает эфир, я жду, она стоит рядом, волнуется больше меня, потрескивает эфир…
Ни звука.
Большой диапазон, средний, малый…
Ни звука.
Привычная техника… Мы так привыкли, так машинально двигаем ручки, потом отключаем их, отключаем от себя целый мир, живой неспокойный… Как мы хотели услышать его! Музыку, слово, что-нибудь, на любом языке. Приёмник потрескивал. Из него, казалось, плыла, дышала сама вселенная, сама глубина вселенной, молчаливая на этот раз глубина.
– Ты забыл антенну! Выдвини антенну, – с надеждой подсказала она.
Я выдвинул антенну, опять погнал прямую красную линию по городам и весям.
Ни звука.
Разряды, шорох и ни единого писка, ни единого плеска, ничего.
Я приволок и поставил другой приёмник. Осмотрел его не спеша, внимательно, совсем не торопясь оглядел шкалу, ручки, заднюю панель. Включил, прогревая… не спеша, размеренно, плавно, чётко… По всем диапазонам, по всему свету.
Ни звука.
– Ты что-нибудь понимаешь в них? – усомнилась она.
– Понимаю.
– Бракованные?
– Проверю потом…
На складе я нашёл рацию. На этом лесном складе не могло не быть рации. Нашёл её, поставил на тот же стол, проверил напряжение. По лампочке над столом, по задней панели рации. Потрогал, осмотрел со всех сторон. Включил её на поиск и медленно повёл по входному диапазону, так медленно, боясь проскочить любой самый слабый сигнал.
И снова ни звука.
Подключил микрофон. Ватным голосом, будто никому, в яму, в пустоту, сказал:
– Тут в лесу два человека с погибшего самолёта. В брошенном посёлке с каменным складом. Рация номер 12321. Сто шестьдесят километров к югу от большого озера… Найдите нас… Найдите нас…
Мне казалось, мои слова уходят в пустоту, я говорю лишь коробке приёмника, больше никто не слышит меня, больше никто.
Я снова долго искал в эфире хоть какие-нибудь живые звуки. Потом выключил и стал смотреть паспорта к приёмникам, читать инструкции, радиосхемы. Снова переключал диапазоны приёмника и, к удивлению моему, слышал одно великое молчанье.
Приборы, великолепные совершенные приборы отказывались нам помочь. Или я не понимал их? Но какие нужны особые знания для чтения подробных инструкций? Они все выполнимы. Я ничего, по-моему, не упустил, я всё делал как надо.
Эфир молчал. А я слышал, как тикает в ящике стола прибор погибшего японца.
Она положила руку на мою ладонь:
– Скажи мне что-нибудь.
– Я не могу наладить приборы.
– А ты не обманываешь меня? Почему всё тихо?
– Подожди, будет громко.
– Не надо смеяться.
– Но ты понимаешь, мир не может молчать.
– Не понимаю.
– Подожди…
Я вышел из комнаты в одну из кладовок, там, где хранились на полках магнитофоны с телевизорами, лежали коробки с кассетами. На ярких наклейках улыбались артисты. Наугад взял кассету, взял магнитофон самый лёгкий, вернулся в нашу радиокомнату. В открытом окне сидела на подоконнике женщина с мокрыми глазами…
На всю поляну далеко над лесом помчалась невероятная гремучая стремительная песенка «Ах, чтобы лето не кончалось…»[5].
Мир не может молчать.
Нате вам голос, нате вам звуки. Мир не может молчать! Седые кедры застыли вокруг поляны. Оглушённые птицы, я видел, над крышей взвивались и падали, взвивались и падали, как на волнах.
Она заплакала горько и отрешённо. Я выключил магнитофон и стал утешать её, как умел. И снова я говорил ей, как тогда на воде, несвязно и бестолково… Руки мои были мокрыми от её слёз.
Бывают, наверное, такие места, где не проходят и глохнут волны. В конце концов, мир молчал тысячи лет, и никто от этого не плакал.
Ночью мне, впервые за много дней, снился мой мальчик, ясноглазый, далёкий от меня мальчик. Я гладил его макушку и смотрел, не отрываясь, в неповторимое нежное лицо ребёнка. Холодные губешки слегка прикасались к жёсткой небритой щеке, сердце сжималось от горького блаженства.
– Папа, – звал он меня, – пойдём, я покажу дорогу…
– Не могу выйти отсюда.
– Почему? Пойдём, папа…
– Её не видно, – сказал я, не умея во сне удержать, охватить, обнять самое нежное, самое доброе, что есть на свете, самое-самое…
– Но я вижу дорожку, пойдём…
Она разбудила меня резко и сразу, возвращая к тягостной тревоге. В темноте я почти видел, как её колотит от слёз.
– Да что с тобой?! – зло крикнул я. – Не смей реветь.
Но крик мой был, наверное, бесполезен. Я испугался. Жутко было в кромешной тьме коридора слышать непонятные судороги слов.
– Можешь ты, в конце концов, нормально говорить? Без этого?.. Пожалей себя, ведь я не врач.
Она плакала:
– Извини… я не смогла…
– Что не смогла?
– Это было…
– Где было?
– Там, наверху.
– Не понимаю тебя… Зажгу свет и принесу воды.
– Я не одета.
– Ну вот какие глупости. Чего тебя сильней пугает, мрак, свет?
– А тебя ничто не пугает?
– Самое страшное было и не будет.
– Почему?
– Тебе рассказать?
– Если ты можешь… Почему он разбился?
– Я не знаю.
– Война…
– Чушь!
– На свете никого нет. Мы одни…
– Ты бредишь.
– Комары… даже комары передохли.
– Но птицы летают!
– Пока летают…
Я вскочил на ноги. Стукнувшись боком о стенку, нажал выключатель… У тахты на полу – сгорбленная, ослеплённая почти не одетая босая женщина.
Ярость овладела мной.
– Покажу тебе комаров-букашек! – орал я, насильно встряхивая и поднимая женщину за руку. – Идём, истеричка, чтоб они тебя заели.
Так я вытащил её босую на жутковатую ночную поляну среди чёрного леса. Беспросветная тишина холодила нас. В руке у меня был её фонарик. Я включил его, надеясь приманить комаров на свет, успокоить взъерошенную, почти голую женщину в тонкой сорочке, и тянул её в черноту, зло ступая в колющую влажную траву.
Наверное, было тепло. Ни звука, ни шелеста, кругом тишина до самых звёзд, ярких и тоскливо холодных.
– Их нет, – всхлипнула женщина. – Их нет.
А я злыми своими пальцами слышал, чувствовал, как бешено стучит её пульс в горячей мягкой руке.
В самом деле, комаров не было. Неистребимых, вечных, надоедливых, невыносимых, неизбывных комаров нигде не было. И вдруг я увидел на прогалинке среди колючей травы одного-единственного чёрного муравьишку. Или мне показалось? Я упал перед ним на колени, увлекая наземь женщину. Кажется, она вскрикнула от боли.
– Смотри, – сказал я, – живой.
– Кто?
– Муравей.
Он воинственно шевелил чёрными усиками, ослеплённый морем света, застигнутый врасплох на лесной дороге, как подозрительный путник среди ночи под фарами патрульной машины. Сердито махнул одним, другим усиком, поднялся на задние лапки, будто ругаясь последними словами, повернул и побежал прочь в густую влажную травяную тень.
– Один-единственный…
– Дура, – сказал я ласково, – спят они по своим квартирам. Спят!
– А как же он?
– Гуляка. Бегал к подружке, а теперь домой. Боится, как бы не попало… Утром покажу тебе армию таких же усатых наглецов. Слышала, как он ругается?
– Пойдём, – сказала она тихо, – не смотри на меня. Выключи свет.
Мы вернулись домой. Она вздрагивала от холода. В открытой двери дома кружилась в потоке света ночная бабочка. Весёлая, живая, мохнатая бабочка.
Я слышал, как она стонет во сне, и долго не мог уснуть. В ящике стола мерно тикало само Время, наваждение, которое можно было выбросить, грохнуть камнем, разнести в клочья, разбить колуном. И не было никакой силы сотворить это.
Уже под самое утро я, стараясь не шуметь, оделся, выдвинул ящик стола, тихонько выбрался на воздух, прикрыв дверь. На ближней стороне поляны как живые, глядя на меня фарами глаз, отуманенными росой, молча стояли машины, удивительные в своей неподвижности, будто оставленные кем-то на ночь – целое скопище мудрёной техники…
Вот-вот зазвучат утренние сонные хриплые голоса, хлопнут металлические дверцы, гукнут моторы, двинется по лугу полчище машин, спеша на дело, на стройку, на…
Никуда.
Никто не двинет нелепое нагромождение техники, никто не войдёт под навес ангара, не смахнёт росу с ветровых стёкол. Один я стою на лесной поляне, вдыхая влажный воздух, смолистый, горький, будто я жевал одну или две хвоинки, сорванные с ветки, жевал до смоляного привкуса на губах, до смоляного холодка в груди.
Под ногами бежали россыпью нахальные, живые, милые муравьишки. Вот они мельтешат, обгоняя друг друга, шевеля усами, приветствуя наступающий день, энергичные, деловые, шустрые, такие разные, какими я никогда не видел муравьёв.
Казалось, они хлопают металлическими дверцами, покашливают хрипловато спросонок и спешат, спешат осмыслить и наполнить прохладный вступающий на поляну свежий день.
Я перешагнул великую муравьиную тропу, чтобы не повредить, не спугнуть, не порушить, и направился к ближнему лесу, в котором ещё синел туман. Я искал дырку, дупло в дереве или выем среди корней, чтобы спрятать мою проклятую чёрную тикалку подальше от неё, от себя, от весёлых живых муравьишек. И нашёл среди ветвей подходящее углубление. Вложил туда мою коробку и вернулся к постройкам.
Под навесом, в хозяйственной клади, я взял ручную пилу и короткую лопату, обыкновенный молоток, в ящике набрал гвоздей, потом выдернул из большого штабеля досок пару тесин и начал мастерить, на удивленье самому себе, что-то вроде мостика.
Сначала отпилил короткие бруски – опоры. Если хотите, быки для мостика. Лопатой выгреб в земле ямки для них, вогнал туда мои деревянные стойки, по две, на расстоянии двух метров от каждой пары. Напилил доски на равные части, положил их на стойки-опоры, начал прибивать гвоздями, слушая, как отзывается утренний лес на мой негромкий стук, словно дятел перестукивает меня в лесу. Я – стук, и он – стук. Не в один миг, а с небольшим промежутком. Тук и тук, мягко утопая в зелёной хвое. Тук и тук.
Из дома вышла ко мне лесная женщина. С припухшими глазами, удивлённая, посмотрела на мою работу. Я стучал, не торопясь объяснить ей причину создания такой деревянной конструкции. Но когда настил совсем был готов, я прошёл по нему из конца в конец, туда и обратно.
– Великий мост на Большой Муравьиной Тропе. Видишь, они бегают, – сказал я. – Никто не будет раздавлен.
В глазах её стояли слёзы. Она встала на колени, я тоже рядом с ней. Мы долго смотрели на весёлое муравьиное чудо, на беготню, суету, на маленький живой настоящий мир.
Потом она подняла взгляд на меня, молча, будто видела первый раз, окинула с головы до сандалий.
– После чая, – сказала, – выстираю бельё, поглажу тебе костюм… Не смей возражать. – Она встала, отряхивая землю с колен. – Это не трудно, машина есть… Они оставили нам всё… до стиральной машины…
Голос её на этом «оставили» дрогнул.
– Помоги мне перетащить машину.
…Помню, как мама в самые тяжкие дни умела занять себя дома работой. Она стирала, гладила, перешивала что-нибудь, мыла каждый день полы в комнате и на кухне, скребла доски ножом до матовой белизны, до усталости. Носила воду от колонки, свежую ледяную в полных вёдрах, ставила бак на плиту, купала меня в корыте, готовила, кружилась целый день, забываясь в утешительной горькой занятости. Не помню, чтобы когда-нибудь она жаловалась, одинокая моя, неудачливая, бедная до нищеты мама. Но так получалось, так выходило: если мамины плечи опускались надолго в молчаливой работе, у меня тоскливо холодело внутри от неясного предчувствия горя, от невозможности утешить её, понять, отвести неминучую взрослую беду, хотя всё вокруг сияло, дышало свежестью. Даже любимец мой, верный как собачонка, пушистый кот, входя в горницу, на белый деревянный пол, всегда почему-то замирал на месте, шевелил усами, вдыхал арбузный аромат свежих досок и отряхивал смешно, как воспитанный человек, идущий в гости, свои мягкие лапы.