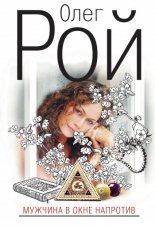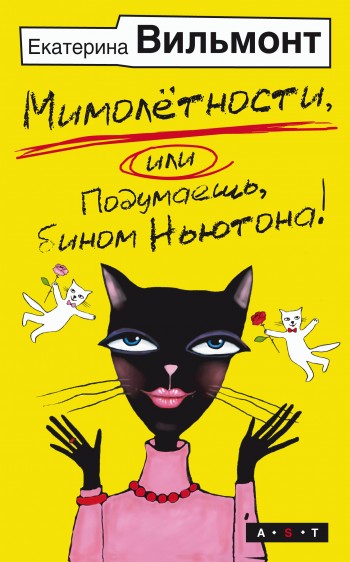Небо над бездной Дашкова Полина

– Ничего, извини, – Тамерланов всхлипнул и высморкался, – помнишь Машу?
Петр Борисович, безусловно, помнил.
Степь. Темная точка на горизонте, которая стремительно приближалась, стала всадником в облаке пыли, а потом оказалась всадницей, изящной тридцатилетней женщиной, русоволосой, с темным от пыли лицом. Только глаза и зубы блестели.
Да, Петр Борисович помнил Машу. Пару лет назад ради нее Тамерланов разогнал свой многонациональный гарем. Сиял от счастья, уверял, что кроме нее никто ему не нужен. Но она исчезла куда-то, ее место рядом с губернатором заняли безликие модели, и Кольт все не решался спросить, что случилось.
– Ей стали приходить письма и картинки по электронной почте. Каждый день она включала компьютер и узнавала обо мне что-то новое. Нет, вначале она не верила, смеялась. Потом перестала смеяться. Хмурилась, задавала вопросы. Знаешь, есть такая древняя китайская казнь. Капает вода на макушку. Кап, кап. Всего лишь водичка. Не кислота, не раскаленный свинец, совсем не больно, однако человек сходит с ума и мучительно умирает. Вот так умерла наша любовь. Маша от меня уехала, и пришлось опять завести гарем.
Петр Борисович сочувственно взглянул на Тамерланова, сказал:
– Надо же, Герман, я не знал этого. Как жаль, она такая милая. А ты не пытался ее вернуть?
Губернатор ничего не ответил, как будто оглох. Слезы высохли, глаза расширились. Секунду он сидел неподвижно, и вдруг лицевые мышцы зашевелились, словно под толщей кожи что-то ползало и перекатывалось. Произошел сбой механизма, переводящего эмоции в мимику. Лицо губернатора ходило ходуном. Только глаза оставались неподвижными, смотрели в одну точку, в переносицу Петра Борисовича. Это продолжалось всего несколько мгновений и закончилось так же внезапно, как началось. Герман Ефремович энергично покрутил головой. Лицо его вернулось на место, приобрело нормальную форму и человеческое выражение.
– Герман, у тебя нервный тик? – спросил Петр Борисович.
– Тик? У меня? С чего ты взял?
– А что у тебя сейчас было с лицом?
– С лицом? – Тамерланов быстро ощупал щеки, подбородок, встал, подошел к зеркалу, посмотрел внимательно. Со спокойным, довольным выражением вернулся в кресло.
– По-моему, я отлично выгляжу. Не понимаю, о чем ты? Что тебе не понравилось?
Изумление казалось столь искренним, что Кольт почувствовал колючий холодок в солнечном сплетении. Губернатор не заметил, не понял, что с ним случилось минуту назад.
«Теперь это мне приснится в самых жутких кошмарах», – отстраненно подумал Кольт и сказал, хрипло кашлянув:
– Понравилось, не понравилось. Не в этом дело. Просто я давно не видел тебя таким грустным. Ты стал говорить о Маше, и у тебя были слезы.
– Я поделился с тобой своей личной драмой потому, что ты мой друг, Петр, – спокойно произнес Тамерланов, – и, как друга, призываю тебя подумать о ПОЧЦ. Партия может стать нашим оружием, в том числе и против личных врагов. У нас с тобой, как у кровных братьев, общие враги.
Бессменный губернатор Вуду-Шамбальского округа считался там живым воплощением древнего божества Йоруба. Жители молились его бюстам. Давно, в начале девяностых, губернатор пожаловал Петра Борисовича титулом воплощенного Пфа, брата Йорубы. Так что, в определенном смысле, они действительно были кровными братьями.
Их связывала нефть, которую степные жители величали кровью земли. Их связывали конезаводы. Торговля элитными степными жеребцами приносила значительную прибыль и позволяла завязывать полезные деловые контакты на мировом уровне.
Их разделяла трава кхведо, степная конопля, которой Тамерланов, вопреки разумным предостережениям Кольта, тихо приторговывал, не для денег, а из куража.
С Тамерлановым можно и нужно было дружить. Качать нефть. Торговать жеребцами. Но делить с ним парламентское лобби – близость слишком интимная.
Во время переговоров Петр Борисович вел себя сдержанно, не давал прямых ответов и обещал подумать. Теперь он сидел и думал в одиночестве, прослушивал диктофонную запись, пил ромашковый чай, мял сигарету, не разрешая себе закурить, потому что в таком состоянии, если начать, выкуришь пачку за пару часов и не заметишь.
Высокий возбужденный голос Тамерланова в записи звучал еще убедительней, чем живьем. Под каждым его доводом Петр Борисович мог бы подписаться. Однако был какой-то подвох, не могло не быть подвоха. Два момента особенно смущали Кольта. Во-первых, откуда знает Герман о виртуальных атаках? Или даже так: откуда он знает, что Петра Борисовича эти атаки серьезно беспокоят? Во-вторых, что случилось с лицом губернатора?
Тамерланов был значительно моложе Кольта, отличался завидным здоровьем. При внешней возбудимости он прекрасно владел собой, его эмоциональные всплески, громкий смех, вспыльчивость, дурашливость составляли часть продуманного образа.
«Неужели Герман все-таки подсел на травку кхведо?» – осторожно спросил себя Петр Борисович и побоялся самому себе ответить.
Стоило задержать взгляд на любом предмете, будь то настольная лампа, чашка с недопитым чаем, пресс для бумаг в виде серебряной летучей мыши, лиловый лотос в узоре ковра, огни за окнами, блики на стекле, смутное отражение самого Петра Борисовича, и тут же возникала подвижная мягкая рожа. Словно невидимые насмешливые пальцы быстро мяли сырую глину, лепили складки разных гримас, разглаживали, опять лепили.
«Травка кхведо – это было бы хорошо, понятно, просто. Если бы травка, если бы!» – думал Петр Борисович, пытаясь отогнать видение.
Не получалось. Оно проникало даже сквозь сжатые веки. Колючий холодок в солнечном сплетении никак не уходил, простреливал тело короткими ледяными иголками. Одна иголка пронзила мозг, стало больно и совершенно ясно, что несколько мгновений здесь, в кабинете, вместе с губернатором Тамерлановым, или вместо губернатора, был кто-то другой.
Петр Борисович все-таки закурил, хотел вызвать секретаршу, просто так, чтобы больше не оставаться в одиночестве, но тут позвонил Зубов.
Голос его звучал необычно, слишком тихо. И тон был странный, отчужденный, прохладный. Сначала Иван Анатольевич поинтересовался, как прошли переговоры, выслушал пространный раздраженный ответ и только потом, между прочим, сказал, что у старика случился сердечный приступ. Состояние тяжелое, но в больницу вредный старик ехать отказался.
Видение наконец улетучилось. Кольт очнулся, распорядился, чтобы рядом с Агапкиным постоянно находились врач-кардиолог и профессиональная сиделка, и помчался на Брестскую.
Пока он ехал, окончательно пришел в себя. Реальный, полновесный страх за старика навалился могучей глыбой на все прочие чувства и оставил от них мокрое место. Петр Борисович забыл не только о физиономических метаморфозах вуду-шамбальского губернатора, но и о самих переговорах. Теперь в нем дрожал и вибрировал отчаянный внутренний монолог, обращенный к Агапкину: «Что это ты надумал? Что такое в голову твою плешивую пришло? Предатель, вредный старикашка! Из-за чего, собственно? Из-за собаки? Да, согласен, Адам был отличным псом, умницей, жалко его, даже мне будет его не хватать. Я найду тебе щенка пуделя, точно такого, черного кобелька. Я все для тебя сделаю, только не уходи! Не смей помирать! Не бросай меня!»
Москва, 1922
На самом деле товарища Дельфийского звали Аполлон Васильевич Гречко. Он был родом из Орловской губернии, из мелкопоместных дворян. Учился немного. После гимназии прослушал лекции на медицинских факультетах Киевского, Казанского и Московского университетов, везде не более семестра. Его влекла иная, тайная наука. Он именовал ее «Дюнхор», и слово это всегда произносил, не разжимая губ, глухо и медленно.
«Дюнхор» охватывала абсолютно все области знания, от астрономии до антропологии, от физики до философии. Овладев ею, можно было читать чужие мысли, мгновенно перемещаться в пространстве и во времени на любые расстояния, излечивать все болезни потоками различных энергий, овладевать иностранными языками, в том числе и самыми древними, мертвыми, за несколько дней.
Бокий привел Гречко и трех его барышень в дом к Михаилу Владимировичу пару месяцев назад, заявил, что Дельфийский с группой учеников (имелись в виду барышни-пифии) планирует экспедицию в дикие степи Вуду-Шамбальской губернии. Именно там, по его мнению, прячется в пещере один из древних сакральных центров «Дюнхор» и было бы разумно объединить усилия.
– Там степь, нет никаких пещер, – осторожно напомнил Михаил Владимирович.
В ответ пришлось выслушать пространную лекцию Гречко о том, что пещера в данном случае иносказание, символ, означающий вечно спящее и вечно бодрствующее подземное сердце мироздания. Для непосвященного пещера может стать опасной, поскольку подавляет витальную энергию, что, в свою очередь, является знаком для посвященного. Посвященный это подавление чувствует, умеет энергию свою надежно спрятать, вовремя закрыв все чакры, и без вреда для здоровья определить, где именно следует копать яму, чтобы проникнуть к тайнику древних знаний.
– Если я правильно понял, вы намерены искать в степи какой-то клад? – осторожно уточнил профессор.
– Да, именно клад. Кладезь бесценных знаний, который составляет абсолютную, бесконечную, неограниченную и в то же время все наполняющую первосущность. Наподобие математической точки, она не имеет измерений. У нее нет протяженности, длины, толщины, ширины, высоты. Она не занимает пространства. Но именно в ней, в точке, не имеющей измерений, скрыты в потенциальности все измерения.
Михаил Владимирович решил впредь ничего не уточнять, попытался объяснить, что вряд ли стоит затевать совместную экспедицию, поскольку задачи слишком разные.
– О, нет, задачи наши сходны, вы ищите философский камень, он также является сердцем мироздания, одновременно представляя собой глаз Великой богини, в котором, когда открывается, возникают миллиарды новых миров, а когда закрывается, эти миры исчезают, – принялся объяснять Аполлон Васильевич.
– Что вы, – возразил профессор, – мне нужно раздобыть там всего лишь несколько дюжин крыс, и вряд ли я отправлюсь скоро. Из-за голода всех крыс в Вуду-Шамбальской степи съели. Честное слово, вам не стоит со мной связываться, слишком долго придется ждать.
Но Гречко заверил профессора, что у него было видение: явился посланник от Высших посвященных и приказал ему отправиться в степь непременно вместе с профессором.
С тех пор оракул стал регулярно навещать профессора. Каждый раз Михаил Владимирович думал, что надо бы выставить его вместе с пифиями за дверь или хотя бы сказаться больным, но не хватало решимости, к тому же Бокий настаивал, чтобы профессор не спешил с выводами, внимательней присмотрелся к оракулу. Вдруг за его занудством и странностями кроется нечто уникальное, неразгаданное, и это нечто поможет профессору в его работе над препаратом.
Дельфийский был высок, жилист. Длинное помятое лицо венчали жесткие, прямые, дыбом поднятые волосы цвета чернобурки, с красивыми серебряными прядями. Пенсне плотно сидело на широкой переносице, скрывало припухлые сонные глаза. Когда он молчал, нижняя губа отвисала, мокро блестела, что делало его похожим на пожилого терьера, задремавшего с высунутым языком. Это милое сходство вначале кое-как мирило Михаила Владимировича с новым знакомцем. Но беда была в том, что товарищ Гречко молчал редко. Голос его, громкий, тонкий, почти женский, от возбуждения взлетающий до визга, имел свойство долго звенеть в ушах, и даже когда дверь закрывалась за гостями, чудилось, что оракул продолжает вещать из всех углов квартиры.
Две пифии были юные, кукольно хорошенькие, похожие, как сестры, но одна блондинка, другая брюнетка. Третья, пожилая, изможденная, с лицом без бровей и ресниц, словно застиранным до мертвенной белизны, была, как выяснилось позже, законной женой товарища Гречко. В отличие от юных, смиренно молчавших, она иногда вступала в разговор. Аполлон Васильевич предоставлял ей право голоса, поскольку она умела вдыхать так называемую «пневму», незримую духовную субстанцию, выделяемую оракулом, и перерабатывать ее в речевые потоки. Юные пифии этим искусством еще не овладели, только учились.
Вся компания живописно расположилась в гостиной. Оракул в кресле, пифии на полу, у его ног. Поодаль, у окна, стоял незнакомый человек, маленький, как подросток. Голова казалась огромным огненным шаром из-за рыжей, буйно курчавой шевелюры и как-то не очень надежно держалась на длинной тонкой шее. Звали его Валентин Борисович Редькин. Знакомясь, он крепко пожал руку профессору и со смущенной улыбкой объяснил, что на самом деле фамилия его звучит иначе. Реденький. Но поскольку в гимназии из-за такой фамилии над ним смеялись, он решился сменить ее.
– Реденький, маленький, бедненький, у-тю-тю! Так меня дразнили. Я, знаете ли, горд и обидчив, как все лилипуты.
– Ну, вы вовсе не лилипут, Валентин Борисович, у вас нормальный мужской рост, просто не очень большой, – мягко заметил профессор.
– Михаил Владимирович, называйте меня, пожалуйста, просто Валя. Вы, конечно, не помните, но я слушал у вас курс лекций по мозговой хирургии. Экзамен, правда, сдавать пришлось не вам, вы укатили на фронт.
– Позвольте, когда ж это было?
– В русско-японскую.
Вначале профессор подумал, что Бокий ошибся, представив рыжего крошку опытным психиатром, ибо на вид этому хрупкому головастику нельзя было дать больше двадцати лет. Но, вглядевшись в скуластое конопатое лицо, понял, что Реденький давно не мальчик, ему около сорока. Огонь шевелюры приглушен сединой. Большие зеленые глаза только кажутся наивно-детскими, на самом деле это глаза усталого умного старика.
Марго спала на плече у Михаила Владимировича, крепко вцепившись коготками в джемпер.
– Мармозетка, золотистый игрун, – мгновенно определил Валя, – удивительно разумные и ласковые зверьки. Кто же так исполосовал беднягу?
– Да нашелся один сумасшедший злодей, – ответил за профессора Бокий, – но он свое уж получил сполна.
– Странный, крестообразный шрам, – продолжал Валя, разглядывая обритую макушку спящей обезьянки, – так, кажется, делали древние жрецы-сонорхи, только не с обезьянами, а с людьми, для каких-то таинственных ритуальных целей.
Из кухни пришли Таня и Федор. Няня давно спала, и стол к чаю накрывали они. Михаил Владимирович заметил, как Федор блаженно замер, ненароком прикоснувшись к Таниной руке, и как Таня убрала руку из-под его ладони. Федор болезненно сморщился, повернулся слишком резко, попал локтем в чашку с чаем. Рукав рубашки задымился.
– Растяпа, там кипяток, – сказала Таня и быстро увела его.
– Неограниченная форма – химизм заключается в растительной протоплазме, – вещал между тем товарищ Гречко. – Клетка-протоплазма заключается в животной форме. Таким образом, химизм проницает и растительную, и животную формы.
Марго уютно посапывала возле уха профессора. Пушистый хвост обвил шею, как шарф. Было тепло и щекотно. Таня и Федор все не возвращались. Рыжий малыш Валя уселся в кресло напротив Дельфийского, Бокий встал у окна и закурил.
– Из совокупности всеобъемлющей, всесодержащей потенциальной субстанции и всеобъемлющей общей формы, первого потенциального начала, в ней содержащегося, из нее восставшего, оформляется впервые универсальный механизм мироздания с его бесконечно разнообразными применениями.
Валентин молчал и смотрел на оракула. Тот продолжал говорить и снял пенсне, он сделал это как будто машинально, хотя прежде никогда без пенсне Михаил Владимирович его не видел.
В руке малыша между тем появились часы-луковица. Он держал короткую цепочку двумя пальцами. Золотой кружок медленно покачивался. С каждой минутой высокий голос Гречко звучал все медленней, глуше. Если бы профессор не был так занят мыслями о дочери и о Федоре, он бы заметил, что две юные пифии мирно спят, припав головами к бокам кресла, а третья, пожилая, уставилась в одну точку немигающим взглядом и тихо, жалобно мычит.
– Пол, я буду говорить с вами, – произнес головастик по-английски.
– Да, сэр. Я готов, сэр, – ответил Гречко, тоже по-английски.
– Встаньте, Пол, – приказал Валя.
Оракул подчинился.
– Освободите ваши карманы, Пол.
Глядя на луковицу часов, которая уже не качалась, а неподвижно застыла в руке Вали, оракул извлек из карманов галифе несвежий носовой платок, три сушки, костяную женскую гребенку с отломанными зубьями. Затем последовало содержимое пиджачных карманов. Кусок колотого сахару. Резиновая женская подвязка.
Круглое зеркальце в золоченой оправе. Две серебряные чайные ложки.
– Пол, вы можете сесть, – продолжал Валя, – вы больше никогда не возьмете чужого. Никогда. Как только вы прикоснетесь к чужому, ваши руки покроются экземой, пальцы распухнут, слезут ногти. Вам будет очень больно, Пол. Брать чужое больно, опасно. Пол, вы слышите меня?
– Да, сэр.
– Покажите руки.
Оракул вытянул кисти перед собой. Под ярким светом лампы стало видно, что кожа покраснела, покрылась беловатой сыпью. Несколько мгновений было тихо. И вдруг Валя трижды хлопнул в ладоши. Луковицы уже не было в его руке. Михаил Владимирович вздрогнул, проснулись все, даже обезьянка. Оракул растерянно моргал и озирался. Пожилая пифия вскочила, взглянула на предметы, выложенные на столе, взяла гребенку и тихо произнесла:
– Вот она где, а я уж обыскалась!
– Ой, моя подвязка, – тонко вскрикнула юная белокурая пифия.
– Зеркальце, вот радость, это мне тетушка подарила, как я седьмой класс гимназии окончила, – прощебетала пифия черноволосая.
Оракул, морщась, разглядывал свои руки. Бокий успел бесшумно подойти к профессору и стоял совсем близко.
– Впечатляет? – спросил он шепотом, на ухо.
– Еще бы, – ответил Михаил Владимирович, – но почему Пол? И почему по-английски?
– Отец его был англоман, звал сына не Аполлошей, а Полом, на английский манер. Позже именно так называли его другие люди. Между прочим, это как раз самое главное в эксперименте. О клептомании нам было давно известно. Мы хотели проверить кое-что другое. Проверили. В итоге я проиграл Вале бутылку французского коньяку.
– Глеб, это нечестно, – подал голос головастик, – вы же знаете, я не употребляю спиртного.
Он сидел далеко, не мог слышать, о чем шептались Бокий и профессор, однако услышал либо прочитал по губам и вступил в диалог.
– Ничего, Валя, – улыбнулся в ответ Бокий, – хороший коньяк никогда не помешает. Пригодится в качестве взятки какому-нибудь комбюрократу.
– Да, а потом ваши орлы выклюют мне печень за пособничество буржуазной коррупции.
Профессор рассеянно слушал, гладил Марго, которая перебралась с плеча на руки, и волновался все больше оттого, что Тани и Федора до сих пор не было.
– Михаил Владимирович, они сами разберутся, – обратился к нему Валя.
Профессор вспыхнул, хотел сказать: Таня замужем, она потом себе не простит, и вообще откуда вы знаете, о чем я сейчас думаю?
Но ничего этого он не сказал, отвел взгляд от зеленых глаз головастика, достал папиросу. Валя встал, подошел к нему, чиркнул спичкой и дал прикурить.
– Вы напрасно так сильно переживаете, – он взглянул снизу вверх и улыбнулся широкой открытой улыбкой. – Они взрослые люди, это их дело. Лучше посмотрите, ложки, кажется, из вашего буфета.
Да, это были те самые, о которых так пеклась няня, с бабушкиной монограммой на черенке.
Москва, 2007
Соня села на край кровати, приложила ладонь ко лбу старика, увидела, как задрожали веки, скривились мягкие, запавшие без зубных протезов губы.
– Федор Федорович, пожалуйста, очнитесь.
– Танечка, – произнес он чуть слышно, – ты пришла, ты здесь.
– Это я, Соня. Послушайте, у меня есть препарат. Но я не могу решить за вас. Это только ваш выбор.
– Танечка, поцелуй меня, как тогда, помнишь? Нет, не возражай, не лги, тогда ты меня любила, пусть лишь один вечер, несколько минут, мгновение, но любила, меня, а не его. Я знаю.
– Федор Федорович, пожалуйста, прошу вас, откройте глаза, вы должны прийти в себя. Мне нужно поговорить с вами. Пожалуйста!
– Я обварил руку, и ты испугалась. В гостиной было много народу. Бокий, оракул с пифиями. Рыжий Валька показывал свои фокусы, но мы не видели. Мы ушли. Ты стала снимать с меня рубашку, просто чтобы не было ожога, чтобы я переоделся в сухое. Я обнял тебя, очень сильно, может быть, даже грубо. Я не мог больше терпеть.
В дверном проеме возник Зубов, встал, прислонившись плечом к косяку, чуть слышно спросил:
– Неужели очнулся?
– Боюсь, нет. Он бредит.
Без вставных челюстей речь старика звучала совсем невнятно, но Соня понимала каждое слово. Она больше не перебивала, затаив дыхание, слушала почти беззвучный, шуршащий, как сухие листья, голос.
– Никто не вошел, никто ничего не узнал. Павла ты любила всю жизнь. Меня только мгновение. Оно длится до сих пор. Оно бесконечно, и оно принадлежит мне. Танечка, поцелуй меня.
Соня прикоснулась губами к его сухой щеке.
– Скажи, если бы не ранение Павла там, в Галлиполи, если бы не случилось того странного страшного совпадения, ты бы осталась со мной? Не молчи, скажи, Танечка.
– Да, – нерешительно произнесла Соня.
– Не слышу. Скажи еще раз.
– Да, я бы осталась.
– Но это невозможно, ты не могла остаться в России. Я не мог бежать с тобой. Нас бы убили. Всех. Теперь ответь. Ты наконец пришла за мной? Я свободен? Ты заберешь меня отсюда, прямо сейчас?
– Нет.
Зубов вздохнул и покачал головой. Рядом с ним появился Дима Савельев. Он хотел сказать что-то, но Соня хмуро взглянула на него и приложила палец к губам. Старик продолжал бормотать.
– Таня, я очень устал, я хочу к тебе. Все равно куда, лишь бы с тобой. Я так соскучился.
– Нет, – упрямо повторила Соня.
– Почему?
– У меня есть препарат. Прямо сейчас я могу сделать вливание.
– Ты думаешь, это нужно?
– Это необходимо, я уверена.
– Паразит меня не отпустит, если будет вливание, мне придется остаться здесь, с ними, с чужими. Адама нет. Я никому тут не нужен. Зачем?
– Вы нужны, вы очень нужны мне. Я не справлюсь без вас, Федор Федорович, я слишком мало знаю и пока ничего не могу.
– Ты права. Как всегда, права. Мои долги никто за меня не заплатит. Они слишком велики, они огромны, поэтому приходится жить, жить. Я не жалуюсь, ты и так знаешь, как это тяжко. Ты всегда рядом со мной, я чувствую тебя, не только во сне, но и наяву ты рядом. Иначе жизнь была бы мраком и пыткой. Но видишь, все повторяется. Ты уходишь. Я остаюсь. Ты свободна, я еще нет. Я люблю тебя. Обещай, когда наступит мой срок, когда отпустят меня на свободу, ты придешь за мной. Ты, Танечка, заберешь меня. Обещаешь?
Соне стало холодно, руки и ноги заледенели, все внутри дрожало, во рту пересохло, язык прилип к небу. Зубов подошел на цыпочках и прошептал:
– Ответьте ему, не молчите.
– Обещаю, – сказала Соня.
Вены у старика были крупные, выпуклые, кожа совсем тонкая. Соня удивительно легко, как профессиональная медсестра, ввела иглу. Ей вовсе не показалось странным, что в голове ее в этот момент звучала молитва «Отче наш», от начала до конца, хотя никогда прежде она не могла вспомнить ее всю и произнести наизусть.
Глава седьмая
Москва, 1922
Таня шла так быстро, что пятилетний Миша едва поспевал за ней и жалобно повторял:
– Мама, я не могу, я сейчас упаду.
– Прости, Мишенька, – она сбавляла темп, но забывалась и опять бежала.
– Ты обещала, мы просто погуляем, а сама спешишь. Почему ты всегда спешишь? – хныкал Миша.
Таня взяла его на руки. В шубейке, в валенках он был тяжелый, она скоро стала задыхаться. В голове у нее звучал незнакомый женский голос с сильным акцентом: «Пожалуйста, не опаздывайте. У меня очень мало времени».
Таня хотела выйти пораньше, но няня скверно себя чувствовала. Пришлось взять ребенка с собой.
Она рассчитывала доехать на трамвае. Была бы одна, обязательно попыталась бы влезть в переполненный вагон. При неудаче решилась бы даже вскочить на подножку. Но с Мишей рисковать не могла, поэтому мчалась пешком.
Подошвы скользили, ледяной ветер бил в лицо.
– Мама, ты плачешь? – испуганно спросил Миша.
– Нет. Это из-за ветра слезы. Потерпи немного. Мы почти пришли.
В начале Гоголевского бульвара она опустила Мишу на землю, крепко взяла его за руку и пошла медленней. Встречу ей назначили в центре бульвара, на скамейке.
Она опоздала всего на пять минут и только сейчас заметила, что скамеек нет. Ни одной не осталось.
– Мама, мы уже пришли? Куда мы пришли? Тут ничего нет, – сказал Миша.
Какой-то пухлый совслужащий в ушанке, в новеньком дубленом тулупе, с портфелем под мышкой, остановился, пристально посмотрел на Таню.
– Гражданочка, мы с вами где-то встречались.
«Что, если звонившая дама прислала вместо себя этого типа?» – подумала Таня.
– Мне ваше лицо очень знакомо, – продолжал толстяк, – не хотите ли пройти в кондитерскую, погреться? Угощу вас какао и пирожными.
Вглядевшись в щекастое курносое лицо, в маленькие заплывшие глазки, она поняла, что перед ней никакой не посланник, а самый обыкновенный приставала.
– Мальчик, ты любишь какао? – обратился приставала к Мише и присел перед ним на корточки.
– Дядька, ступай прочь! – спокойно ответил Миша и показал язык.
Так научила его говорить няня, если кто-то незнакомый подходит на улице.
– Какой грубый мальчик, – строго заметил толстяк, – вы, гражданочка, плохо воспитываете своего ребенка.
– Пожалуйста, оставьте нас в покое, – сказала Таня.
– Напрасно брезгуете, мадам, – толстяк фыркнул и пожал плечами, – при вашей болезненной худобе, да еще с довеском в виде ребенка, вы, как говорится, дамочка на любителя. Вам, прошу пардону, кочевряжиться не надо.
– Уйди, дурак! Как дам в морду! – крикнул во все горло Миша, затопал и замахал кулачками.
Вот этому никто его не учил. На детский крик стали оглядываться прохожие, и приставала поспешил исчезнуть.
– Мама, я правильно его прогнал? – спросил Миша, гордо вскинув голову.
– Да. Ты молодец, – Таня взглянула на маленькие наручные часы, подарок Федора.
– Мама, что такое довесок? Это плохое слово?
– Само по себе не плохое, но о человеке так говорить нельзя.
– А кочеряжить это от кочерыжки?
– Нет, это значит капризничать.
Миша вдруг засмеялся, очень громко, неестественно, и принялся дергать Таню за руку. Это была его обычная манера. Он требовал, чтобы мама смеялась вместе с ним.
– Ой, не могу! Ну и дурак! Капризничают люди, когда спать не идут или рыбий жир не пьют! Совершенно глупый дурак! Ничего не понимает в жизни!
Ждать уж больше не стоило, но Таня как будто приросла к земле, не могла сдвинуться с места и почти не слышала Мишу. Он перестал смеяться, обиженно выпятил губу, помолчал пару минут, совсем уж собрался заплакать, но раздумал и важно спросил:
– Ты видела, как дядька струсил? Это я его напугал!
– Конечно, Мишенька.
– Ты расскажешь Федору, как я прогнал плохого глупого дядьку?
– Обязательно расскажу.
– И няне? И деду, и Андрюше? Всем расскажешь, какой я грозный? Дядька большой, толстый и меня испугался. Раз-два, и убежал. Мама, почему мы стоим? Пойдем к Арбату.
– Да, Мишенька, сейчас пойдем, – рассеянно ответила Таня и в последний раз огляделась.
– Мама, ты что? – Миша дернул ее за руку. – Ты разве не слышишь, я сказал: пойдем к Арбату! Почему ты совсем не радуешься, что я запомнил улицу?
– Я радуюсь, ты молодец, – пробормотала Таня, шагнула вперед, но вдруг остановилась.
К ним навстречу шла высокая молодая дама. Она шагала широким мужским шагом, но при этом выглядела удивительно женственно. Белая шубка, сапожки на высоких каблуках, вздернутый подбородок, гордая осанка, независимый надменный вид – все в ней выдавало человека, не изведавшего ужасов военного коммунизма.
– Добрый день, мадам Данилофф, – сказала она по-французски.
Повеяло забытым, головокружительным ароматом дорогих духов. У дамы было крепкое сухое рукопожатие, из-под шляпки на Таню смотрели серые, очень красивые и холодные глаза.
– Мама, кто это? – испуганно прошептал Миша.
– Вы не предупредили, что явитесь с ребенком, – строго заметила дама, – и почему я видела возле вас какого-то мужчину? Кто это?
– Никто. Посторонний человек, он подошел случайно, – виновато пробормотала Таня, – а сына я никак не могла оставить дома. Простите.
– Ну, ладно, не будем стоять на месте, мы привлекаем внимание, идемте куда-нибудь.
Они двинулись вперед, к Арбату. Миша молчал, изумленно и обиженно. Дама ему не понравилась, к тому же шли опять слишком быстро. Он вырвал руку, забежал вперед, встал, вскинув голову, уперев кулачки в бока, и громко спросил:
– Мамочка, эта белая дама кто?
– По телефону я не рискнула представиться, – сказала дама, сдержанно улыбнувшись, – меня зовут Элизабет. Я работаю в Нансеновском фонде помощи голодающим. Честно говоря, я едва узнала вас, вы выглядите значительно старше, чем на фото, которое передал ваш муж.
– Вы видели моего мужа?
– Нет. Мой муж общался с вашим мужем в Галлиполи. Могу вас поздравить, месье Данилофф присвоено звание генерала. Он передал для вас письмо, однако мы с мужем решили, что это может быть опасно. Ваш отец служит у Ленина.
– Мой отец врач, он вовсе им не служит.
– Ну, не знаю, как это называется. Он часто бывает в Кремле. По нашим сведениям, туда пускают только проверенных людей, членов большевистской партии.
– Нет, он не состоит в партии, он просто консультирует, лечит их. Где же письмо?
У Тани сел голос, она могла говорить только шепотом.
– Я уже объяснила, письма у меня нет. Когда мы отправлялись в эту страну, нас предупредили, что при всем кажущемся хаосе тайная полиция, ВЧК, здесь работает великолепно, особенно это касается Москвы и Петрограда. Я и так сильно рискую, встречаясь с вами. Но поскольку месье Данилофф ранен, я не сочла возможным пренебречь обещанием, пусть даже данным не мной, а моим мужем.
– Ранен?
Таня остановилась, сильно сжала Мишину руку. Ей было известно, что в ноябре двадцатого Павла, тяжело раненного, полумертвого вывезли из Ялты, когда эвакуировалась армия Врангеля. Она знала, что он выжил, служит в штабе генерала Кутепова в Галлиполи.
– Не надо так пугаться, теперь опасность для жизни миновала, – смягчилась дама, заметив, как побледнела Таня.
– Это уже третье ранение.
– Третье? Да, неприятно. Что делать, он военный. – Элизабет грациозно повела плечами. – Ну, успокойтесь, уже все хорошо. Он поправляется.
– Благодарю вас, Элизабет. Скажите, как это могло произойти? Там ведь нет боевых действий.
– О, там есть нечто другое, едва ли не худшее. Разочарование. Деградация. Кое-кто не выдерживает, сходит с ума. Одному молодому капитану померещилось, будто генерал Данилофф – красный шпион, на том основании, что его тесть в Москве лечит Ленина, ну и еще, при генерале живет еврейский юноша, Джозеф Кац. А для некоторых деятелей белого движения все евреи красные.
– Джозеф Кац? Ося! Боже мой, о нем так давно не было вестей. Скажите, как он? Я не видела его сто лет.
– Джозеф – прелестный мальчик, талантливый журналист, своего рода феномен. В столь юном возрасте уже приобрел популярность, пишет забавные очерки для французских газет. Именно он привел моего мужа к месье Данилофф в госпиталь.
– Ося пишет по-французски? Его печатают? Простите, у меня голова идет кругом. Вы сказали, какой-то сумасшедший капитан стрелял в Павла из-за папы, из-за Оси?
– Перестаньте. Джозеф и ваш отец тут абсолютно ни при чем. Что за странная манера у вас, русских, все усложнять и добавлять себе страданий, которых у вас и так сверх всякой меры? Стрелял сумасшедший. Хотел убить, но только прострелил плечо. Сама по себе рана пустяковая, однако помощь подоспела не сразу, месье Данилофф потерял много крови.