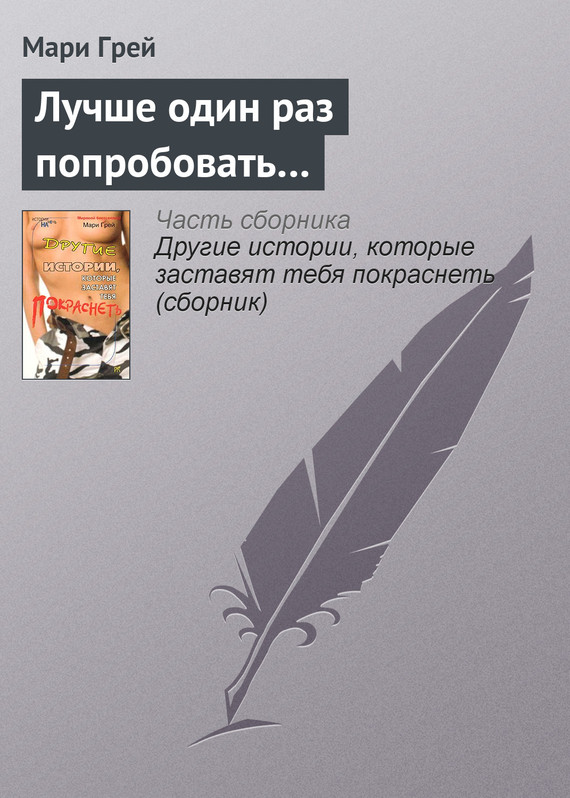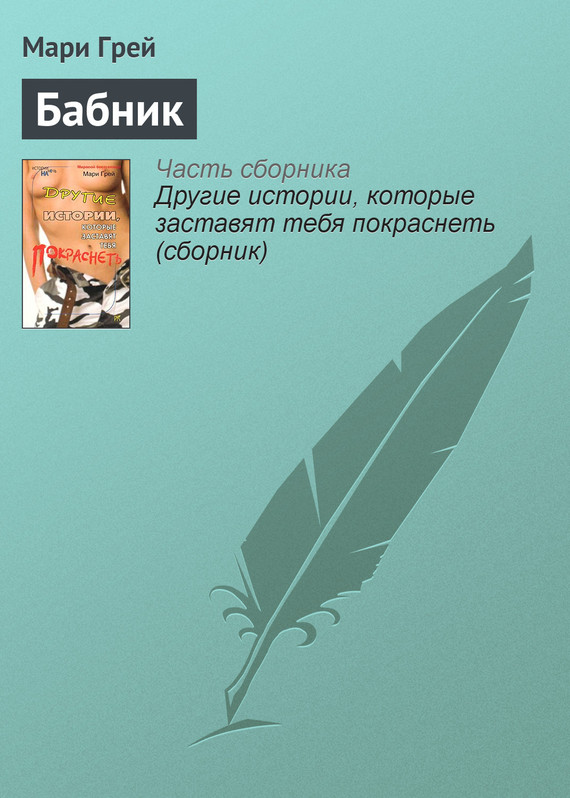Перпендикуляр Веллер Михаил
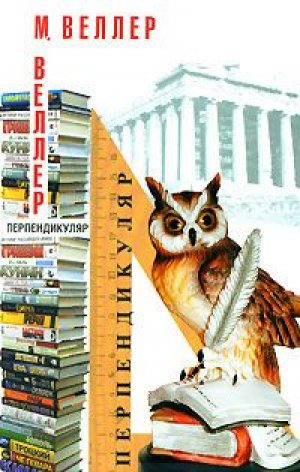
Русская классика как апокриф
Лекция, прочитанная в университете Турина, Италия, в 1990 г.
Когда-то, давно-давно, в общежитии филологического факультета Ленинградского университета, будучи студентами-первокурсниками, мы впервые читали невесть как и кому в руки попавшие литературные анекдоты Хармса. А отчасти, может быть, и не Хармса, а Хармсу лишь приписывавшиеся. Ну, люди литературные эти истории знают давно… А поскольку мы-то были филологи-русисты 18 лет от роду, и читали это впервые, то нам было особенно весело и интересно. Кто не знает, эти анекдоты такого полуабстрактного юмористического характера основаны на том, что у каждого героя русской классики есть свои черта. Например, кто-то все время падает, кто-то все время избиваем, кто-то все время пьет, кто-то все время любит детей…
Например, Лев Николаевич Толстой очень любил детей. Бывало наведут ему полную комнату, а ему все мало. «Еще, – кричит, – еще!»
Или: Лев Николаевич Толстой очень любил детей. Бывает поймает кого в коридоре – и ну гладить по головке, пока не позовут к обеду.
Или: Лев Николаевич Толстой очень любил играть на балалайке. Ну и еще, конечно, детей. Бывало пишет «Войну и мир», а сам всю страницу думает: «Трень-дебедень-дебедень-бедень!»
Или: Лев Николаевич Толстой однажды написал детские стихи. Приходит к жене и говорит: «Знаешь, Софьюшка, а я вот детские стихи написал. Вот почитай-ка! Правда же, не хуже чем у Пушкина?». А сам дубину-то за спиной держит. Прочитала она и говорит: «Ну что ты, Левушка, конечно же, у Пушкина лучше». Тут он тр-рах ее дубиной по голове! И с тех пор во всем полагался на ее литературный вкус.
Ну вот и про остальных героев анекдоты примерно такие же. И вот мы, студенты, вдоволь навеселившись над этими анекдотами, идем гулять по Невскому проспекту. И проходим мимо елисеевского гастронома. В том же здании – театр Акимова. А на углу такая будочка «Союзпечати», и там торгуют газетами и всякими фотографиями артистов. И в самом уголку этой стеклянной витрины – маленькие фотографии классиков русской литературы. Льва Толстого, который любил детей. Пушкина, который всегда опаздывал. Тургенева, который всего боялся и уезжал в Баден-Баден. Гоголя, который падал с лавки. И так далее.
И мы начинаем, все из себя помня эти анекдоты, час назад прочитанные, тыкать пальцами в фотографии почтенных классиков и хохотать совершенно как сумасшедшие. И прохожие, интеллигентные, культурные ленинградцы, смотрят на нас с негодованием праведным! Какие глумливые юнцы, которые тычут пальцами в светочей русской литературы, и при этом топают ногами, держатся за животы, взвизгивают и утирают слезы!..
Вот это старое воспоминание можно считать чем-то вроде не то эпиграфа, не то посвящения, не то преамбулы к тому, о чем мы с вами будем говорить сегодня. То есть будем мы говорить о русской классике немного не с той стороны.
Почему и зачем это, на мой взгляд, вообще это нужно?
В свое-то время, ну, допустим, в XIX веке, в начале XX века господствовала исключительно та точка зрения, что о писателе, об эпохе, о происходящих политических событиях, вообще о жизни – исследователь должен знать. Потому что ну как же не знать, что это была за жизнь – вот об этом писалось. Ну, и в результате литературоведение превратилось в совершеннейший пересказ, вот в такое комментированное чтение: что поскольку автор был из такого-то сословия, и поскольку происходило то-то и то-то, то это, видите, как он написал – это означает… и прочее, и прочее. Один считал так, другой считал эдак.
И вот стало формироваться в городе Петербурге, (с 14-го года – Петрограде), и сформировалось уже окончательно в 20-е годы Общество поэтического языка. ОПОЯЗ. Некогда очень известная и в литературном мире влиятельная организация. И достаточно сказать, что именно из этой петроградской школы ОПОЯЗа вышло практически все русское литературоведение XX века, все школы.
Значит. Что имели в виду опоязовцы: Шкловский, Эйхенбаум, Тынянов и т. д. Эти светлые умы сказали: вы знаете, мы имеем литературный текст, а больше ничего нет. Что автор имел в виду? Как на него влияла его личная жизнь. На какие деньги он жил? Мы никогда не узнаем в точности, поэтому исследовать надо текст, и танцевать надо от текста. Вот мы берем только текст – и начинаем его изучать.
Но сначала им сказали: как же так, формалисты! Формальная петроградская школа, это все не то – они рассматривают произведение в отрыве от всего, они танцевали именно от анализа слова, от поэтики произведения, а не от чего иного. Прошло время, их точка зрения стала господствующей, в частности в русском литературоведении; но, правда, не везде, в Советском Союзе она не стала господствующей, в Советском Союзе наоборот – процветала не то что вульгарно-социологическая, а как бы такая политико-идеолого-социологическая школа. Главное значит, какого социального происхождения автор и что он имел в виду в плане прогрессивного мировоззрения, а уже потом текст. Во всем остальном мире серьезные люди все-таки плясали от текста.
И доплясались они до того, что исследователь какого-то автора не имеет никакого представления ни об этом авторе, ни об этой эпохе, ни вообще ни о чем. Вот он вгрызся в этот текст и изучает его, не понимая, в каком измерении и в какой вселенной этот текст висит. Если кто-то из, простите, филологов-русистов – исследователей, занимается, допустим, перепиской Брюсова с Белым. Он знает все про переписку Брюсова с Белым. Какое письмо, когда отправлено, где запятая, где помарки – с точностью до последнего знака! А вообще чем они там еще занимались, его не интересует, потому что тема его диссертации – это переписка Брюсова с Белым, а все остальное – совершенно не важно. Это очень важно!! Потому что в зависимости от контекста одно и то же произведение может трактоваться так – а может трактоваться эдак.
Примеры, которые многие, наверное, слышали – часто цитируемая в связи с историей гитлеровской Германией, с историей Третьего Рейха фраза: «Когда я слышу слово „культура“, мой палец тянется к спуску моего браунинга». Имелось в виду, что нацисты ненавидят и уничтожают культуру. Это если мы возьмем, изучим фразу по отдельности – вот такой формальный подход к фразе. Ну, можно еще, конечно, сочетание фонем рассмотреть, но сейчас это выходит за границы нашей задачи.
А в границах задачи то, что пьесу эту написал когда-то способный молодой немецкий драматург Бальдур фон Ширах, еще до того, как он бросился играть в национал-социалистические игры, еще до того, естественно, как он стал предводителем гитлерюгендта, он был способный молодой человек из хорошей семьи и написал пьесу. Патриотическую пьесу: Германия была унижена. В Германии тогда практически все были патриоты. Хотя проявляли свой патриотизм немного по-разному.
И вот в этой пьесе – рассказ такой, как внутренней вставной новеллой, идет сцена, которую рассказывает главный герой. О том, как на дворе 20-го года нищета, голод, Германия опущена, много инвалидов, много сирот, предприятия стоят. И вот под Рождество, это такая антирождественская сказка, люди все-таки съезжаются в театр на спектакль. Они выходят из автомобилей, их жены запахивают шубки, они отряхивают с себя пушистый рождественский снежок, который сеется с вечернего неба, и говорят о том, что все-таки Германия не погибла, если еще жива ее культура, потому что вот спектакль, новая постановка интересного молодого режиссера, все-таки жизнь как-то продолжается. Культура показывает, что не все погибло, потому что наследственность культурная.
А рядом со входом мальчик лет десяти, озябший такой, в каком-то рванье, практически босиком, просит милостыню. Но милостыню просить нехорошо – при этом он как будто торгует спичками. Но они его просто не видят: они хорошо одеты, они хорошо выглядят, хорошо устроены, они идут на этот спектакль… И возвращаются с него, говоря: что не все еще потеряно, потому что культура – продолжает существовать! А мальчик-сирота, отец его погиб на Великой войне, за это время уже лежит замерзший, и над ним даже сугроб намело.
«Вот после этого, – рассказывает рассказчик, – когда я слышу слово „культура“, мой палец тянется к спуску моего браунинга». Как вы понимаете, в зависимости от контекста фраза весьма заметно меняет свое значение.
Таким образом, мы начнем разговор о русской литературе и русских писателях золотого девятнадцатого века. О том, что там было на самом деле, а не в ограничителях мифов, которые дошли до нас.
Начнем, естественно, с Пушкина, потому что с кого же еще… В нашем представлении сегодня Пушкин – это наше все, как выразились давно в России. Пушкин – это номер первый в русской литературе. Пушкин – это великий гений. И, таким образом, значительная часть населения полагает, что у Пушкина, конечно же, гениальна каждая строка, потому что раз гений – значит, гениальна.
И здесь не лучший пример, с которым встречался в жизни я. Еду я по городу Ленинграду на частнике, то бишь на частном такси, на частной машине – человек подрабатывает извозом. Человек этот, как это говорят иногда, – лицо кавказской национальности. Я ему говорю, что ехать надо вот туда на Василеостровскую стрелку, и вот там прямо, значит, Пушдом. Я немного забыл, что не все обязаны знать, что такое Пушдом. И он меня спросил, и я ему объяснил. Этот человек, с заметным акцентом говорящий по-русски, желая сделать приятное пассажиру, вступить в разговор, – свойски подмигивая, говорит, что: «Пушкин написал! Вот он 150 лет назад или когда там написал, и вот до сих пор сколько его изучают, а?» Я думаю, что он не читал Пушкина ни одной строки. Я не уверен, что он ходил в школу вообще. Тем паче не уверен, что в его школе были уроки русской литературы, тем паче не думаю, чтобы он на этих уроках что-нибудь читал. Может быть, слышал, в одно ухо вылетело, в другое влетело. Не важно. Ему известно, что у русских Пушкин – это их всё. Откуда он-то знает? Ну, ему сказали: есть такое мнение.
Так вот о мнениях. Потому что, если мы будем ограничиваться Пушкиным-мифом, мы будем повторять то, что незачем повторять – это все и так знают. Если мы захотим понять хоть что-то, что может быть знают не все, то желательно посмотреть, что там было на самом деле. Ну это все равно как врачу для изучения анатомии не надо ограничиваться знакомством с одетыми людьми, а люди нужны раздетые, и даже более того – люди отпрепарированные: чтоб можно было поглядеть, что у них внутри. Что у человека внутри – это иногда выглядит совершенно неаппетитно. Но если вы хотите разбираться в медицине, вы должны это знать. Так вот, если вы хотите разбираться в литературе, вы должны представлять себе, что такое писатель, которого читаете вы и хотите понимать. Вы можете его осуждать или не осуждать, превозносить или наоборот ниспровергать, но знать все-таки желательно, потому что только это знание поможет вам понять, что там было в его писаниях на самом деле.
Итак, Александр Сергеевич Пушкин в юные совсем еще года написал прекрасную романтическую поэму «Руслан и Людмила», и читающая публика восхитилась. И критики сказали, что действительно необыкновенно талантливый молодой человек, прекрасные стихи, ничуть не хуже, чем у Жуковского, а ведь он еще совсем мальчик – во что же он дальше разовьется. Пушкин так прекрасно начинал!
Потом произошла другая история. Пушкин начал писать «Евгения Онегина», уже будучи знаком читающей публике России. Публика пожала плечами и спросила друг у друга, что это такое. Критики объяснили, что, кажется, они перехвалили юный талант, потому что они-то ожидали после «Руслана и Людмилы»… а здесь какие-то весьма примитивные вирши, в которых ничего нет, никакого искусства, никакой красоты! Примитивный слог, примитивный лексикон, и в сущности даже не понятно, зачем это он такое стал писать; что, видимо, иссяк его талант. Нет, но вы послушайте: правил – заставил, занемог – не мог, это что, рифмы, что ли? И размер этот «так думал… повеса… на почтовых, всевышней волею Зевеса наследник всех своих родных…» та-та-та-та та-та та-та-та… ну что это за стихи такие, вы понимаете.
Прошло, однако, полтораста лет – и любому российскому школьнику полагается знать, что гений Пушкин написал гениальный роман в стихах «Евгений Онегин», где очевидно гениальна каждая строка. Черт возьми! Почему она стала гениальна? Правил – заставил, мог – не мог – недоумевает школьник, пытаясь понять: где же здесь божественная поэзия? и не находя ее… А учительница, отягощенная высшим гуманитарным образованием, у него спрашивает: «А вот смотрите, вот здесь стихи, которые написал Ленский – „желанный друг… любезный друг…“ и т. д. „Быть может я гробницы сойду в таинственную сень… – это хорошие стихи или плохие?“». И неискушенный пятиклассник напрягает свои мозги, но видит, что размер нормальный, рифма нормальная, слова такие красивые, и говорит, что да, по его мнению, стихи – очень хорошие. Но говорит это неуверенно – он чует такой-то подвох. А учительница ему говорит: «Э, нет. Это очень плохие стихи. Они примитивные, они напыщенные, они пошловаты, они какие-то неестественные. И вот Пушкин высмеивает такую поэзию». Но школьник недоумевает: да чего ее высмеивать-то? «А по-моему у Ленского даже слова лучше выходят чем у Онегина».
Значит. И по сегодня до пушкиноведов в основном (разумеется, за исключениями), в основном не доходит, что гениальность Пушкина сказалась вовсе не в том, что он в «Евгении Онегине» такого написал! такого наворотил! каждое слово – такое искусство! Нет. Потому что и в «Руслане и Людмиле» больше искусства и мастерства, и у Жуковского было больше искусства и мастерства. Не в этом дело. А в том, что у Пушкина хватило наглости, хватило прозрения, хватило интуитивного чувства: надо так писать стихи, примерно таким же языком, как люди разговаривают, – очень простым, очень ясным, очень чистым, очень легким.
Когда он написал «Евгения Онегина», то оказалось, что любой приличный поэт легко может подражать «Евгению Онегину», легко может писать подобные стихи, потому что этот размер, и этот ритм, и эта нехитрая очень рифма сплошь и рядом глагольная. Ни-какого труда для человека, владеющего сколько-то ремеслом виршеплета, – ни-какого труда не составляют. Но вот сделать это первым! – вот для этого нужно было быть гением. Точно так же как для любого человека, который владеет топором, владеет немного столярным, плотницким делом, в сущности изладить колесо особого труда не составит. Ну такое-то дерево, ну на огне его немного погнул, ну посмотрел один раз, как, понимаешь, там тележник это делает – и тоже сделал. Но человек, который придумал впервые колесо и применил его – вот это был гений всех времен и народов! Хотя сейчас нам его колесо покажется очень примитивным, потому что там нет пневматических шин, там нет подшипников, там очень много чего нет – но оно впервые покатилось: гений-то был он.
Точно так же после Пушкина в русской поэзии появилось много умелых, тонких, изощренных, блестящих поэтов. Но это он первый стал писать таким языком, что им можно было разговаривать. И вот в этом простом языке не нужно искать какой-то необыкновенной выразительности, какого-то необыкновенного блеска – не было там этого никогда. Ну, я надеюсь, что понятны мои слова: не в том гениальность, чтобы все блестело, а в том гениальность, чтобы было то, что надо. Это все равно что требовать от автомата Калашникова, чтобы он был инкрустирован стразами, чтобы там была какая-то золотая чеканка, чтобы он был отшлифован до ясного зеркального блеска. От автомата Калашникова этого не требуется. От него требуется, чтобы он стрелял в любых условиях. Все, остальное не важно.
Вот в этом отношении есть сходство. «Евгений Онегин» – это та поэзия, которая стала стрелять в любых условиях. И в порядке вот этого отрясания мифов, которые зачеканены в мозги, мы должны вообще посмотреть на Пушкина номер первый, потому – что…
Первое, с чего у меня начались когда-то вопросы по поводу светлого образа Пушкина – это… значит так: его привез в Петербург поступать в лицей дядя Василий Львович. Отлично. И еще он очень любил свою няню. Ее звали Арина Родионовна – «выпьем с горя, где же кружка…» – стихи про нее. Прекрасно. А папу как звали?
Ну, это можно восстановить, поскольку Пушкин был внуком Ганнибала. А Ганнибала звали Абрам. А Пушкин был Сергеевич, Александр Сергеевич, – то, может быть, папу звали Сергей Абрамович. А еще какие у него были характерные черты? Погодите. А как звали маму?
Значит так. Как звали маму вы будете смотреть сами, я этого вам сейчас говорить не буду, вы это легко найдете хоть в Интернете, хоть в биографиях, – но факт тот, что: спросите-ка вы у российского советского школьника, как звали маму Пушкина? – Не знает он, как звали маму Пушкина! Мама здесь как бы вроде ни при чем. Ну, родила и родила… и ладно.
Так, теперь смотрите: а что там было у Пушкина насчет братьев, сестер? Кажется, у него был брат. Может быть, Левушка. А еще у него братья были? А сестры? А кто еще был?.. А в чем вообще дело?! Почему о дяде написано, няня как родная – а мама непонятно где?!
Теперь едем дальше. Мельком говорится в биографиях Пушкина, что в общем он был небогат и вечно нуждался в деньгах. Ну не был он магнатом. А еще говорится, вроде бы независимо от этого всего, что после того, как он окончил лицей и написал стихов и оду «Вольность», его сослали в Молдавию. В Кишинев его сослали. И такая глава была в учебниках: «Кишиневская ссылка», «Пушкин в ссылке в Молдавии».
Его что же, с жандармами сослали или по этапу? Или как-то еще, или с запретом жить в столицах? Видите ли в чем дело. Вот как в Советском Союзе молодых специалистов распределяли на работу. То Пушкина распределили в Молдавию! Его взяли служить по Иностранному ведомству, в Иностранную коллегию. А поскольку места подходящего не было, поскольку что-то и с деньгами было плохо, и родители за него что-то не хлопотали, (а вообще непонятно, где они скрывались всю дорогу), – то ему место попало такое нерублевое: его кинули типа отрабатывать диплом за лицей на периферию. Его отправили в Молдавию.
Далее. Мне не удалось найти ни в одной биографии каких-то следов полезной деятельности Пушкина в Молдавии. То есть ощущение такое, что Пушкин в Молдавии делал следующие вещи:
1. Разумеется, писал гениальные стихи и вынашивал замыслы еще более гениальных произведений;
2. Поскольку Пушкин был всегда любим женщинами, с восторгом говорили все биографы, ну и сам, конечно, любил женщин, то он занимался тем, что был любим женщинами;
3. Ну, он там, может быть, немножко выпивал, ну тогда это было принято: шампанское, жженка…
4. Ну, может быть, он иногда во что-то играл, ну это было принято;
5. У него там дуэль чуть не случилась с одним офицером, – собственно, случилась, но потом они бросились друг другу в объятия.
Вообще получается, что это был немного такой скандальный молодой человек, любитель выпить, любитель сыграть, любитель пройтись по бабам. Еще он писал стихи. Вот, в сущности, и все, чем он занимался.
Вы знаете, это совсем не та ссылка, которая обычно представляется нам, то есть какой-то глухой угол, скудная жизнь, отсутствие женского общества, жандармы там. Нет, ну что значит ссылка, в Молдавии люди жили!
Потом его отправили дальше. Его сослали на Черное море! Знаете, в России многие желали бы, чтобы их сослали на Черное море, но не всем это удается.
Сослали его непосредственно в Одессу. И в Одессе не то чтобы он где-нибудь там ночевал, как Диоген в бочке на берегу. Граф Воронцов его поселил в своем дворце. И не просто в своем дворце – это был какой-то прием по-чукотски, в том смысле по-чукотски, что граф, может быть, и не знал, что он предоставил Пушкину полное гостеприимство вплоть до собственной жены, но жена эта знала, и Пушкин тоже знал.
И когда читаешь какую-то биографию типа, что сразу у княгини Воронцовой Пушкин встретил понимание, он ей читал стихи, она там тоже ему что-то рассказывала и внимала. Они прекрасно понимали друг друга, и более того: несколько позднее у графини Воронцовой родилась дочь, по отзывам очень похожая на Пушкина; так что как-то можно думать…
Следующий абзац идет, от которого у человека неподготовленного, который любит Пушкина недостаточно, просто отваливается челюсть. Следующий абзац начинается так: «А вот с графом отношения у Пушкина не сложились». Очевидно, авторы хотели, чтобы граф так же, как и жена, любил Пушкина… ну и так далее, так далее, вы понимаете.
Однажды граф, обозленный тем, что, кажется, может получиться дочь, похожая на Пушкина, возникло такое подозрение, и вообще Пушкин у него ест, у него пьет, ездит в его экипаже, говорят спит с его женой, а про него в благодарность пишет известные стихи: «Полумилорд, полуневежда, полуподлец…» и т. д. То есть поистине неблагодарный гость. Обозленный граф командировал Пушкина на борьбу с саранчой. Это сейчас звучит смешно, а должен же в конце концов молодой чиновник хоть что-то делать общественно полезное кроме того, что он делал в доме графа.
Пушкин написал вместо отчета стихи весьма издевательские: «Саранча летела, летела и села. Села, посидела и дальше полетела». После чего граф написал в Петербург слезную бумагу, чтобы этого паршивца убрали с глаз его долой и навсегда, потому что делать с ним нельзя ничего, к делу приспособить невозможно, и он вообще, граф, умывает руки. Тем более что Пушкин играет, затевает ссоры, вот его пристрелит кто-нибудь на дуэли, а граф потом отвечай. Короче говоря, Пушкина уволили со службы.
По службе он не тосковал, но зарплату выплачивать перестали. А вы знаете ли, поэт, который любит хорошо жить и привык получать зарплату, оказавшись без денег, впадает в какое-то очень затрудненное состояние. Он не понимает, как жить дальше.
И Пушкин поехал в свое родовое сельцо Михайловское. Мне не удалось прочитать, куда именно девалась из Михайловского вся пушкинская родня, когда Сашенька туда приехал. Но в музее-квартире Пушкина в Михайловском нет никаких следов, какого бы то ни было члена семьи, кроме самого Пушкина. Вот как будто они сбежали от него все, как будто их метлой вымело. Там жил Пушкин и редко-редко, раза два-три, к нему приезжали друзья. Всё.
Мы не будем повторять сплетни про то, что через какое-то время по усадьбе стали бегать дети, слегка похожие на Пушкина, и иногда их продавали, потому что было крепостное право и иногда помещики продавали своих крепостных с целью улучшить свое материальное положение: то есть они просто крепостных продавали, и за это денежки получали. Мы не будем говорить, что великий поэт торговал своими детьми. Это, знаете, будет чересчур. Но крепостные дети бегали, и никто их, знаете ли, не отпускал на волю, не возводил в дворянское достоинство, и т. д. и т. п. Но Бог-то с ним.
То, что остались воспоминания о сестрах Вольф, которые жили рядом в Тригорском, что «он развратил их, как сладострастная обезьяна». Ну, что это за сплетни?.. Есть масса грязной литературы типа: Пушкин и женщины, и т. д. и т. п. Вы знаете, Пушкин стал приближаться к 30, и пришла пора жениться.
А у Пушкина же не было ограничения по месту жительства. Он жил в Михайловском не потому, что его выслали из Петербурга, он жил в Михайловском потому, что жить в Петербурге ему было не на что. Вот если кто будет в Михайловском, посмотрите – усадьба-то достаточно скромненькая.
Таким образом, Пушкин стал свататься к разным девицам: и к Олениной, и ко многим еще. Короче говоря, ему отказали не то пять, не то шесть, не то семь раз. Вот все, к кому он сватался, все ему и отказали. Вполне приличные невесты. Потому что он был развратник, он был игрок, он был голодранец, он был человек ненадежный, и ценность он имел только как все-таки известный талантливый поэт, ну куда же денешься, и по отзывам хороший любовник, хотя очень неверный, и верность там отсутствовала в принципе. Вот, собственно, и все достоинства, а что же еще?..
И в результате Пушкин посватался к почти бесприданнице, девушке из сильно обедневшей семьи, провинциальной красавице Наталье Гончаровой. А сватом у него выступал человек, которого не пускали ни в один приличный дом – знаменитый Федор Толстой. Толстой-Американец.
Тот самый, про которого Грибоедов: «…в Камчатку сослан был, вернулся алеутом и крепко на руку не чист». Тот самый Толстой, который был известным бретером и убил на дуэлях 12 человек. И когда он в конце концов женился, дети у него мерли один за другим. И у него возникла суеверная убежденность, что это кара Господня. И за каждого убитого Господь прибирает его очередного ребенка. И у них умерло с женой 12 детей, а 13-й остался жить. Была такая история. Вот этот шулер, бретер, мошенник, бродяга, человек деклассированный, которого не пускали никуда, Федор Толстой у Пушкина был другом, приживалом и сватом. Ну, потому что остальные как-то не очень хотели с ним общаться, потому что человек он был ветреный, вспыльчивый, и в сущности полагали его пустым.
Вот за несколько лет в Михайловском его посетил, значит, однажды Пущин, ну и все на этом. Еще Анна Керн заехала, но то, что в поэзии называется «Я помню чудное мгновенье», в истории болезни называется «беспорядочные половые связи» и вело к многократному лечению от гонореи. Хотя не такая дальняя дорога, казалось, можно было бы на лето приехать, отдохнуть месяцок, ну как на даче у лицейского друга, пожить, рыбу поудить, за девками поухаживать. Нет, нет, как-то никто не стремился.
И вот они переехали в Петербург. Я не могу вам сказать, на какие деньги переехали в Петербург, потому что денег, которые были даны за Гончаровой, на петербургскую жизнь, безусловно, не хватило бы, но Пушкин стал, что называется, получать кредиты. Он кредитовался под свое имя. Он был уже известный поэт. У него были поклонники.
Он был принят государем. И государь сказал ему знаменитую фразу: «Отныне, Пушкин, я буду сам твоим цензором». И Пушкин выходил из царского кабинета со слезами умиления на глазах. Ну, короче, царь ему протежировал, и это облегчало петербургскую жизнь. И ему дали самый низкий конкретно придворный чин камер-юнкера, чтобы он мог находиться при дворе. Ну слушайте, поэт все-таки, поэт. Хорошо, ну не первый, но… Как-то мы, по-моему, говорили: первый – это Крылов, второй – это Жуковский, но третий – это тоже не слабо.
Причем, понимаете, Жуковский уже немолод, Крылов какой-то толстый, неряшливый, непридворный, а этот вполне стройный, еще не такой старый, жена-красавица: лицо миловидное, талия осиная, все прекрасно, всем нравится. И государь смотрит благосклонно… Надо же при дворе! А то, что ему дали камер-юнкера – а что же ему, князя было давать, что ли, чтобы он при дворе показывался? В общем голодранец, который ничего… (вот он при дворе ну типа: низший орден в Советском Союзе был орден Дружбы народов, который давали там поначалу кому-то – а что же ему, орден Ленина давать? А за что, собственно.)
И вот он был при дворе много лет, шесть-семь. В советской историографии пропагандировалась та точка зрения, что проклятый царизм убил Пушкина. Ну, в общем все, что было плохо, сделал проклятый царизм, а хорошее – это как бы вопреки.
Значит, проклятый царизм уплатил за Пушкина все его долги, а долгов было где-то там приблизительно 110–120 тыс. золотых рублей. Это, я затрудняюсь сказать, сколько миллионов долларов в пересчете на сегодняшние деньги, но если мы тогдашний рубль возьмем за сегодняшние не менее как долларов 50-100, не менее, это получается вполне приличную сумму уплатил за него государь. Лимонов пять баксов.
В те времена, вы знаете, если кто помнит несколько позднее происходившие события в романе Льва Толстого «Анна Каренина», так вот Вронский, представитель золотой молодежи империи, аристократ и богач, получал из дому на свою шикарную жизнь 20 тысяч рублей. Этого хватало и на то, чтобы держать несколько лошадей в конюшне, и на игру, и на пирушки, и на туалеты, и на выезд, и на шикарную квартиру и т. д. 20 тысяч – деньги к тому времени несколько помельчали, знаете, лет так примерно 30–40 прошло, а здесь более 100 тысяч было только долгов. В большой мере долгов карточных, заложено было все. Но сохранились воспоминания о том, как, пока жена была беременна, Пушкин жил со своей свояченицей, и т. д. и т. п.
Но далее, вы понимаете, вот эта несчастная дуэль с Дантесом. Обычно упускается из виду, выносится за скобки, и далеко-далеко выносится за скобки, чтоб видно не было. Первое. Что уже за сколько-то времени, более чем за месяц до дуэли, Дантес женился на родной сестре Натали! И, таким образом, они с Пушкиным были весьма близкими родственниками. Они были женаты на сестрах. Ну, некоторые считают такую ситуацию доказательством того, что Дантес все-таки имел роман не с Натали, а с ее сестрой, на которой женился. Тем более, что Дантес был красавец, Дантес был в свете, Дантес был, в сущности, юноша без средств, откуда у него были… и с чего бы ему было устраивать свои дела таким способом, чтобы ухаживать за Натали, а жениться на ее сестре?! Кстати, сестра была немногим богаче, чем Натали, как вы понимаете.
И вот сестры рыдали друг у друга на груди, не зная, как заставить Александра отказаться от дуэли! Потому что Дантес драться не хотел: во-первых, это его родственник, а во-вторых, Пушкин все жизнь тренировался в стрельбе. Человек маленький, физически слабый, самолюбивый, преуспеть в фехтовании ему не светило, он укреплял руку – он то ходил с железной палкой, то занимался чем-то вроде гантелей, то брал уроки стрельбы, то тренировался в прицеливании. Короче, стрелял он действительно хорошо, по отзывам современников. А Дантес стрелял плохо. Понимаете, он был близорук, и руки у него дрожали, и вообще искусство стрельбы не требовалось для поступления в Лейб-гвардии кавалергардский полк. Это как-то не входило в дворянские доблести. Пофехтовать да, а вот метко стрелять – что-то в этом немного плебейское. Это разбойники, понимаете, типа Вильгельма Телля.
И престарелый отец Дантеса приезжал из Франции, и валялся у Пушкина в ногах, и умолял отказаться от дуэли. И Пушкин не хотел. И общие знакомые его и Дантеса делали все, чтобы хотя б смягчить условия дуэли – и Пушкин категорически отказывался. Вот как дьявол какой-то тащил его на Черную речку под эту пулю!
Ну а дальше, как известно, Дантес попал. Менее известно, что поскольку за Пушкиным оставалось право второго выстрела, то он устроился на земле поудобнее, прицелился и раздробил пулей Дантесу кисть правой руки, в которой он держал пистолет, каковой рукой с пистолетом прикрывал по праву дуэли этого времени свой правый бок, развернувшись боком к противнику, чтоб меньше пострадать. Все свою остальную жизнь Дантес доживал с искалеченной рукой.
Далее не стремятся писать, хотя это совершенно известно, что суд чести офицеров кавалергардского полка рассматривал поведение поручика Дантеса и не нашел в нем чего бы то ни было порочащего честь офицера. Дантес полностью оправдан судом офицерской чести.
А председательствовал этим полковым судом полковник Ланской, ветеран 12-го года, человек репутации безупречной.
А еще через несколько лет Ланской женился на пушкинской вдове, и у них родилось еще двое детей, и они дожили свой век в мире и согласии.
Вот приблизительно так выглядел реальный Пушкин. И не было в нем ничего от того глянца, который на него навели позднее. И когда кто-то вроде Белинского начинает пускать слюни розовые на восторженных фразах, что «в Пушкине был явлен нам гармонический русский человек, который появится во всем совершенстве разве что лет через 200», – ну что я могу сказать? Ну, словами другого классика, уже XX века: «Хладнокровнее, Маня, вы не на работе». Ну что это такое, понимаете… Ну какая там гармония, ну какое там совершенство, ну что это за глупости. Был человек полный недостатков, полный пороков, очень трудный в общежитии, с очень сомнительной, чтобы не сказать больше, репутацией; но, разумеется, чего никто никогда не отрицал – это пушкинского поэтического таланта, а многие даже полагали, что гения если не во всем, то во многом.
Мы говорим об этом для того, чтобы никто не пускал розовые слюни, когда речь идет о ком-то великом. Вещи надо видеть в их истинном свете. Мы сейчас говорим не об «облико морале» русских классиков – а о том, что были за люди, что было за время, и что же из себя действительно представляли их тексты, которые невозможно понять, если вынуть их полностью из этой эпохи и отделить их полностью от этих личностей.
Потому, что. Когда школьнику с молодых лет твердят, что «Евгений Онегин» гениален и Пушкин – великий гений, совершенно естественно, это одно из его убеждений: Пушкин – это великий гений. Проходит какое-то время, и иногда кто-то из этих школьников интересуется: ну а как там за границей – ценят там нашего Пушкина? И оказывается, они его не ценят. Но они в этом не виноваты. Они его даже не знают. Ну, тогда некоторые начинают жалеть, что бедный Запад, бедный Запад, он лишен нашего Пушкина!.. А Запад говорит: нет, ну что вы. У нас, у поляков – Мицкевич. А вот у итальянцев – Данте. А вот у англичан – Шекспир. А вот у американцев – Лонгфелло и Уитмен. А у французов там вообще целый выводок, и там Ронсары, и Дю Белле там, и Гюго – великий поэт Франции. А у немцев – Гёте – великий поэт Германии. Так что никому не нужен, понимаете, Пушкин.
А те, которые почитают что-то в переводе, говорят: ну «Евгений Онегин», ну, в сущности, банальная история. Ну, в сущности, к тому времени уже и у французов, и у англичан таких историй было пруд пруди: и тоньше, и интереснее, ну – и что тут читать?.. Если вы попробуете переложить «Евгения Онегина» в прозу, – можно даже не перекладывать, потому что это поэзия от прозы и так-то недалека, – если попробуете посмотреть на это глазами француза, который уже читал, допустим, Де Мюссе, вы на самом деле увидите: ну, история достаточно обычная, ну история… Ну вот был такой бездельник, сначала она влюбилась в него, а потом он влюбился в нее. Ну так что? Это старо как мир.
А потом школьник изучает в школе «Дубровского». И пытается понять: ну и в чем же, черт возьми, необыкновенно высокие достоинства этой прозы? Нет… Да, конечно, кузнец, он был очень такой, с одной стороны, хоть и суровый, а с другой – душа добрая. Они, понимаете, судейского сожгли, а вот котенка спасли.
Ну, во времена Пушкина это была довольно сильная метафора, а сейчас это как-то даже немного наивно.
Потом: если вы возьмете бумажку и карандаш, и начнете внимательно читать «Дубровского», – то вы увидите, что там эта судейская глава с пересказом дела занимает такой несуразно большой кусок, ну не уравновешенное произведение. Если вы посмотрите последнюю главу, сцену боя, как «минута настала решительная» и «Дубровский, прошед меж солдат, подошел к офицеру и прижал пистолет к его груди. Грянул выстрел. Офицер упал. Солдаты смутились». Солдаты действительно смутились. Получается какая-то несуразно статичная сцена: Дубровский идет, офицер стоит, солдаты не смотрят, да потом смущаются. А раньше что все они делали? Ну прямо скажем – не шедевральная сцена. Ну не шедевральные у Пушкина все строчки подряд.
Но есть у Пушкина проза, судя по всему, действительно гениальная, – как «Повести Белкина». Замечательная, жесткая, короткая, сюжетная проза. Сюжетная, социальная, психологическая и философская одновременно. И вот некоторые, которые во Франции выдвигают завышенные требования к гению русской литературы, говорят, что: вот понимаете, «Евгений Онегин», ну знаете, мы не знаем… а вот «Станционный смотритель» – да. «Станционный смотритель» – это шедевр. (Когда ты смотришь на все честными глазами и говоришь: «Вы знаете, по-моему вот это вот фигня», – то все-таки тогда свободнее чувствуешь себя, расцениваешь шедевр как шедевр.)
Потому что «Станционный смотритель» – это притча о блудном сыне, вывернутая наоборот. На что намекается в лоб, потому что там картиночки висят на стенке, изображающие сцены из притчи о блудном сыне. И то, что не принимает добрый отец торжествующего блудного сына, а наоборот: блудная дочь живет в столице счастливо, а праведный отец умирает в горячке и нищете! А потом блудная дочь, никем не брошенная, богато одетая, с красивыми ухоженными детьми приезжает в шикарной карете и плачет на могиле своего честного отца… Ну, к этому тоже, как к очень ко многому, можно поставить эпиграф: «О времена! О нравы!»… Гениальное произведение, и никто ничего подобного до Пушкина в русской литературе не писал.
Мы потому так долго говорили о Пушкине, что на примере Пушкина – номера первого – понятнее вообще феномен «номера первого» в любой национальной культуре. Смотрите, с точки зрения психологической, к этому можно поставить отдельный такой эпиграф к отдельной подглаве: «В каждой луже есть гад, между иными гадами иройский». Салтыков-Щедрин.
Таким образом, в каждой деревне есть первый парень и первая девка. Иногда первый парень действительно вполне ничего. Он приезжает в большой город и делает большую карьеру. Такие вещи бывают. Вот он оказывается, допустим, типа Григория Потемкина. Или наоборот, допустим, Владимира Ильича Ленина. А иногда этот первый парень, приехав в большой город, совершенно теряется, потому что он только у себя на селе был первым, – а в городе он так себе, вообще идет за третий сорт.
А также есть первая красавица. И вот когда на селе есть первая красавица, а село так далеко стоит, вот и женятся все вот здесь вот, – то, вы знаете, как-то уже не принимается во внимание, что может быть у нее ноги кривоваты, может быть глаза маловаты, может быть уши лопоухие. Понимаете, вот она первая красавица – и поэтому недостатки не очень-то замечаются: имеется одно такое большое суммирующее достоинство – и сквозь призму этого суммирующего достоинства все остальное тоже кажется желанным, правильным, подобающим и вполне даже хорошим.
Вот и с гениями и с кумирами примерно то же самое. Вот если мы знаем, что Достоевский – гений, то, очевидно, у него все гениально. Потому что вот в этом селе, ну если там Толстой – отдельно, Пушкин – отдельно, вот гранитный забор такой поставим: здесь – Достоевский первый парень, (а хотите первая девка, не важно, никакой дискриминации по полу), и вот здесь у него все более или менее прекрасно.
Таким образом, поскольку нет в мире совершенства и никто не идеал, и писатель не составляет исключения, то если какой-то исследователь или какой-то критик начинает захлебываться слюной, объявляя, что у кого-то совершенно все, – это значит, как выражаются кинологи, они же собачники: у критика «заварило нюх». Он уже не отличает одного от другого, и, значит, имеет мало шансов сказать что-нибудь внятное.
Это с одной стороны, а с другой стороны, понимаете: вот есть забег, допустим, на 1000 метров на чемпионате мира. Бегут лучшие бегуны, и понятно кто-то занимает первое место. Вот предположим мы сослали на Колыму, или наоборот отправили на остров Таити подальше и адрес забыли, всю эту команду бегунов. И у нас бежит второй состав. Он бежит медленнее, но все равно кто-то занимает первое место! Сколько бы мы ни выгнали лучших бегунов, но кто-нибудь из оставшихся все равно займет первое место. Это понятно.
Таким образом, в каждой литературе есть свой номер первый. Уже в силу того, что в мире существуют числа; об этом много говорил когда-то Пифагор. Если существуют единицы и понятие первого номера, то кто-то обязательно будет первым номером. Вот этот первый номер и будет первым парнем или первой красавицей на селе. И тут же все его недостатки будут затушеваны! а все его достоинства будут преувеличены!
Это очень хорошо с точки зрения воспитания гордости в своем народе, но очень плохо с точки зрения непредвзятого исследователя: у кого там кривые ноги, или несварение желудка, или вообще одна рука, а вторую где-то вот забыли. Почему мы и занимаемся внимательным рассмотрением.
Дальше. Почему людям вообще свойственно иметь единообразные мнения. В основном во всем, что касается своей культуры. Вот если кого-то читать – то более или менее одних и тех же. Если болеть в футбол – то за более или менее одних и тех же. Если иметь представление о нравственности, то более или менее одни и те же. Потому – что! – Повинуясь социальному инстинкту (который есть сам-то аспект Вселенского инстинкта, Вселенского структурообразования), – а социальный инстинкт можно называть стадным чувством, а можно называть чувством коллективизма, а можно называть системообразующим инстинктом. Как угодно. Вот повинуясь этому чувству, люди как будто договариваются, хотя на самом деле инстинктивно стремятся к этому: иметь одни и те же точки зрения.
Когда какая-то группа людей имеет одни и те же точки зрения по поводу: вот это делать хорошо, вот это – плохо, вот это надо, вот этого нельзя, туда мы ходим, а вот на ту гору – табу. То как естественное продолжение имеется точка зрения: вот этот писатель хороший – его надо знать, а вот этот плохой – его знать незачем, а вот этот незначительный – о нем говорить нечего. Точки зрения должны быть единообразные, иначе у нас вместо социума структурированного будет аморфная толпа, где у каждого будет свой номер первый, а это невозможно.
Люди инстинктивно подстраиваются друг под друга. Вот есть два человека, или пять человек, они встречаются впервые. И они, во-первых, словно друг друга муравьи усиками прощупывают. А во-вторых, они неизбежно стремятся выработать какие-то общие точки зрения, типа: справедливо ли ходить по очереди за водой, или правда ли, что вот этот пусть поспит подольше, зато он ночью поздно дежурит; или справедливо ли, что этот больше жрет, зато он в два раза больше других работает? а вообще правильно ли, что у мужчин только одна жена – или лучше четыре. И в конце концов они приходят к общим точкам зрения, – иначе общежитие невозможно!
Вот создание кумиров в литературе – это один из моментов такого социального обобществления всех точек зрения, которые есть у человеческой группы, которая превращает себя в социум. Раз мы люди, мы должны образовать из себя общество, и один из аспектов того, что мы из себя образуем общество – это мы договариваемся, кто у нас кумир, и все визжим и подпрыгиваем. И тогда вместо какого-то аморфного муравейника мы все более или менее организованное количество народа. Вот почему образуются кумиры.
И таким образом, когда мы имеем дело с каким бы то ни было литературным номером первым, с каким бы то ни было литературным кумиром, – мы не должны забывать о том, что: отнюдь не все, что он написал, как правило, является совершенством. И его литературными достоинствами отнюдь не ограничивается набор причин, по которым он является кумиром. Иначе невозможно адекватно понимать и оценивать то, что он сделал.
И еще. Вот представьте себе социокультурное пространство как некую такую комнату, не то полусферическую пещеру. И вот посередине самый высокий пьедестал – это номер первый. Вокруг него стоят такие кресла пониже – это номера вторые. Где-то там ближе к стенам табуреточки – это номера третьи. А свет то ярче, то темнее, то видно лучше в одном углу, то в другом. Так что вторые номера видны то лучше, то хуже, – а третьи то появляются, то вовсе не видны. А еще есть какие-то проходящие фигуры, которые то есть, то нет. То они посидят, то уйдут, то их выгонят, то они вообще стоя.
Таким образом. Жил-был поэт Венедиктов, который очень славен когда-то. Ну там в конце первой половины XIX века. Его очень любили. Его переписывали. У него было много читателей. Гораздо больше чем у Пушкина. И гораздо больше чем у Лермонтова. Его переписывали барышни, его переписывали приказчики, его книжки покупали. У него были такие для того времени весьма изящные, красивые вполне стихи. Как там: «Кудри девы-чародейки», чего-то там скрипят или блестят, «кудри-кольца, кудри-змейки, кудри – солнечный каскад»… Знаете, в те времена это было вполне даже ничего. Больше Венедиктова считайте что и нет… а говорить, что у него были приличные стихи – это все равно, что расписываться в своем дурновкусии. Потому что не находится места! «Боливару не вынести» такую толпу народа.
Или. Все, кто интересуется Пушкиным, отлично знают (в школе должны учить), что жило-было несколько плохих людей, которые Пушкина травили, не любили. Они были тупые; они были вообще нехорошие во всем. Один из них был Булгарин.
Вот Грибоедов Александр Сергеевич, пушкинский полный тезка, был человеком едкого, острого, блистательного ума. Автором возможно лучшей, гениальной русской пьесы за весь XIX век – «Горе от ума», стоящей на какой-то непревосходимой высоте в рейтинге цитирования, разобранной на присказки типа: «А судьи кто?» и т. д. «Подальше выбрать уголок…»
И вот этот Грибоедов, весьма презирая болтливое и пустое петербургское общество, дружил исключительно с Булгариным. У Булгарина была серьезная история – он был солдат, боец, повстанец, бизнесмен, агент, сотрудник спецорганов; он был серьезный, разумный, основательный, сильный человек. А кроме того, его, конечно, очень характеризует дружба с Грибоедовым, потому что Грибоедов был очень разборчив, находился на самом верху светского общества и одарял своим вниманием очень-очень мало кого. Но поскольку у нас Пушкин главнее Грибоедова, то получается, что Булгарин все равно плохой. Если кто заинтересуется Булгариным и захочет что-нибудь там изучить, вы имейте в виду, что, понимаете, ему Грибоедов всегда дал бы самую лучшую рекомендацию для изучения филологами-русистами.
Или обычно Лермонтов ассоциируется у читателей с Печориным. Лермонтов этого и хотел. Такой идеализированный автопортрет. «А смешно подумать, что на вид я еще мальчик: члены свежи и гибки, густые кудри вьются» и т. д. Сам же бедный Лермонтов был невелик ростом, какой-то немного скособоченный, туловище имел плоское и широкое, ноги короткие и кривые, лысеть стал где-то лет с двадцати пяти. В свои неполные двадцать семь уже сильно оплешивел. И менее всего он походил на красавца и героя Печорина.
Вот этот самый Лермонтов, который также у нас проходит по разряду невинных жертв, убиенных врагами русской литературы. Судя по всему, этот Лермонтов был абсолютно непереносим в личном общении. Мартынова он затравил, Мартынова он довел, как сказали бы позднее, до нервного срыва. Мартынов несчастный, который никого не трогал, жил в состоянии постоянного стресса. И от Лермонтова Мартынов хотел только одного – хорошо бы никогда не попадаться Лермонтову на глаза. Но общество на Кавказе было узкое, и как только Лермонтов видел Мартынова, так он начинал издеваться над ним. В конце концов и случилась дуэль, где Мартынову пришлось, в общем, стрелять, потому что там были свои дуэльные правила на тот момент, на 1841 год, когда выстрел на воздух шел в нехороший незачет, и т. д. и т. п. Всю остальную жизнь несчастный Мартынов прожил в провинции, в общем, в бедности, в деревне, в раскаянии, и как-то вот совершенно нехорошо он себя имел. (Там, правда, была еще одна смешная европейская история. Но это выходит, к сожалению, за рамки нашего сегодняшнего разговора.)
Вот этот самый Лермонтов, который впервые в русской поэзии написал блистательные стихи, не устаревшие за полтора века, Лермонтов, который дал непревосходимые образцы поэзии на русском языке, как оставшимся хрестоматийным:
- Есть речи: значенье
- Темно иль ничтожно,
- Но им без волненья
- Внимать невозможно.
- Не встретит ответа
- Средь шума мирского
- Из пламя и света
- Рожденное слово.
Вот это написано еще в первой половине XIX века. Пройдет много лет, пока русская поэзия вернется к таким же вершинам.
Вот этот Лермонтов написал и так вам достаточно известного «Героя нашего времени». Но перед этим он писал «Княгиню Литовскую». Писал и не дописал… В свое время я пытался говорить с лермонтоведами о том, что, по идее, Лермонтов, который принадлежал к тем людям, которые начинали говорить по-французски раньше, чем по-русски, и читали французские романы, естественно, за отсутствием русских романов на тот момент, – этот Лермонтов не мог, по идее, не читать романа Стендаля «Красное и черное». Роман «Красное и черное» иначе мог бы быть назван «Путь наверх», как назвал уже в другом веке другой роман другой писатель. А «Княгиня Литовская» – это аналогичная история, это путь наверх. Но вот когда Лермонтов прочитал «Красное и черное» и увидел, что «Путь наверх» уже написан, он написал сразу следующий вариант, который условно может быть назван «Жизнь наверху». О том, что какой смысл было туда рваться маленькому чиновничку, который описывается у него поначалу, и вот у него есть уже все от рождения: знатность, богатство, красота, мужество, – а счастья нет как нет, пустое все это, и т. д.
Для того чтобы понимать, кто что написал, нельзя ограничиваться формальным рассмотрением текста, а надо смотреть – откуда куда тянутся какие нити. Вот никогда не верьте тому, что уже сказано, иначе вообще ничего не сможете понять, а будете ехать по чужой проторенной колее.
Значит. К числу моментов, которые никогда не мог понять я, и могу только поделиться с вами своими сомнениями, – относится искрометный необыкновенный юмор великого классика русской литературы – Николая Васильевича Гоголя… Когда-то я прочитал у Хемингуэя, что он, Хемингуэй, прочитал «Записки Пиквикского клуба» Диккенса, и в том случае, если это смешная книга, то значит у него, у Хемингуэя, нет ни капли юмора. Я не хочу уподобить себя Хемингуэю, а Гоголя – Диккенсу, но. Если Гоголь смешон, значит, у меня с юмором плохо. Никогда не мог я заставить себя улыбнуться над Гоголем. Напротив, всегда это казалось мне достаточно тяжеловесным, и каким-то даже не очень высокопробным. Этот юмор представлялся мне, простите меня великодушно, тупым. Возможно, тупой я сам, даже вероятнее тупой я сам, но по-моему этот юмор все-таки тупой.
И еще одно. Понимаете, Гоголь и Лермонтов писали настолько по-разному, настолько разным языком, с разными интонациями, а кроме того, Гоголь и Лермонтов были настолько разными людьми – ничего общего, что я очень сильно сомневаюсь, что можно одному человеку в одно и то же время любить и Лермонтова, и Гоголя. Что-то тут не получается. Вот эта какая-то внутрилитературная бисексуальность вызывает у меня большое недоверие.
Дело в том, что в России в XIX веке уже сформировались как бы два народа: высший класс – дворянство, которые говорили более по-французски, чем по-русски, которые одевались так, как одеваются в Европе, которые читали европейскую литературу. И большая часть народа, – которая иначе одевалась, иначе питалась, иначе себя вела, имела иные представления о правилах хорошего тона и о хамстве, – а кроме того, говорила иным языком.
И если Лермонтов был, пожалуй, первым в русской литературе, кто стал писать по-французски на русском языке, потому что в «Герое нашего времени» сплошь и рядом французская постановка фразы, французская конструкция, французский синтаксис и французская интонация. А поскольку у Лермонтова было очень-очень хорошо со словесным и музыкальным слухом, то проза у него – совершенно замечательная. Но после Лермонтова никто уже в XIX веке так в России писать не мог.
То вот Гоголь писал совсем другим, таким вот простым языком, который не имел никакого отношения ни к чему французскому, зато имел некоторое отношение к тяжеловесной немецкой грамматике, внедренной по указу государя императора Петра Великого Алексеевича в школах, даже в начальных училищах преподавали эти основы, и это был немного германизированный по конструкциям, тяжеловесный и неловкий просторечный русский язык. Тяжеловатый язык, который в общем и целом канул в Лету, потому что в культурную традицию вошел все-таки верхний, культурный, интеллигентский, дворянский отфранцузский язык.
Вот поэтому, я думаю, читать Гоголя очень тяжело, и юмор – был в нем? – могут почувствовать совсем, совсем не все. Так что, если вам будет совсем не смешно над «Вечерами на хуторе близ Диканьки» или над чем-либо еще, не надо огорчаться. А если кто-то из вас прочтет, что заходит молодой Гоголь в типографию, а там наборщики хохочут, просто работать не могут – это они читают «Вечера на хуторе близ Диканьки», – ну так это он сам распространял такой слух, пытаясь кокетничать в том роде, что, видимо, надо мной только простолюдины и смеются. Ну как-то образованные классы меньше немного смеялись, и не тот язык, понимаете.
Дальше этот язык очень интересно скажется у Островского и Чехова. Но до этого несколько слов о других.
Я не знаю, насколько сейчас среди людей сравнительно молодых известен некогда знаменитый русский советский писатель – Константин Георгиевич Паустовский. Еще в 70-е годы он был весьма знаменит. Можно спорить о том, был ли он действительно писателем большим, но стилистом он был, разумеется, прекрасным, и русскому у Паустовского можно было учиться. Среди многих-многих я тоже пытался учиться чему мог.
Вот у этого Паустовского среди прочих мест, вызывавших с юных лет мои сомнения, было и такое, что. Читает он рукопись какого-то графомана, невесть как она к нему попала. Язык какой-то нехороший, и вообще все там нехорошее, все какое-то такое неживое, такое картонное, бумажное, деревянное… – и вдруг какая-то благоуханная страница, которая словно отцвечивает таким легким сумеречным, сиреневым светом, все такое изящное, благоуханное. Боже, что это?.. Он начинает читать внимательнее – и понимает: это страница из Достоевского, из «Идиота». Вот тут меня заклинило.
Я снял с полки «Идиота», нашел ту страницу, касающуюся несостоявшейся женитьбы на Настасье Филипповне, и стал ее перечитывать – спереди и сзади, с середины, по диагонали: и ничего у меня не было сиреневого, и ничего не благоухало, и ничего не получалось, и совершенно никак не нравилось это мне. Я понял, что я тупой, что мне не дано понимать то, что дано понимать великому писателю и тонкому стилисту Константину Паустовскому.
Потом прошло время, и со временем я стал сомневаться: ну я-то тупой, ладно, но так ли умны все те, которых за умных я имел до сих пор? Я стал смотреть на самого Паустовского… Ну бог с ним, много нас таких, которые только и любят поводы вытирать калоши о коллег. Я стал смотреть на Достоевского. У Достоевского рассказ есть такой, «Случай в Пассаже». Я стал читать рассказ…