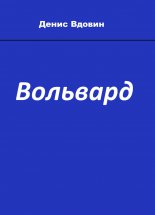Крест и порох Прозоров Александр
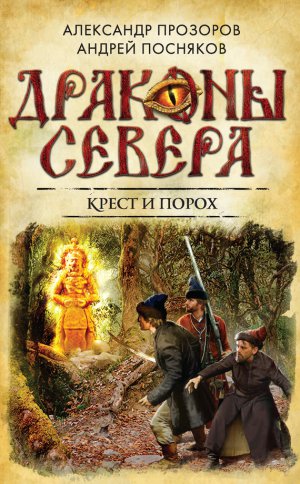
Однако сир-тя, кроме как нетерпеливо пинать тела ногой, ничего придумать не мог. Вестимо, способности его были невелики. Покорность наводить, чудищами управлять, пленных связывать. Вот и все… Вестимо – обычный порубежник, сторож на дальнем пограничье. Ни на что большее не годится. Такой же тупой неудачник, как сам Силантий…
Хотя нет – удачливее. Ибо это он дозор десятника Андреева повязал, а не наоборот.
Сир-тя вдруг заволновался, закрутил головой. Отбежал на несколько шагов в одну сторону, в другую, крутя головой.
– А-а, крыса колдовская, спохватился, – буркнул Силантий, напрягая плечи и дергая руками. – До пяти наконец-то сосчитал?
Увы, ремни не поддавались. Связал его дикарь крепко, дело свое порубежное знал неплохо.
Чародей остановился, шумно втянул ноздрями воздух, закрыл глаза, с резким выдохом развел широко руки со вскинутыми ладонями. На несколько мгновений замер – но тут же довольно хмыкнул, побежал вправо вдоль самой воды, вскоре замедлил шаг, раздвигая высокие стебли тростника, увидел впереди голову сидящего прямо в воде мальчишки, раскачивающегося и торопливо бормочущего:
– Спаси меня, Мир-Суснэ-хум… Старик-филин, сохрани, Йыпыг-ойка, повелитель леса… Лисица золотая, обереги, великий Нум-Торум, смилуйся! Дайте мне силы, прародители Ыттыргынов, в этот час, вдохните в меня мужество Сяхыл-торума, сделайте меня из мальчика мужем! Сделайте из шамана воином!
Сир-тя, довольно бормоча, левой рукой вытянул из-за пояса еще ремешок, правую наложил жертве на склоненную голову, не прекращая снисходительное нашептывание.
– А-а-а-а! – внезапно вскочил с разворотом Маюни, вскинул обе руки с зажатым в них ножом, и его короткое лезвие легко, словно в рыхлый песок, вонзилось в грудь воина колдовского леса.
Сир-тя, опустив глаза, что-то недоуменно пробормотал. Его лицо, речь не выражали ничего, кроме огромного изумления. Он протянул мальчику приготовленный ремешок – а потом глаза колдуна потухли, и он расслабленно повалился на бок.
– А-а-а!!! – в ужасе попятился Маюни, погружаясь глубже в воду. Посмотрел на свои ладони, на окровавленный клинок, вставленный в костяную рукоять, и, вздымая брызги, кинулся вдоль берега: – Десятник, да-а!!! Русский, да-а! Казак, да-а! Я убил! Убил, да-а!!! Совсем убил!
– Слава богу, остяк, справился! Молодец, спаситель наш! – услышав крики проводника, отозвался Силантий. – А я уж боялся, все, хана нам всем. В жертву идолам поганым принесут.
– Убил! Я убил, да-а! Совсем убил… – продолжал причитать Маюни, но десятнику было не до душевных страданий мальчишки:
– Руки мне освободи, остяк! Ремни перережь! И Ухтымке по ним полосни. Остальные дышат? Да шевелись же ты, тютя-матютя! У меня уже кисти онемели!
Маюни освободил пленников, присел возле оглушенных:
– Души их ушли искать небесного оленя, да-а… Без бубна не вернуть. Искать станут, пока не утомятся, да-а…
– Да, крепко шибануло служивых, – согласился десятник. – Не скоро оклемаются. Однако же челн-то наш где? Отыскать надобно… Крепко поломан али плыть как-то получится?
– Ух ты… У меня все кости, кажись, переломаны, – поднялся-таки на ноги Ухтымка, схватился за уши. – И в башке гудит…
– Дурная голова костям покоя не дает! – зло ответил десятник. – Сказывали тебе токмо о траве и цветах помышлять? Не смог? Ну так вот, чтоб теперича у тебя по два перелома на каждой кости оказалось, пустобрех! Коли через разум не доходит, может, хоть через увечья чуточку ума наберешься. Коли до седых волос дожить хочешь, то делать надобно, что старшие приказывают и когда приказывают, а не умишком своим скудным хвастаться!
– Ой, дядя Силантий… Токмо не сейчас поучай, десятник. Дай хоть маненько оклематься.
– Не будет тебе никакого отдыха, трепло базарное! – отвесил пареньку полновесную затрещину Андреев. – А ну, лодку и припасы искать отправляйся! Бегом пошел, пустобрех!
И вдогонку дал молодому казаку крепкого пинка.
Впрочем, найти свое добро никакого труда не составило. Все валялось окрест в орешнике: копья, топоры, корзина из-под мяса и борта челнока – от удара долбленка разломилась точнехонько по килю, и теперь коренное бревно лежало отдельно, а нашитые доски – отдельно. Причем часть досок тоже была поломана.
– Ну, все, попали! – выдохнул десятник. – Хрен мы теперь отсюда выберемся. Не пешком же через заросли идти?
Он осмотрел бесчувственных товарищей. Оба дышали, и оба, на диво, оказались целыми – ни единого перелома! Похоже, густые ветки кустарника смягчили падение. Да и высота была небольшой. Колдун знал, что делал, – ударил дозорных так, чтобы оглушить, но не убить и не искалечить. Если бы не малолетний шаман, оказавшийся нечувствительным к его чарам, – брести бы им сейчас связанными в полон, только на милость подлых язычников и надеясь… Где, кстати, мальчишка?
– Где остяк, Ухтымка?! – окликнул молодого казака десятник.
– Не ведаю. – Тот попытался пожать плечами, но вскрикнул от боли.
– Я здесь, старший, да-а! – отозвался из ближних зарослей остяк. – Поди сюда!
– Вот еще, к каждому мальчонке бегать, – недовольно буркнул себе под нос Силантий. Почесал в затылке и… пошел на зов.
Оказалось – не зря. Малолетний шаман обнаружил логово колдовского дозорного. Несколько рябин с переплетенными ветвями, поверх которых была брошена огромная шкура, местами протершаяся до дыр. Под шкурой между деревьями лениво покачивались три гамака, стоял вместительный кувшин, к одному из стволов был прислонен лук, короткое копье.
Маюни потрогал гамак, оглянулся:
– Этот тоже грязный, старший. Вестимо, токмо один в засаде сидел. На троих место, а одного послали. Не боятся, похоже, да-а…
– Для порядку послали, – согласился, осматриваясь, Силантий. – Коли есть место для стражи, пустовать не должно, пусть даже время и мирное. Однако очага не вижу. Где еду себе караульные готовили?
– Здесь оно, да-а… – Присев возле кувшина, мальчик наклонил его к себе, приложился губами к краю, сделал несколько глотков.
– Суп какой, что ли? – Десятник по примеру остяка присел перед вместительной емкостью, глотнул через край. – Кисель! Густой, однако… Мыслю, вправду сытный. Нечто они на одном киселе все дежурство сидят? Маюни? – Силантий, распрямляясь, сплюнул: – Ну вот, опять пропал!
Потерев шею, десятник вернулся к месту своего падения. С помощью Ухтымки отволок бесчувственные тела в обнаруженное логово, уложил в гамаки. Перенес под дикарский навес вещи.
– Старший, сюда поди! – позвал его вернувшийся остяк. – Что покажу, да-а…
– За увечными следи! – сурово приказал Ухтымке Силантий. – Дикарь-язычник тебя, казака, толковей выходит.
Вслед за остяком десятник прошел по узкой тропинке, протоптанной через кустарник, и через четверть часа оказался на берегу мелкого и узкого ручейка, струящегося по желтому песку. Мальчишка уже сидел здесь на корточках, полоща ладони в прозрачной воде. Серебристые мальки вились вокруг пальцев, что-то суетливо склевывая.
– Чего звал, малой? – поинтересовался Андреев.
– Туда посмотри, – указал вниз по течению Маюни. – Ветки над водой видишь? Паутина, грязь, листья сухие, да-а…
– И че?
– А там чистые ветки, – показал в другую сторону остяк. – Грязь обтрушена, ветки чистые. Выходит, шевелили их, отодвигали, да-а… Оттуда, стало быть, сир-тя сторожить приходят.
– Не с большой реки, а с верховьев ручья малого, получается, караул ставят, – сообразил Силантий и вытянул саблю. – Ну, пошли, глянем…
Он шагнул в воду, первым двинулся по руслу, пригибаясь и осторожно раздвигая перед собой ветки. Однако сабля не понадобилась. Всего через полста саженей заросли впереди посветлели, и перед лазутчиками раскрылось просторное озеро. Противоположный берег терялся в слабой дымке парящего озера, но даже через нее Силантию удалось различить там несколько огромных строений, напоминающих холмы, – но вместо зеленой травы покрытых коричневыми шкурами. Десятник усомнился бы в своей дальнозоркости, однако над холмами и по сторонам к небу поднимались рыхлые белесые дымки. В здешних жарких землях протапливать дома было ни к чему – а значит, дым мог идти только от очагов, в которых готовилась пища. Крупные дымы – большие котлы. Много очагов – стало быть, кормить стряпухи собирались не десяток сорванцов, а сотни голодных ртов. Здесь, на спрятавшемся в чащобе озере, стояла не деревенька. Это был город, большой и богатый.
– И даже без простенькой крепостной стены… – уже вслух пробормотал десятник.
– На что сир-тя стены? Они чарами своими обороняются, да-а… – ответил остяк и толкнул казака в бок: – Туда смотри, старшой!
Силантий повернул голову и увидел небольшой челнок, затянутый в высокую траву возле истока ручья. Лодочка была крохотной, на пару человек с припасом. Но если потесниться и шибко не раскачиваться – то и под весом пяти людей, пожалуй, воду черпать не будет.
– На воду стаскиваем и уходим… – шепотом приказал десятник, убирая в ножны клинок.
Вдвоем они стянули челнок в ручей, провели его, легонький, по воде к началу тропы, после чего десятник отправил остяка сплавляться дальше по течению, а сам двинулся к помятым сотоварищам.
К счастью, и Кудеяр и Серьга успели прийти в себя – на себе тащить не понадобилось.
– Не троньте ничего! – сразу предупредил Силантий, указывая на кувшин и лук с копьем. – Коли вещи на месте, то и пропажа дозорного особой тревоги не вызовет. Средь чудовищ, в сем мире обитающих, сгинувший с лодкой воин, мыслю, дело не редкое. Тело на глубину оттащим, остальное раки и сомы сделают. Обломки посудины нашей туда же скинем, течение унесет… Мы свое поручение сполнили, можно возвертаться.
Семь десятков казаков, терпеливо работающих от рассвета до заката, способны на очень многое. За одиннадцать дней, пока дозорные были в пути, башни острога оказались не только достроены доверху, но и соединены частоколом высотой в три человеческих роста. На верхних боевых площадках всех башен теперь стояли караульные, а свободные от службы казаки строили во дворе навесы и пришивали настил вдоль верхнего края стены – чтобы при беде можно было подняться туда и оборонять частокол, а не просто надеяться на его высоту и прочность.
– Ло-одка!!! – издалека заметил приближающийся челнок часовой с восточной башни. – Чужая!
И когда дозорные подвалили к берегу чуть выше стругов – их уже встречали два десятка казаков во главе с воеводой Иваном Егоровым.
– Ух ты, добрались! – Первым выскочил на песок молодой казак, подхватил борт возле носа, поднатужился, выволакивая челн на берег, насколько хватило сил: – Братцы, пожрать дайте! Три дня на одной воде сидим!
Ватажники промолчали, неодобрительно качая головами. Одно слово – пустобрех! Не понимает, что во первую голову завсегда о деле мыслить и сказывать надобно, а не о брюхе заботиться. Казак для того и рожден, чтобы тяготы и боль с усмешкою переносить, но службу исполнять.
– Здрав будь, атаман, – вторым сошел десятник. – Готовь струги к походу, нашли мы город языческий. Двенадцать дымов. Мыслю, не меньше шести сотен дикарей в таком должно обитать. Три крупных дома своими глазами видел, куда больше деревенских. Коли одно из них капище – впятеро супротив прежних окажется. Стен нет, валов, башен, рвов тоже. О засеках не скажу, ибо близко не подбирался. Боялся спугнуть.
– Челнок, вижу, чужой? – положил ладони на борт лодки воевода.
– Своего, увы, лишились, – повинился Андреев. – Кабы не остяк-малолетка, так и головы вместе с ним бы потеряли. Посему, атаман, за него поручиться хочу. Ратной доли он наравне с прочими казаками достоин. Пусть и язычник малец, однако же храбростью иного христианина стоит.
– Выходит, появление свое все же выдали? – требовательно спросил Егоров.
– За несчастье случайное, как могли, замаскировали. Подозрение, знамо, появится… Насторожатся. Однако же уверенности у дикарей не будет. Мало ли опасностей на свете? Про нас и вовсе могут не подумать.
– Тоже верно, – согласился воевода. – Город далеко?
– Дней семь пути! – Силантий поднял копье и с силой вонзил в землю: – Вот, весь путь отмечен, дабы по глупости своей опосля не заплутать. Черточки суть ручьи, надрезы – протоки. Риска поперек день пройденный отмечает. Вот здесь, за крайней черточкой, город на озере стоит. К нему по ручью с версту струги тянуть придется. Мелка протока, даже пустые корабли по ней не пройдут.
– Доннер веттер, герр капитан! – громко хохотнул Ганс Штраубе. – Первый раз на своем веку я вижу столь забавную, но разумную карту! Путеводное копье! Я восхищен!
– Однако… – изумился неожиданной хитрости туповатого десятника и Иван Егоров. – Силантий, ты молодец! Справился отлично. Ныне ступайте в острог, поешьте. Так понимаю, вы остались без припасов?
– Спешили вернуться, на охоту время терять не стали.
– Отдыхайте до завтра, велю не тревожить, – кивнул воевода и выдернул из песка путеводное копье. – Маюни, со мной пойдем, словом хочу перемолвиться, раз уж в казаки тебя ныне возвели.
– Слушаю, атаман, да-а… – бросил весло на дно челнока остяк.
– Остальные к делам возвертайтесь, – отпустил собравшихся по тревоге воинов атаман, немного отошел, задумчиво рассматривая копье. Тихо спросил: – Ты путь запомнил, Маюни?
– Найду, коли нужда выйдет, атаман, да-а… Но и на копье путь верный начертан, видел я, как старший метки ставил.
– Понял, вы друг другу по нраву пришлись, – усмехнулся воевода. – Ладно, ступай. Слышу, как живот у тебя урчит. Если вы и вправду три дня голодали… В общем, беги.
Весть о том, что дозорные выследили город дикарей, мгновенно облетела острог, обрастая самыми невероятными подробностями. Силантию, что вместе с сотоварищами отъедался возле солеварного котла печеной рыбой, раз пять пришлось оправдываться перед подходящими знакомыми, что не видел он никакой золотой бабы размером с дерево и что даже святилище, похоже, было куда меньше – но стоило отойти одному разочарованному воину, как на его место тут же прибегал другой казак и жадно спрашивал:
– А правда, Силантий, что ты золотую бабу нашел?
Обычные работы оказались заброшены, ватажники снова взялись за оружие, осматривая его, правя клинки и рогатины, проверяя замки пищалей. Это, понятно, не укрылось от глаз атамана. Идти супротив желания ватаги Егоров не стал и приказал сзывать круг.
– Все вы знаете, други, что случилось и чего ради собрал я вас, православные! – не стал долго сказывать воевода. – Острог бросать пустым и женщин без защиты негоже, посему повелеваю жребий бросить на пятерых, кому придется здесь тосковать, пока остальные веселятся. А как судьба решение свое откроет – струги на воду спускайте и припасы грузите. С рассветом выступаем!
Глава 2
Поздняя осень 1583 г. П-ов Ямал
Про могучую Нине-пухуця сказывали всякое. Обычные смертные думали, что она просто злая черная колдунья, служительница мрака и смерти, убивающая все живое и уничтожающая все доброе. Хотя между женщинами и бродили слухи о давней ее размолвке с верховным шаманом Ва-Котрка-Тха, пожелавшим насладиться девичьим телом юной красавицы и получившим нежданный для своего высокого звания отказ. С тех пор прошло много времени, Ва-Котрка-Тха давно не стало, Нине получила прозвище старухи – но вражда между непокорной ведьмой и колдунами сохранилась по сей день.
Обученные мудрости шаманки нередко говаривали потихоньку о том, что, согласно заветам зажегших второе солнце древних колдунов, повелевать новым светилом, подарившим народу сир-тя жизнь, должны женщины – те, кто приносит жизнь в этот мир. И именно поэтому верховная шаманка Нине-пухуця вела борьбу за возвращение величия женского дома. Однако в здешней, тихой, мирной и безопасной жизни яростная борьба не нужна была никому, и потому могучая колдунья оказалась всеми отвергнута и проклята за свое упрямство – и шаманками, и колдунами. Попытки погасить солнце, дарующее жизнь, любви к старухе тоже не прибавляли.
И только посвященные знали самую высшую, главную и сокровенную тайну: народу сир-тя надлежало править миром!
Мудрые предки зажгли для своего народа солнце не для того, чтобы потомки наслаждались безмятежностью, а для того, чтобы те восстановили силы после поражения и набрались мудрости, а затем вернулись и попрали ногами своими выи поверженных врагов. Нине-пухуця пыталась погасить солнце вовсе не из ненависти к сир-тя – она желала вернуть народ на предназначенный ему путь, изгнать из теплого рая в битву. На войну за право повелевать миром, в которой сир-тя надлежало победить!
Юная Митаюки-нэ входила в число посвященных. Она восходила к древнейшему и уважаемому роду селения Яхаивар и уже сейчас, еще не покинув Дом Девичества, обладала куда большей магической силой и знаниями, нежели иные старые и опытные шаманки. Она умела исцелять и проникать в мысли, могла подчинять своей воле животных и слабых волей людей, могла собирать защитные амулеты и поклады, привлекающие несчастье, могла наводить порчу и снимать проклятия, могла варить зелья лечебные и приворотные, ядовитые и возбуждающие – и потому тайны, запретные для других, были для нее открыты.
А кроме того, Митаюки-нэ была самой красивой в Доме Девичества. Она унаследовала от матери, прекрасной Мита-Хотоданы, не только острый ум, но и широкие бедра, высокую грудь и густые черные волосы. А от отца, храброго Хар-Яхионда, ей досталось округлое луноликое лицо с гладкой кожей, большие губы и задорная курносость. Из полусотни девушек, вступающих в пору взросления, с Митаюки-нэ не могла сравниться ни одна. И потому именно перед ней как могли красовались воины жреческой стражи, волокущие на веревках связанную старуху. Пыль покрывала пленницу однообразной ровной коркой, и потому лохмотья ведьмы, ее кожа, повязка на глазах, спутанные волосы – все казалось единым целым, клочковатым, грязным и драным. На этом фоне упругие мышцы, лоснящаяся от ароматного жира смуглая молодая кожа тренированных тел выглядели особенно ярко.
– Проклятая Нине-пухуця поймана! – Воины, все до одного, выпятили грудь, проходя перед выбежавшими к дороге девушками. В широких набедренных повязках и высоких сапогах, с обнаженной грудью, покрытой защитными знаками, они казались могучими и непобедимыми. В одной руке юноши сжимали копья с черными наконечниками, другой тянули за веревки. Семеро молодых, сильных воинов – и одна тощая старуха.
– Попалась, попалась черная тварь! Убийца! Уродина! – радостно закричали девушки, и только Митаюки-нэ осталась спокойной и даже какой-то грустной.
Воины племени – мускулистые, рослые, статные. Самые глупые и самодовольные. Они считали, что долг мужчины – это битва, самоотверженность, слава и победы над сильным врагом; они гордились тем, что умеют сражаться, рискуют собой в дозорах, в охоте на зверей и ловле менквов. Они воображали, что если сильны и красивы, любая из девушек с радостью примет их ласки, родит им ребенка, не сомневались, что смогут добиться уважения и звания вождя.
Жалкие неудачники! Неспособные усвоить даже начальную мудрость древних – мастерство управления миром, природой и зверьми, они не понимали, что ими не восхищаются – им сочувствуют, от них не ждут подвигов – их просто используют на тупой и опасной работе, для каковой умелый колдун, если понадобится, вполне способен призвать менква или даже змею…
Знали бы воины, что единственного вождя, готового вести их в битву, к славе и победам, как раз сейчас, торжествуя, они волокут на веревках! Но для них Нине-пухуця была всего лишь злой ведьмой, желающей погасить солнце древних и погубить все живое.
Никому, кроме нее, бредни о походах во внешний мир, о власти и завоеваниях были неинтересны. Зачем уходить из-под теплого солнышка, зачем страдать и подвергаться испытаниям, если людям хорошо и здесь? Кому нужна дурная блажь о правлении миром? Только этой дряхлой и одинокой, выжившей из ума старухе!
– Ты чего, Ми? – толкнула девушку подружка Тертятко-нэ, тоже одна из красавиц Дома. – Чего такая грустная?
– Это просто старуха… – пожала плечами Митаюки-нэ.
– Ага! Которая вздумала истребить весь наш мир из-за обычной любовной ссоры, случившейся много десятков лет назад.
Тертятко-нэ, пусть умница и красавица, особыми способностями не отличалась, училась вместе со всеми, и для нее «тайной злой ведьмы» была всего лишь размолвка мужчины и женщины.
Митаюки-нэ ничего говорить не стала. Зачем? Между ней и подругой – пропасть. Митаюки предстоит стать сильной шаманкой, одной из правительниц селения. Тертятко – вырастет просто женщиной, умеющей немного заговаривать, немного ворожить и хорошо готовить. Матерью детям, женой кому-то из вождей, а может быть, даже и воину. Зачем тревожить ее слабый ум вопросами, разобраться в которых по силам только высокородным?
– Нине-пухуця злая ведьма, и ее сожгут, – грустно кивнула Митаюки-нэ. – Но она все равно всего лишь слабая старуха. Мне ее жалко.
– А мне завидно! – призналась Тертятко-нэ. – Ты представляешь, какая сильная была любовь? На несколько жизней хватит. Нине-пухуця сколько уже живет? Про нее еще бабушка моя рассказывала. Когда бабушка была маленькой, шаманку уже боялись и называли старой. Пошли посмотрим, как ее жечь будут?
– Сегодня не спалят, – покачала головой Митаюки-нэ, однако же вместе с подругами вышла на дорогу и на почтительном удалении двинулась вслед за воинами.
День был в разгаре, и оба солнца сияли во всю силу, обжигая лица сразу с двух сторон. Радостно пели птицы, стремительно разрезая воздух, вылавливая из него жучков и мошек, в озере тяжело ворочался травоядный тымбертя, разбрызгивая воду. Каждый подъем его огромной шеи окатывал окрестности настоящим дождем. Средь высокой сочной травы шастали мелкие ящерки. Сюда, к селению сир-тя, опасные звери не подпускались, и им было вольготно и спокойно… Как самим сир-тя под солнцем мудрых предков.
В своих коротких замшевых кухлянках собравшиеся на дороге воспитанницы Дома Девичества напоминали стайку воробьев, разве что с черными головами. Точно так же они чирикали – весело, но неразборчиво, и точно так же прыгали, перебегая одна от другой, чтобы поделиться впечатлениями.
Дом Девичества, по обычаю, отделялся от селения небольшим перелеском. Дорога пробила его по прямой, и перед стайкой воспитанниц открылось само селение. На берегу поднимался огромный храм предков, накрытый сшитыми шкурами огромных кровожадных нуеров и огражденный клыкастыми челюстями и крохотными передними лапками этих же зверей. Символ храбрости воинов и вождей племени, способных одолеть столь опасного врага.
Немного в стороне поднимался Дом Воинов, служивший больше для встреч вождей, колдунов и старших воинов, нежели для их обитания. Ныне бессемейных вождей в селении осталось всего трое, так что дом стоял почти пустым. За перелеском просматривалась крыша Дома Мальчиков, тоже выстроенного чуть поодаль. Мальчики так же, как девочки, переселялись в эти дома по достижении семи лет, где и обучались опытными воспитателями хитростям будущей взрослой жизни. Кто оказывался способен – постигал мудрость, кто не очень – учился умению ворожить и сражаться, а самые глупые – только храбрости и искусству воевать.
Пройдя посвящение и став мужами, мальчики переселялись в Дом Воинов до тех пор, пока не выбирали себе жен… Семьи с детьми жили в отдельных хижинах, вольготно разбросанных на просторной луговине за храмом, от озера и до самого леса. Между селением и храмом находилась просторная утоптанная площадь, на которой происходили все торжества и праздники. Ее огораживала череда очагов…
Единственное, чего здесь не было, так это узилища, места для содержания пленников. И потому воины привязали злобную Нине-пухуця к толстой иве, выросшей на берегу возле причалов. Руки завели за спину, затянув веревкой округ толстого ствола, а потом прикрепили еще и за плечи, чтобы не упала. Повязку на глазах оставили – чтобы взглядом никого не поймала, воле своей не подчинила, разум не затуманила, не запутала, не заморочила.
– Сожгут? – опять с испуганной надеждой спросила Тертятко-нэ, крепко вцепившись двумя руками подруге в локоть.
– Нет, – покачала головой Митаюки-нэ. – Кабы по-быстрому хотели убить, сюда бы не тянули. Прилюдно карать станут. Дабы все ведали, что нет больше злой ведьмы. Что поймана и истреблена.
Старуха вскинулась, вытянула шею, повела носом, прокаркала гнусным голосом:
– Беду чую! Кровь, смерть, боль в селение сие крадутся. Смерть, смерть! Умрете все, рассыплются косточки белые середь травы зеленой! Развернулись крылья черные над народами сир-тя! Погаснет солнце предков, растают идолы, снег и холод придут на земли цветущие, мрак и пустота. Умрете, все умрете! Недостойно жить тем, кто в сытости и неге прозябает! Кто не ищет себе доблести и подвига, кто не рвется к власти и силе! Смерть написана на роду вашем, сир-тя, и рожденные сегодня не увидят уже глаз детей своих! Вы не искали славы и подвига, так подвиг и слава сами придут к вам, жалкие несчастные лентяи! Но это будет не ваша слава! Это будет ваша смерть!
Вышедший из святилища седовласый Хасуюимдей, в новой набедренной повязке, с лентой из защитных амулетов на лбу, надетых поверх костяной личины в виде человеческого черепа, и с большим золотым шаманским кругом на груди быстрым шагом направился к берегу, зачерпнул ведро воды и с ходу выплеснул на ведьму.
– Охолонись, Нине-пухуця! Хватит с нас твоих проклятий.
Старуха захлебнулась на полуслове, задергалась. Верховный шаман бросил ведро ей под ноги и под общий смех ушел обратно в святилище. Вода потекла по женщине, оставляя на теле темные грязные потеки.
– Глупцы! – немного придя в себя, снова принялась вещать пленница. – Вострите копья, готовьте палицы, учитесь драться. К тем, кто не захотел выйти беде навстречу, беда сама войдет в двери. И прольется кровь! И провалятся души невинных в темный мир мертвых!
Молодые воины, переглянувшись, подхватили ведро, зачерпнули воды и окатили черную колдунью снова, а потом еще раз. Нине-пухуця, задыхаясь, замолчала, лишь вздрагивая под холодными струями.
Митаюки-нэ не выдержала, шагнула вперед, вскинула руку:
– Как вы смеете глумиться над высокородной женщиной, жалкие червяки?!
– Это же злая колдунья, Митаюки! – улыбаясь, чуть отступили воины. По их мускулистым телам, радужно поблескивая, стекали капли, мышцы играли под смуглой кожей. Руки крепко сжимали тяжелые копья. Но юная ведьма хорошо ощущала в их душах потаенную опаску. Юноши подозревали, что девушка способна завладеть их волей, подчинить и, например, вынудить самих прыгнуть в озеро.
– Пусть злая. Но сильная и высокородная! – осадила их Митаюки-нэ, вошла в воду, сорвала пучок гибких водорослей, после чего старательно отерла ими влажное тело Нине-пухуця, омывая его от грязи.
Старуха повела носом.
– Чую деву невинную… Слабую покамест, но даровитую… С судьбою горькою… – И ведьма вдруг зашептала: – Не того, дитя, бойся, что страшным кажется, а того, что простым. И в смерти спасение прийти может, и в мучениях сила, в вороге судьба. Не к добру, чистоте и свету тянись – к мукам, страху и ужасу. Они тебя токмо и спасут, они счастие твое составят. Меня слушай, от надежд отрекись. К смерти тянись, к мукам и ужасу! Как смиришься с ними, на том судьба и переменится.
– Ты обезумела, мудрая Нине-пухуця, – замерев, испуганно сглотнула девушка. Пророчество сильнейшей шаманки повергло ее в ужас.
– Не я обезумела! Весь род сир-тя обезумел! – вскинув голову, расхохоталась колдунья. – Я предрекаю смерть потомкам древних мудрецов! Но глупые сир-тя не боятся смерти. Они боятся меня!!!
– Приготовься, мудрая Нине-пухуця, – предупредила старуху Митаюки-нэ. – Я омою тебя, чтобы убрать грязь.
Ведьма сжала губы и очередной ушат приняла с достоинством. Девушка наскоро отерла ее тело водорослями еще раз.
Но тут из храма снова вышел Хасуюимдей и приказал воинам:
– Бегите по поселку, созывайте всех шаманов. Боги тревожны, кости выпадают на черную сторону. Мы должны провести большое камлание… – Он повел взглядом вдоль берега и вдруг грозно прикрикнул на девушек: – А вы что тут делаете, пигалицы?! Нечего вам в селении делать, а ну к себе пошли! Бегом за перелесок!
Воспитанницы Дома Девичества прыснули по дороге и замедлили шаг, только миновав заросли.
– Верховный шаман был встревожен, – сказала Тертятко-нэ. – Я почувствовала внутри него страх.
– При ежедневном гадании выпали знаки большой смерти или беды. – Митаюки-нэ, как более сильная и умелая, восприняла состояние шамана намного точнее. – Он полагает, это из-за появления черной ведьмы, накликающей на сир-тя гибель. Хочет ускорить казнь, дабы она не успела наколдовать какой-нибудь мерзости.
– Смотри!!! – схватив подругу за руку, вскинула ладонь Тертятко. – Упряжка Темуэде-ни, бога темного мира, бога смерти!
По небесам, темные и мрачные на фоне белых облачков, неслись веером три больших болотных ящера, редко взмахивая розовыми кожистыми крыльями. И хотя ни ремней, ни саней за ними видно не было, каждый сир-тя знал, что именно властитель темного мира запрягает болотных ящеров, чтобы самолично направиться туда, где ожидается пиршество смерти, где появится много погибших или умерших от болезней людей. Самая верная старинная примета, увидеть которую страшится любой смертный.
– Может, он не к нам? – в ужасе прошептала одна из девочек.
– К нам, Сикуте-нэ, к нам, – покачала головой Митаюки-нэ. – Мыслю, за старой Нине-пухуця он заявился. Злая шаманка – главная его сторонница, невесть сколько поколений ему служит. За ней, верно, и летит. Упряжка Темуэде-ни ведь накануне завсегда снаряжается? Попомните мое слово, как раз завтра ее и сожгут. Все к тому идет, по всем приметам. Посему и колдунья старая все силы зла к себе стягивает. Мир боится и сотрясается. Вот отсюда и приметы. У меня поутру гребень сломался. Тоже примета жуткая, об опасности для головы, для жизни предупреждает. Кабы о казни Нине-пухуця не знала, испугалась бы, домой ушла и в тайнике родовом затаилась…
Митаюки-нэ пригладила волосы ладонью и вдруг, хихикнув, предложила:
– Девочки, а пошли купаться?
– Пошли!!!
От этого предложения не отказался никто, и воспитанницы Дома Девичества, на ходу скидывая кухлянки, побежали к озеру.
Силантия Андреева с его путеводным копьем атаман назначил старшим в первый струг, повелев указывать дорогу, под свою руку взял второй, посадив Маюни рядом. Егоров не очень верил в туповатого десятника, но вслух этого не признавал. Просто присматривал издалека и на остяка поглядывал, надеясь, что мальчишка предупредит, если Силантий ошибется с дорогой. Однако проводник сидел спокойно, заплетая из стебля лютика забавные травяные паутинки и раскладывая их под лавки корабля.
Третьим стругом командовал отец Амвросий, четвертым – Матвей Серьга, посаженный в старшие в награду за проявленную в вылазке доблесть, а заодно и для проверки – как с воеводскими обязанностями управится. Все же третий десяток мужику скоро, давно пора из простых казаков в старшие подниматься. Коли по силам ему за других отвечать, конечно же…
Замыкал поход, понятно, струг Ганса Штраубе – вояки опытного и знающего. Отставшему поможет, попавшего в беду поддержит, раненых вытащит, отступление прикроет, атаке на помощь придет. В нем боярский сын Егоров был чуть не больше, чем в себе уверен. Уж очень хитер зачастую немчура оказывался, простодушным казакам не чета…
Силантий командовал угрюмо. Приказов почти не отдавал, разговоров не заводил, с ратными не шутил. Как утром отваливали – токмо рукою изредка кормчему показывал, как струг удобнее через излучины провести. Ближе к вечеру приказывал на привал останавливаться – а там уже к атаману вся власть переходила.
Впрочем, казакам было не до веселья. Тяжелые струги шли все время против течения. Ветра на узком русле меж высоких лесов не было, так что мачты путники даже ставить не стали, полагаясь только на весла. Даже трудясь в две смены, выматывались они так, что на привалах сил оставалось только поесть да свалиться спать.
Восемь переходов прошли без приключений – даже огромные здешние ящеры к стругам старались не приближаться. Видимо, принимая за неведомых зверей, что могут при своих размерах оказаться и опасными. На девятый день пути, после первой пересменки, Силантий поднял руку и указал на берег. Струги один за одним послушно привалили к череде корней, подобно изгороди торчащим из воды.
– До заставы дикарской верст пять всего осталось, атаман, – сказал Андреев. – Надо бы помолиться крепко да пяток лучников вперед выслать. Знамо, со мною и Маюней. Глаз у остяка острый, пригодится.
– Задумку имеешь? – спросил его Егоров.
– О прошлом разе до тех пор от чародея прятались мы, пока разговоры житейские не завели, – признался десятник. – На них сразу и попались. Посему полагаю, души нам очистить надобно, исповедавшись, и причастие принять. А уж опосля, с мыслями травяными, на колдунов и выступать. После пропажи караульного воеводы здешние, по уму, пост усилить должны. Место там на троих – троих, вестимо, и поставят. Подкрасться надобно незаметно да стрелами и посечь, пока чары напустить не успеют.
– Разумно… – согласился воевода и, обернувшись, закричал: – Отец Амвросий, разворачивай часовню походную. Ныне помощь Господня нам превыше прочих надобна. Исповеди принимать пора да грехи отпускать, дабы с душою чистой и твердой в сечу идти.
Над именами лучников следовало подумать особо. Выбрать лучших из лучших, дабы первой же стрелой по цели не промахнулись, но и по нраву спокойных – чтобы суетой или смехом себя не выдали. Иван Егоров поколебался и выбрал… Себя.
Пробираться через здешние густые заросли пять верст пешком лучники не рискнули – на первом струге прошли вдоль берега вверх и высадились всего за полверсты до колдовского караула. Дальше началось самое трудное – красться между плотно стоящими стволами и путаными толстыми лианами, протискиваться через кустарник, стараясь хотя бы не издавать никаких звуков, раз уж не колыхать ветки в растительной густоте было невозможно.
Лес пах гнилью и курагой, дышал влажностью, сыпал листьями и коричневой трухой, похожей на перетертую кору. Он ронял на голову и за шиворот склизких гусениц и колючих жуков, облеплял паутиной, захлестывал ветвями и корнями. При этом какие-то твари постоянно кусались под одеждой и в волосах, стволы царапались, многие кустарники оказывались с шипами…
Людям же нужно было молчать и сохранять спокойствие в мыслях, мечтая о зеленых листьях и сладких цветочках. Иван Егоров, раз уж эта уловка помогла однажды, решил не отказываться от нее и сейчас, надеясь выдать себя перед колдунами за тупую скотину. С каждым укусом или порезом он неизменно радовался, что решил идти в головном отряде сам. Казаки ведь народ буйный, вполне могут разозлиться, заругаться, кохух сорвать и ногами потоптать… Атаман же после каждого укуса лишь громко шептал, как бы себе под нос, но слышно для товарищей:
– Хочу покушать вкусных веточек, хочу кусить белые цветочки… – подавая пример правильного поведения и напоминая о том, о чем нужно думать. При воеводе казаки сдерживались, воли чувствам не давали.
Примерно через час таких мучений лазутчики неожиданно услышали сверху протяжный распев. Мгновенно замерев, они подняли лица и увидели впереди, в гнезде, сплетенном в кроне многовекового дуба, паренька в набедренной повязке, что-то растирающего меж камней, при том мурлыкая под нос песенку и отбивая ступней ритм. Совсем изредка караульный поднимал голову, бросал на реку скользящий взгляд и снова возвращался к своему делу. В общем, вел себя так, словно никогда в жизни не слышал о том, как снимают часовых и вырезают караулы, о том, что на посту нужно всегда держать ухо востро, ибо даже в самое мирное время дальний дозорный, закрывая злоумышленникам путь в свою страну, рискует головой…
Иван Егоров вскинул палец, открыл колчан, достал лук, наложил стрелу на тетиву. Покосился на товарищей. Все лазутчики последовали его примеру, зацепив кольцом большого пальца тетиву и зажав комель стрелы в кулаке.
– И-и-и… Х-хо! – Атаман, напрягшись всем телом, резко оттянул правый кулак к уху и тут же его разжал, не в силах удержать натянутым тугой лук. Пять стрел легкими росчерками пронзили листву и все разом впились в смуглое тело. Караульный мигом обмяк – наверное, даже и не успев понять, что случилось. Однако пара сообразительных ворон уже спикировала к свежей мертвечине.
– Травка зеленеет, цветочки распускаются, веточки вкусные и большие… – торопливо напомнил Егоров, о чем именно сейчас нужно думать.
– Лук можно не прятать, – тихо сказал Силантий. – Тут рядом, сажен сто.
Так же медленно и осторожно, взвешивая каждый шаг, лазутчики добрались до ручья, по нему, согнувшись в три погибели, прокрались под свисающими ветвями к началу тропы, выбрались на нее, наложили стрелы на тетиву. Затаив дыхание, двинулись дальше – пока не услышали громкий разговор.
Один из караульных раскачивался в гамаке, помахивая свешенной ногой, второй сидел на кувшине с киселем, удивленно рассматривая завядший травяной многогранник, заплетенный на ивовых ветвях. Покрытый чарами верховного шамана амулет должен был предупреждать воинов о внезапной неведомой опасности. Да, похоже, испортился…
Пропели в воздухе стрелы, вскрикнули от боли чародейские защитники. Один даже успел вскочить – но только для того, чтобы получить в грудь еще три стрелы и свалиться на землю.
– Ну, эти хоть отдыхающая смена… – извинил погибших атаман. – На болтовню имели право. Маюни! Ты у нас самый быстрый и ловкий, беги на струг. Сказывай, пусть подтягиваются, путь открыт. Надеюсь, к причастию успели подойти все и хотя бы до завтра сохранят умы в ясности. И смогут думать только о траве и цветах, а не о золоте и бабах! Силантий, пошли еще раз на ручей глянем.
– Да мелковат он, Иван Еремеевич! Не пройдет струг, килем зароется.
– Может, и зароется… Однако же по воде тянуть завсегда легче получается, нежели посуху. Может, подрыть все же проще выйдет, чем на катки выволакивать? Коли дно песчаное, так точно проще.
Иван Егоров прошел по всему ручью от начала до конца, после чего велел обрубить несколько толстых лещин, концы сучьев заострить, и в результате у воинов получилось несколько тяжелых деревянных мотыг. Когда струги подошли к устью ручья, атаман приказал казакам выгружаться. Четверых поставил рыть перед стругом канаву, остальным велел навалиться на борта и толкать корабль вперед.
Песок поддавался легко – но так же легко оплывал и обратно под киль. Однако оставался там рыхлым и протаскиванию судна почти не мешал. Дружными усилиями казаки примерно за час протолкали струг до озера, следом второй. Остальные три проплыли уже без сопротивления – русло ручья отступило перед упрямством людей и углубилось на стремнине, приняв новую форму.
– Теперь спать! – приказал воевода. – На свету дальше не пойдем, как бы не заметили. Ночью к городу подкрадемся.
– Так, может, ночью и напасть, атаман? – спросил немец. – Взять тепленькими, пока неладного не учуяли!
– Мы же не кошки, Ганс! – ответил Егоров. – В темноте, в незнакомом месте, супротив местных… Этак можно не ворога взять, а самим головы по-глупому сложить. Подкрасться надобно и осмотреться. Узнать, где крепости их, где капище, где дома богатые, где голытьба кантуется. Где воины собраны, где чародеи… Опосля первых ударом внезапным смять, а вторых издалека пищалями и луками выбить. Пока определимся, пока подтянемся… Нет, раньше завтрашнего полудня не успеем.
– Воля твоя, атаман… Но уж больно тяжко про травку помышлять, когда до золота ужо совсем рукой подать осталось.
– Вот посему я всех нынче без обеда и оставлю, Ганс. Чтобы о брюхе думали, а не о кошеле!
Казаки рассмеялись. Все понимали, что атаман просто не хочет выдать ватагу огнями и дымами, готовя пищу. А вяленого мяса всухомятку пожевать – так у каждого порция на день имеется. Можно и съесть, коли очень уж охота. Но после восьми дней гребли самым главным для воинов была вовсе не еда – а возможность просто лечь в траву, раскинуть руки – и ничего не делать, наслаждаясь безмятежным покоем.
Воевода и его помощники отдыха себе позволить не могли. Обосновавшись в ивняке на берегу, они рассматривали далекий берег, выбирая место для высадки и отдыха перед атакой. Сошлись на леске, в котором угадывались кроны дубов и лип. На болоте эти деревья не растут – стало быть, место сухое. Кроны уходят далеко вдаль и в стороны – значит, и лес большой. Есть где укрыться али куда отступить, коли схватка не так пойдет.
Когда над озером сгустилась ночь, казаки вывели свои корабли на открытую воду и, таясь в тени берега и не торопясь, дабы не плескать веслами, прокрались почти к самому городу, высадились в намеченном бору, сразу уйдя под кроны. Тоже медленно и осторожно, думая о травке и цветочках, стараясь не выдать себя ни треском, ни мыслями. Ушли недалеко – дабы не нашуметь в потемках. Заныкаться в чаще ведь можно с рассветом, пока селяне, продрав глаза, потягиваются, готовят завтрак, одеваются, собираются на работы.
Струги, на каждом из которых осталось по два гребца, тоже ушли недалеко, к ольховнику, перед которым тянулась тростниковая опушка. Коли втиснуться между серой камышовой стеной и берегом – с воды корабли никто с десяти шагов не разглядит. С берега тоже – ибо ивняки сырые и люди по ним обычно не гуляют.
За пару часов до рассвета все затихло, и ватага даже смогла немного прикорнуть, прежде чем двинуться дальше, готовясь к решительному броску…
Утро встретило селение зловещим кровавым крестом – перекрещенными отблесками двух рассветных солнц на дрожащей озерной ряби. На крыши домов слетели греться из леса бабочки-черноголовки, заплакали росой клыки черепов, украшающих вход в святилище, тревожно закружились над дубравой птицы, лопнули кожи сразу трех шаманских бубнов, застонали средь кустов мохнокрылые летяги, не желая возвращаться в родные гнезда.
Обилие зловещих примет, каждая из которых обещала боль и погибель, настолько встревожила вождей сир-тя, что они отказались от показательного суда над черной шаманкой, желавшей уничтожить все живое в этом мире, и решили, не оттягивая торжества, просто казнить могучую служительницу бога нижнего мира Темуэде-ни. Все едино иного конца старуху не ждало. Пока Нине-пухуця оставалась жива, зло тянулось к черной колдунье со всех сторон, окружая поселок, витая в воздухе настолько плотно, что ощущалось вязкой мерзостью всеми, от мала до велика. И даже туповатые воины, не пригодные ни на что, кроме как ходить на охоту или охранять менквов, – даже они тревожно посматривали то в небо, то по окрестностям, всей своей гладкой смуглой кожей предчувствуя неладное.
В таком состоянии вождям и шаманам, победителям зла, стало не до торжеств, и если привязанная на берегу старуха не была убита сразу с рассветом, то лишь потому, что нож или дубина вряд ли причинили бы ей вред. Чтобы избавиться от сильной шаманки, ее нужно лишить плоти полностью, до волоска, до последней косточки, обратить в пепел до последнего ноготка.
Верховный шаман, остановившись утром перед старухой, спросил только:
– Ты все еще не смирилась, мерзкая тварь? Ты надеешься, Темуэде-ни станет тратить свои силы на спасение столь злобной колдуньи? Призываешь духов, зверей и болезни? Не надейся! Тебя не спасет ничто! И не будет тебе ни жизни здесь, ни славы в нижнем мире, ибо мы уничтожим тебя до конца, не оставив ни души, ни плоти. – Хасуюимдей отступил от пленницы, пытавшейся нащупать его взглядом сквозь плотную повязку, и приказал стоящим окрест воинам: – Собирайте перед святилищем костер! Проводим нашу великую гостью в ее последний путь.
Повторять дважды не пришлось – крепкие парни, побросав копья, бодро ринулись к дубраве, на опушку которой была из леса натаскана огромная груда сухостоя, крупного валежника и порубленных на несколько частей маленьких деревьев, выволоченных из чащи целиком. Этой тяжелой работой обычно занимались менквы, по указаниям младших колдунов, подчинивших мохнатых уродцев своей воле. Однако разделывать дрова для очагов сир-тя приходилось уже самим. Коли подавлять рабам волю – то с такой сложной работой зверолюди не справляются. Если волю отпустить – то оставлять топоры в руках злобных тварей было бы слишком опасно. Они ведь легко способны и на хозяев наброситься. Все знали, что человеческий мозг считался у менквов самым желанным лакомством.
Однако для костра ничего рубить-колоть не требовалось, и воины стали споро тягать стволы и коряги, выбирая те, что покрупнее, дабы потом оставшийся валежник было проще порубить. Ствол сыроватой осины с трухлявыми ветками они укрепили стоймя, поджав тяжелыми колодами, навалили рядом и на колоды еще с десяток деревьев, добавили снизу немного веток, дабы куча лучше разгорелась.
Пока воины трудились, со всего селения, из Дома Девичества и Дома Мальчиков, из дальних святилищ подтянулись женщины, дети, мужи – умелые колдуны и простые воины. Все видели происходящее, знали, что оно означает, и все с нетерпением ждали завершения правосудия – ибо мрачные приметы видели тоже все и устали пребывать в страхе.
Митаюки-нэ вместе с остальными воспитанницами тоже пришла к святилищу – девушки плотной кучкой сбились справа от дороги под присмотром дородной воспитательницы Сухи-Алки. Она с детьми осталась единственной – прочие колдуньи Дома находились в святилище, своими чарами помогая верховному шаману удержать качающийся мир от наступления зла. Остальные жители приозерного селения стояли редко, семьями, терпеливо дожидаясь, пока вожди и шаманы наконец-то исполнят свой долг.
Опасаясь чар могучей колдуньи, отвязывать ее Хасуюимдей отправил не воинов, а молодых шаманов, крепких телом и волей. Поблескивая золотыми амулетами, те быстро управились с веревками, разошлись, распростав старуху, словно опасного ящера, потянули на костер. Нине-пухуця шла спокойно, не видя, что ведут ее к месту казни. А может статься и так, что огня она тоже не боялась.
Затянув старуху на колоды, молодые шаманы, непрерывно шепча защитные заговоры, крепко примотали ее к осине, с облегчением спрыгнули вниз. Хасуюимдей удовлетворенно кивнул, ушел в святилище и вскоре вернулся с факелом, зажженным от жертвенного очага. Но просто запалить костер как-то не решился и громко провозгласил:
– Ты исчадье зла, старая Нине-пухуця, черная шаманка, служительница смерти! Ты пыталась погасить солнце предков, принеся погибель всему живому! Ты ненавистница народа сир-тя, хотя и порождена им же! Ты хотела уничтожить наш мир, так сгинь же сама, унеся с собой свою ненависть и свои беды! – И он решительно запихнул факел под хворост.
– Обречен смерти народ, променявший жажду нового на покой и сытость! – вскинув подбородок, громогласно ответила Нине-пухуця чуть хрипловатым, но звонким голосом. – Обречен гибели народ, что не ищет для себя подвигов и достижений! Обречен смерти народ, что не ищет в чужих землях поле для битвы, ибо иначе битва придет к нему! Обречен гибели народ, забывший заветы предков и живущий одним днем! Не я вас убиваю, сир-тя! Вас убьет ваша лень и любовь к неге! Боги нижнего мира уже занесли над вами карающий топор! Да прольется кровь тех, кто не готов жертвовать ею сам! Да сгинут те, кто недостоин жизни! Вижу я упряжку великого Темуэде-ни, примчавшегося за вашими душами! Спускается он на берег тихого озера, открывает свои мешки, тянется к вам холодными руками! Пришло время умирать!
– Будь ты проклята, черная тварь! – Даже у верховного шамана побежали по спине мурашки от жуткого пророчества старухи, он зашуровал факелом под валежником. Сучья и ветки разгорелись шустро, облизывая своими алыми языками колоды, но дальше огонь не поднимался. Крупные стволы трещали, дымили, стреляли искрами, чадили, чернели – но полыхать не хотели. – Проклятье! Унху, принеси горючий жир!
Молодой шаман, сорвавшись с места, скрылся в святилище, а старая колдунья закашлялась, надышавшись дыма. Хасуюимдей облегченно перевел дух – наконец-то злая Нине-пухуця оборвала свои безумно-зловещие предсказания!
И чем только ей не нравился этот мир? Сир-тя живут в покое и безопасности, не знают голода и врагов. Зачем нужно что-то менять?
Унху выскочил с берестяным коробом, в котором хранилось змеиное сало, горькое и вонючее, а потому непригодное ни на что, кроме светильников, промчался полпути до костра… и вдруг замедлил шаг, глядя куда-то за спину верховному шаману. Глаза паренька округлились, Хасуюимдей ощутил катящуюся от него волну ужаса, резко обернулся.
Едва стало светать, казачья полусотня поднялась и двинулась в глубину чащи. На краю легко оказаться замеченными случайными жителями, спозаранку собравшимися в лес за дровами, грибами или ягодами. Дубрава оказалась чистой, ухоженной: валежник убран, сухостоя нет, гнилья тоже, каждые три-четыре сотни саженей воинам встречалась широкая тропа, идущая к селению.
– Заботятся дикари, – тихо отметил отец Амвросий, – даром что язычники. Берегут.
По ухоженному лесу и идти было легко, так что уже через полчаса воевода приказал остановиться, выставить дозоры и готовиться к бою. Сам же, взяв немца и Андреева с Серьгой, отправился на разведку.
В этот раз они подобрались к селению с востока, от самой чащобы, откуда местные нападения точно ждать не должны. Выйдя к краю вскопанных грядок, спрятались за стволы, благо дубы в толщину имели по два-три локтя, и вполглаза выглянули вперед.
– Хижин и вправду много, друг мой, – отметил Ганс Штраубе, осматривая редко стоящие остроконечные юрты, крытые толстой пятнистой кожей. – Полагаю, их тут между грядками сотни полторы наберется. Сиречь полтораста семей. Коли обычные, со стариками и детьми, можно по два мужика на каждую считать. Хозяин и старик али сын взрослеющий. Три сотни воинов и бабы с детьми. На круг, мыслю, больше тысячи населения наберется. Считай, город.
– Трем поколениям в таком шалаше не уместиться, – покачал головой Силантий. – Мыслю, каждый вьюнош по взрослению новый себе должен ставить.
– Токмо бедные больно дома-то… – добавил немец. – Откуда у них золото?
– Они в чумах своих не живут, спят только, – раскладывая подзорную трубу, сказал Иван Егоров. – Я, когда в полоне был, присмотрелся. В семьи токмо на ночь расходятся, уединиться. А живут там, возле святилища. – Воевода вскинул трубу, навел резкость. – Там играют, там готовят, там делами занимаются, там молятся. Все там, у святилища, происходит. Оттого и домишки столь простые. Здесь же тепло всегда, топить не нужно. От ветра, дождя, взглядов чужих прикрывают, и ладно.
– Надеюсь, они хоть на перинах спят? – сварливо поинтересовался Штраубе. – Я на жердях все бока уже отлежал, хочу постель помягче.