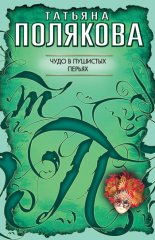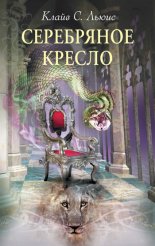Фаворит. Том 1. Его императрица Пикуль Валентин

– А вы уже замужем, мадам! – осадил ее король.
Ночевать остановились в берлинском отеле, и мать, уложив Фике в постель, быстро и шумно переодевалась. Поверх исподнего фрепона накинула распашной модест, в разрезе лифа расположила гирлянду пышных бантов. Туча пудры осыпала ее декольте (в форме воинского каре), а белизну шеи искусно оттеняла узкая черная бархотка. В такие минуты, собираясь покинуть дом, она всегда хорошела, добрея. Иоганна приклеила над губою мушку и, мурлыча, повертелась перед зеркалами. Потом, глубоко задумавшись, она подвела у глаз стрелки, и теперь это сочетание стрелок с мушкою было негласным паролем для знатоков любви: «Вы можете быть со мною дерзким…» Громадное панье не позволяло матери пройти через дверь, она встала бочком и проскочила с писком, как мышь. Фике уснула и пробудилась ночью, встревоженная чужим смехом за стеною. В длинной рубашке до пят девочка соскочила с постели, тихо приоткрыла дверь в материнскую спальню. Первое, что она увидела при лунном свете, это длинный палаш драгунского офицера, затем разглядела и остальное. Фике справедливо решила, что увиденное ею следует скрывать от отца. А утром она заметила, что у матери появились лишние деньги, и мать очень быстро промотала их на всякие мелочи, против приобретения которых всегда так горячо восставал скупой отец…
А скоро наступили перемены. Сначала они казались случайными, потом закономерными и наконец обрели мощный европейский резонанс. Эти перемены касались лично ее – маленькой и отверженной в семье принцессы Фике… Анна Иоанновна умерла, престол России занял ее племянник Иоанн Антонович, но в морозную ночь цесаревна Елизавета, поддержанная гвардией и мелким дворянством, выбросила Брауншвейгскую династию из царского дворца. Фике теперь часто заставала мать перебирающей газеты – брюссельские, парижские, гамбургские. Снова воскресли угасшие надежды голштинцев:
– Да, да! Уже сбываются пророчества Адама Олеария, и нашу бедную Голштинию ожидает великое и славное будущее…
Вскоре газеты сообщили, что герцог Голштинии вытребован теткою в Россию для наследования престола, и Фридрих II моментально отреагировал: летом 1742 года, желая угодить русскому кабинету, король произвел принца Христиана Ангальт-Цербстского в генерал-лейтенанты, назначив его губернатором Штеттина.
Ликованию матери не было предела:
– Прочь из этих жалких комнатушек – в замок, в замок!..
Теперь за стулом Фике прислуживал лакей, штопаных чулок она более не носила, к обеду ей подавали громадный кубок вкусного пива. Отныне – уже не по легендам! – девочка по доходам семьи, по содержимому своей тарелки материально, почти плотски, ощутила щедрую благость, исходящую от могущества великой России. Затем герцог Людвиг (родной дядя Фике) призвал своего брата Христиана в соправители Цербста, и отец стал титуловаться герцогом. Резкий переход от ничтожества к величию отразился на нервах матери, и она властно потребовала от мужа, чтобы во время вкушания ею пищи играла на антресолях музыка.
– Вы знаете, друг мой, – доказывала она, – что я спокойно поедала все, что мне дают, и без музыки. Но зато теперь, когда я стала герцогиней, мой светлейший организм не воспринимает супов без нежного музыкального сопровождения их в желудок…
Фике страдала: она не выносила музыки – ни дурной, ни хорошей. Любая музыка казалась ей отвратительным шумом. Голубыми невинными глазками девочка исподтишка шпионила за матерью, а потом перед зеркалом копировала ее ужимки, обезьянничала.
…
Никто и не заметил, как за декорациями зеленых боскетов, на фоне трельяжных интерьеров потихоньку складывался характер будущей женщины – все понимающей, все оценивающей, уже готовой постоять за себя. Герцогине не могло прийти в голову, что ее дочь, замурзанная и покорная, уже давно объявила ей жестокую войну за первенство в этом мире, и она будет вести борьбу до полной капитуляции матери… Целый год герцогиня с дочерью провели в Берлине, где Фике оформилась в подростка, стала длинноногой, остроглазой вертуньей, скорой в словах и решениях. Мать хотела сделать из дочери изящное манерное существо, вроде фарфоровой статуэтки, под стать изысканным картинам Ватто, и даже за обеденным столом Фике держала ноги в особых колодках, приучая их к «третьей позиции» – для начала жеманного менуэта.
– Главное в жизни – хороший тон! – внушали Фике.
Целиком поглощенная тем, чтобы люди не забывали о ее величии, мать не разглядела в дочери серьезных физиологических перемен. Но они не остались без внимания прусского короля…
Фридрих II вызвал к себе министра Подевильса:
– А ведь мы будем олухами, если не используем привязанности Елизаветы к своим германским родственникам. Сейчас русская императрица обшаривает закоулки Европы, собирая портреты для создания «романовской» галереи… Я думаю, – решил король, – что нам стоит пригласить глупца Пэна!
Был чудный мартовский день 1743 года.
– Фике, – сообщила мать дочери, – лучший берлинский живописец Антуан Пэн будет писать ваш портрет. Я научу вас принять позу, исполненную внутреннего достоинства и в то же время привлекательную для взоров самых придирчивых мужчин. – Герцогиня заломила руки, возведя глаза к потолку, на котором пухлые купидоны, сидя на спинах дельфинов, трубили в раковины гимны радостной жизни. – Король так добр, – заключила мать, прослезясь, – что нам этот портрет не будет стоить даже пфеннига: прусская казна сама уплатит живописцу.
Портрет был вскоре написан.
– Во, бездарная мазня! – сказал король, стуча тростью. – Ладно! Я не думаю, чтобы Елизавета была знатоком живописной манеры, а принцесса Фике представлена здесь вполне выразительно…
Портрет намотали на палку, как боевое знамя, которое будет развернуто во всю ширь перед генеральным сражением. Королевский курьер доставил его на берега Невы, где Елизавета, кокетливо прищурившись, осмотрела свою дальнюю родственницу.
– Ну что ж, Алеша! – сказала она своему фавориту Разумовскому. – Гляди сам: ноги-руки на месте, глаза и нос – как у людей… Сгодится и такая нашему дурачку!
…
В канун наступающего 1744 года вся ангальтская семья собралась в Цербсте, где герцог Христиан, как добрый лютеранин, пожелал украсить новогоднюю ночь возблагодарением всевышнего за щедроты, которые столь бурно на него излились… В эти дни ангальтинцы уже были извещены, что портрет Фике произвел на русскую императрицу самое благоприятное впечатление.
1 января герцог Христиан, сочтя, что одной порции молитв недостаточно, снова деспотически увлек свое семейство в капеллу цербстского замка. Опять заиграл орган, зашелестели в руках молитвенники. Но с улицы вдруг послышался топот копыт, заскрипели на ржавых петлях тяжкие двери храма, и в настороженной тишине, разом наступившей, все невольно вздрогнули от грузных шагов.
Цок-цок-цок – стучали ботфорты по каменным плитам.
Фике встала навытяжку – это близился ее рок!
3. Дорога на восток
Следом за своим воспитанником прибыл в Россию и голштинский камер-юнкер Брюммер, а те слова, которыми он ободрил будущего императора, дошли до нас в документальной ясности:
– Я стану сечь ваше высочество так нещадно, что собаки не будут успевать облизывать кровь с вашей паршивой задницы…
Карл Петр Ульрих в России стал называться Петром Федоровичем. И хотя этот enfant terrible всем постоянно мешал, он многим был нужен. Петр нечаянно для себя (и неожиданно для истории) сделался важным козырем в игре престольных конъюнктур. Из Стокгольма прибыло в Петербург целое посольство – шведы просили у царицы уступить им племянника, который Карлу XII приходился внуком, Елизавета потому и не хотела его отдавать. Она отвечала послам, что Петр нужен ее престолу как внук Петра I, а если вам, шведам, короля нигде более не сыскать, так я вам уступлю другого голштинца. И указала на дядю своего племянника – епископа Адольфа Любекского, который проворно скинул мантию и, уплыв в Швецию, женился на родной сестре прусского короля Фридриха II… Такова забавная подоплека появления голштинца Петра III в России!
Наследник русского престола не знал матери, умершей после его рождения, в раннем детстве потерял и отца. Брюммер с пучком розог и епископ с катехизисом вывели отрока за шлагбаум европейской политики. При первом же свидании с русской тетушкой Петр сильно озадачил ее ухватками караульного солдата, которые никак не вязались с интересами неразвитого ребенка.
– Впервые вижу, – удивилась Елизавета, – чтобы круглый сирота был и круглым дураком. – Она была растерянна и даже не скрывала растерянности от придворных. – Нешто, – спрашивала царица, – в Европах и все принцы таковые обормоты бывают?..
С бравадою арестанта, выпущенного из тюрьмы, Петр в первый же день свободы жестоко напился. Императрица стороною вызнала, что с десяти лет мальчика уже потчевали в Голштинии вином и пивом.
– Вот это новость, – тяжко призадумалась Елизавета. – Уж на Руси святой люд православный винопитием удивить трудно, но у немцев, видать, всем нам еще поучиться надобно. – Она посоветовалась с Разумовским: – Как быть-то нам? Ведь, чай, не чужой он мне, а родная кровинушка… Драть его? Так он уже дран приехал. Этот Брюммер его насквозь, будто ротный барабан, простучал!
Бывший свинопас отвечал с большим знанием дела.
– Учить надо, голубушка ясная. А ученье без мученья не бывает, о чем небось и сама по опыту ведаешь…
К телесному воздействию со стороны Брюммера приложили умосозерцательное воздействие академика Якоба Штелина, и тот выявил полную беспомощность мозга наследника: Петр понимал лишь осязаемое и видимое, избегая всего отвлеченного. Отвергая все крупное, он любил мелочи. Даже рассматривание мундира начинал не с его покроя, а – с пуговиц… Книги не читались, Петр рассматривал в них лишь картинки. Русскую историю Штелин трактовал по рублям и гривнам старого времени. Геометрия имела практическое завершение чертежом учебной комнаты. Химию осваивали лицезрением частых городских пожаров. Брюммер присутствовал постоянно! Он имел наготове испытанный арсенал воспитательных инструментов, как-то: оплеухи, розги, подзатыльники и прочие удивительные чудеса, до сей поры не снятые с вооружения всего мира. К этому набору педагогических средств следует добавить бесподобную виртуозность брани, которую Брюммер по прибытии в Россию радикально обновил за счет пленительных русских выражений…
– Учиться так учиться, – говорил он здраво.
В один из дней тетушка вызвала племянника к себе и поставила перед ним пэновский портрет его цербстской кузины.
– Узнаёшь ли? – вопросила конкретно.
– Впервые вижу, – получила ясный ответ.
Елизавета Петровна малость даже оторопела:
– Я тут стараюсь, в Европах этих разных все пороги обила, невесту для тебя сыскивая, а ты свою же сестрицу не признаешь… Ступай! – велела она. – Я тебя супружеством отягощу. А жена – не тетка родная. Она живо даст тебе на орехи с изюмом…
Итак, читатель, 1 января 1744 года в капелле цербстского замка появился курьер с пакетом. Его шаги приближались: цок-цок… Он обошел Фике, вытянувшуюся перед ним, миновал и герцога Христиана, вручив эстафету в руки герцогини Иоганны Елизаветы.
– От кого? – спросила она с некоторым испугом.
– От… простите, не извещен.
Все потянулись в замок – к столам, к каминам, к трубкам и пиву. Владельцы Цербста примолкли, выжидая, когда герцогиня ознакомится с посланием. Наконец она вышла из кабинета:
– Фике, это касается лично вашей персоны…
Большие воды политики иногда протекают грязными темными каналами. Письмо было от Брюммера, но писал он так, что за его спиною ощущалось жаркое дыхание самой Елизаветы. Фике скосила глазки на депешу из Петербурга: «…императрица желает, чтобы Ваша Светлость, сопровождая старшую дочь Вашу, принцессу, прибыли сюда возможно скорее… Вы слишком просвещенны, чтобы не понять истинного смысла того нетерпения, с каким русская императрица желает Вас видеть…» Герцог спросил жену, указывая трубкой:
– Могу я знать, что здесь писано к вам?
Иоганна Елизавета закрыла письмо ладонями:
– Нет! – Но тут же разболтала: – Я еду в Россию и везу туда Фике. А в Берлине по векселю Елизаветы король отсыпет мне дукатов, сколько я попрошу… Это великая тайна, мой друг! Пока мы скачем в Россию, ни одна кошка в Европе не должна шевельнуться. Мы отъезжаем под именем графинь Рейнбек и лишь в Риге сможем называться своими подлинными именами…
Вдруг перед замком (опять роковое «вдруг») протрубил рожок почтальона, из кареты выбрался краснорожий фельдъегерь, поднялся в замок и, вскинув ко лбу пакет, вручил его герцогине:
– Вашей светлости от его королевского величества.
– Мускусу! – закатила глаза герцогиня. – Ах, неужели в этом доме никто не видит, что мне дурно… ах, умираю, спасите!
Каждый час по эстафете, сначала из Петербурга, а теперь из Берлина, – это слишком помпезно. Сбрызнутая острым мускусом, герцогиня прочла: король требовал скорейшего отъезда в Россию. Герцог Христиан ходил по комнатам, задевал коленями стулья, обитые гризетом цербстского производства, и – рассуждал:
– Я все-таки не понимаю, что в нашем тихом Цербсте происходит? Кто объяснит мне эту странную суматоху?
– Едем! – закричала жена. – Вы, мой друг, сущий болван, если не догадываетесь, что наша ничтожная Фике станет русской императрицей… Готовьте лошадей и кареты… в дорогу!
Фике онемела. А перед ее матерью, жаждавшей трепетных удовольствий, открылась картина блистательной жизни в России: торжественные почести, праздники и фейерверки, кавалькады любовников, которые, сгорая от страсти, скачут за нею в тени романтических дубрав, а она – гордая! – всем отказывает. Но тут является некто неотразимый, и перед ним она слабеет. При этом ангальтинка плотоядно размышляла: «В любом случае моя дочь может только мешать мне наслаждаться…» Строгим тоном она ей сказала:
– Фике, разрешаю вам взять в Россию три платья, остальные пригодятся вашим сестрам, когда они подрастут… Так и быть: я дарю вам свои новые брюссельские чулки, но отберу их у вас, если в Петербурге не найду себе лучших.
Два дня ушло на срочное обновление туалетов герцогини, а невесту оставили в прежних полунищенских обносках.
– Скромность украшает невинность, – декларировала мать и позволила взять в Петербург медный кувшин. – Пусть русские дикари видят, что вы явились не с пустыми руками. Захотите помыться, и вам не придется краснеть, выпрашивая кувшин у императрицы.
Отец взялся сопровождать их. Карета тронулась, через заднее окошко Фике проследила, как за нею опустился полосатый шлагбаум Цербста (она уже никогда сюда не вернется). На третий день семейство прибыло в Берлин.
– В браке вашей дочери с русским наследником, – сказал Фридрих II герцогине, – я вижу залог безопасности Пруссии, а мой посол в России, барон Мардефельд, ждет вашу светлость с таким же нетерпением, с каким, полагаю, жених ожидает прибытия невесты… А кстати, – огляделся он, – почему я не вижу ее здесь?
Иоганна Елизавета объяснила отсутствие дочери тем, что глупая Фике может лишь помешать серьезной беседе.
– Глупая или мудрая, но к обеду ей быть здесь!
Недавно Фридрих II победоносно завершил войну с Австрией, отняв у нее богатую Силезию, – теперь, выдавая Фике за русского наследника, он хотел сделать Россию нейтральной к своим захватам. Но канцлер Бестужев-Рюмин ориентировал политику Петербурга на Австрию и Саксонию… Король доказывал:
– Приезд вашей дочери – это удар по Бестужеву, а мой посол Мардефельд поможет вам устранить его вредное влияние на Елизавету, на весь ее двор… Что ж, пора за стол. Где Фике?
Но король не дождался девочку к обеду.
– Где же она? – спросил он, уже гневаясь.
Пришлось сознаться, что Фике плохо одета.
– Сударыня, – вежливо и едко произнес король, – не забывайте, что вы только дуэнья при своей дочери. Не вам, а именно дочери предназначена роль царской невесты… Одеть Фике!
Три часа ожидали, пока Фике не явилась перед королем в уродливом платье, сшитом на живую нитку, едва причесанная, чуточку припудренная, без драгоценностей. Герцогиня, почуяв неладное, вырвала из своей прически длинное перо черного какаду и с размаху вонзила его в волосы дочери, словно кинжал в свою жертву.
Фридрих тут же выдернул перо, подавая девочке руку:
– Ваша светлость, вы обедаете сегодня со мной…
Это была первая победа Фике над матерью, которая издали нервно наблюдала за дочерью, сидящей рядом с королем. А она с мужем вынуждена была жаться в сторонке.
Накормив одну лишь Фике, король отпустил их.
16 января ангальтское семейство покинуло Берлин.
Много позже, когда свидетели детских лет Фике уже вымерли, профессор Богдан Тьебо все же отыскал в Цербсте дряхлую баронессу фон Притцен, которая и рассказала ему: «Я ведь сама укладывала багаж перед ее отъездом… я заметила в ней ум расчетливый и холодный, но столь же и далекий ото всего яркого. Одним словом, я составила себе понятие о ней, как о девице самой обыкновенной, а потому судите сами о моем крайнем удивлении, когда я узнала про ее необычайные приключения в России».
…
Европа давно не помнила такой зимы – суровой и бесснежной; за каретами по замерзшим колдобинам тащились пустые сани на привязи, что придавало процессии нелепый вид. В Шведте-на-Одере семья разделилась: отцу ехать на Штеттин, а мать с дочерью поворачивали на восток. Сильный знобящий ветер развевал флаги над форштадтами. Отец снял треуголку и вдруг разрыдался. Он плакал, а его напутствия дочери звучали на ветру как боевые приказы:
– Милостивыми взорами наделяйте слуг и фаворитов государыни, с русскими наедине не говорите, чтобы не вызвать дурных подозрений. Избегайте расточительной игры в карты, деньги карманные держите в кошельке, выдавая прислуге самую малость. Кошелек ночью кладите в чулок, а чулок с деньгами прячьте между стеной и постелью, чтобы русские не стащили. В тяжбах и ссорах ни за кого не вступайтесь, дабы не нажить себе лишних врагов…
Это была его «политическая» программа! Фике сердцем вдруг поняла, что больше никогда не увидит этого человека. С криком она бросилась на шею отцу. Христиан стащил с головы парик и вытирал им слезы – свои и дочерние.
Кареты разъехались. Мать даже всплакнула:
– Всегда вы умудряетесь доводить страсти до критических крайностей. Ах, Фике, как хорошо знать золотую середину…
18 января, спасаясь от мороза, «графини Рейнбек» натянули на лица шерстяные маски с прорезями для глаз. Дороги были ужасные, а постоялые дворы Пруссии – в состоянии плачевном. Герцогиня депешировала мужу: «Мы спали в свинятнике; вся семья, дворовая собака, петух, дети в колыбелях, другие за печкой – все вперемежку… мы с Фике устроились на скамье, которую я велела поставить посреди комнаты, спасаясь от клопов». Миновав Данциг, 24 января форсировали Вислу и на третий день прибыли в Кенигсберг, откуда и повернули на Мемель. Здесь на целый аршин лежали глубокие снега, экипаж переставили на санные полозья. Для сокращения пути ехали прямо через залив Куриш-гаф; президент магистрата пустил перед ними множество саней с рыбаками, чтобы «графини Рейнбек» не угодили в полынью. За Мемелем почтовый тракт кончился, до Либавы катили на обывательских санях. 5 февраля, измученные холодом и неудобствами, путешественницы прибыли в Митаву, столицу Курляндского герцогства, владелец которого, герцог Бирон, был заточен Елизаветою в Ярославле, – отсюда до Риги оставался один переезд. Громадный митавский замок (дивное создание Растрелли) был еще в строительных лесах. Фике впервые увидела деревянные избы…
Отночевали в Митаве еще под именем «графинь Рейнбек», а утром проснулись от зычного голоса полковника Тимофея Вожакова, который, приветствуя их по-немецки, назвал уже настоящими именами, потом показал на часы:
– К полудню нас ждут в Риге – поспешите!
Закутанная до глаз, Фике спустилась во двор и удивилась, что – вчера еще пустынный – он заполнен множеством всадников: их встречали почетным эскортом. Морды лошадей были в пушистом серебре, иней покрывал и латы всадников. Драгуны были первыми русскими, которых увидела Фике! Румяные от мороза и водки, рослые и усатые, все с крепкими зубами, они сразу понравились девочке почти карнавальною красотой. Фике поразилась – всадники были без перчаток, будто холода не замечали. Юный офицер склонился из высокого седла, что-то долго говорил ей, и речь его рокотала как водопад. Фике застенчиво улыбнулась:
– Простите, я не знаю русского языка…
Хлопнула дверца кареты. Вожаков гаркнул:
– Драгунство, палаши… вон! На шенкелях па-а…шли!
По бокам возка тронулся эскорт всадников, звенящих промерзлою амуницией, сверкающих клинками наголо, а за ними вихрилась снежная пыль. «Россия, Россия… вот какая она, Россия!» Драгуны сидели на массивных лошадях столь плотно, что казались девочке сказочными кентаврами из античных мифов. А тот юный офицер скакал вровень с каретой и, заметив в окошке лицо принцессы, подмигнул ей – совсем по-приятельски, и от этого Фике стало вдруг легко-легко, как не бывало еще никогда в жизни…
Девочка весело рассмеялась. Ей было 15 лет.
Вскоре за широкой рекой показался угрюмый замок, шпицы соборных храмов, над острыми крышами домов плыли синие уютные дымы обывательских кухонь. Это была Рига – западный фасад России! А с востока Россия еще не ведала своих пределов, но русских видели плавающими по Амуру и Юкону, они – за океаном! – гостили в дымных вигвамах индейских вождей, с ружьями россияне проскакивали через знойные прерии Калифорнии… Империя! Но империя столь быстро растущая, что русские не успевали ставить заборов.
4. Бесприданница
А вот и первый зловещий факт: за два часа до въезда будущей Екатерины в Россию из крепости Дюнамюндешанц, что расположена в рижских предместьях, был секретно вывезен малолетний император Иоанн Антонович, сверженный Елизаветой Петровной.
…
Едва кони скатили карету на двинский лед, сразу же салютовали крепостные пушки, раздались звуки рогов и бой барабанов – их встречали. Но… как? В рижском замке, жарко протопленном, царило столь пышное оживление, что в глазах герцогини сразу и навсегда померкли краски берлинских и брауншвейгских празднеств.
– А ведь это еще только Рига, – шепнула она дочери. – Я сгораю от любопытства: что-то будет с нами в Петербурге?
Фике растерялась среди важных персон, отпускавших низкие поклоны, среди осыпанных бриллиантами дам, делающих перед нею величавые реверансы. Слышалась речь – русская, немецкая, польская, французская, английская, сербская, молдавская, даже татарская. У герцогини закружилась голова от обилия золота и бархата, серебра и шелка, алмазов и ароматных курений. Палочкой-выручалочкой в этом заколдованном замке стал для приезжих камергер царицы Семен Нарышкин, который с ленцою русского барина проводил их в отдельные комнаты, небрежно дернул сонетку звонка, наглядно демонстрируя, как вызвать его или прислугу.
– А государыня – в Москве, куда и вам следует ехать.
Лакеи внесли легковесную шубу из соболей, и Нарышкин с удовольствием накрыл ею невесту:
– Это вам от государыни, дабы в дороге не мерзли.
Едва он оставил женщин наедине, как Иоганна Елизавета сразу же напялила шубу на себя и кинулась к зеркалам:
– Фике, не забывайте, что я ваша мать, и жестоко с вашей стороны видеть свою мать одетой беднее…
Шуба так и осталась у нее. Быстрая перемена обстановки ошеломила и девочку. Стоило ей высунуть нос из комнат, как великаны-преображенцы делали «на караул», а на хорах флейты и гобои исполняли пасторальный мотив. Присев к столу, герцогиня уже строчила мужу: «Мне страшно при мысли, что все это делается для меня, для которой в Германии еле слышно стучали в барабан, а чаще всего и того не делали…» О дочери она не упоминала: все почести, оказываемые Фике, мать принимала на свой счет!
Чуть ли не в шесть часов утра Нарышкин был разбужен звонком, призывавшим его в покои принцессы. Камергер застал Фике уже полностью одетой; казалось, в эту ночь она не спала. С видом необыкновенно серьезным девочка указала вельможе на стол, где были разложены заранее бумага с перьями и чернила с песочницей.
– Господин камергер, – сказала Фике, чинно приседая, – я не знаю, как сложится моя судьба в России, но она ведь может сложиться и счастливо. – Допустив паузу, Фике выждала от Нарышкина покорного поклона. – Садитесь, – велела ему, – и опишите мне обычаи при русском дворе, русские заветы и пристрастия…
Нарышкин смолоду был дипломат. Не прекословя, он быстро начертал для нее все-все, о чем она просила. После чего удалился, поцеловав Фике руку – уже не просто из этикета, а даже с уважением.
…
Тронулись! Для матери сон еще продолжался:
– Мы попали в волшебную страну. Смотрите, Фике, вся наша карета выложена соболями, а матрасы в ней обтянуты индийским муслином. В нашем поезде скачут метрдотель, легион поваров, личный кофишенк и даже кондитер… О-о-о, – заколотилась она, – кажется, я начинаю завидовать даже сама себе!
А взгляд девочки был устремлен за окно кареты, где посвистывали сыпучие русские снега. Тяжко ухали в твердый наст копыта кавалерийского эскорта. Выехав из Риги утром, они еще засветло достигли Дерпта, – дороги были на диво гладкие, по вечерам каждая верста освещалась бочкой с горящей смолою. Бюргерская Нарва встретила их бесподобной иллюминацией, а за Нарвою кони рванули напрямик – на Петербург…
Вот и первые русские деревни; Фике обратила внимание на какие-то строения из высоких столбов с перекладинами.
– Это виселицы? – спросила она Нарышкина.
– Нет, качели, – ответил тот…
Фике не поняла, что это такое (в Германии качелей не знали). А в русской столице властвовали мороз и солнце, все сверкало от инея. Двор пребывал в Москве, и потому Петербург заметно опустел от знати, дипломатов, поваров, посуды и даже мебели. Однако оставшегося декора вполне хватило для соблюдения церемониалов, и вечером Иоганна Елизавета записывала: «Здесь мне прислуживают, как королеве. Меня посещали дамы, я уже играла в карты и ужинала с теми из них, которые признаны того достойными». В этот день Нарышкин спросил Фике: что бы она желала осмотреть в Петербурге? Ответ девочки был для него неожиданным:
– Я хочу проделать путь, который свершила ваша императрица Елизавета, когда шла забирать престол для себя.
И на следующий день в точности повторила маршрут Елизаветы – от Преображенских казарм до Зимнего дворца. А перед отъездом в Москву Фике пригласили в отдельную комнату, куда следом вошли трое сосредоточенных мужчин – это были лейб-медики Санчес, Кондоиди и Каав-Бургаве; врачей сопровождала статс-дама графиня Румянцева, которая с величественным видом повелела девочке:
– Сейчас вы ляжете на эту софу, господа должны учинить императрице подробнейший доклад о вашем природном естестве…
Фике было стыдно. Но следовало подчиниться, дабы не возвращаться в Цербст, который из заснеженных русских далей показался девочке чужим, заброшенным и никому не нужным.
– Одевайтесь, – разрешила графиня. – Доклад врачей ея величеству послужит к вящему удовольствию вашей светлости…
Поехали! На каждой станции торжественный поезд ждали свежие лошади, свежие простыни, свежий кофе и свежие булочки. 7 февраля на раскате крутого поворота сани трахнулись об угол избы с такой силой, что у невесты искры из глаз посыпались, а герцогиня получила удар по лбу, отчего и явилась в первопрестольную столицу с великолепным синяком. Было 8 часов вечера 9 февраля, когда возок с невестою нырнул под кремлевские ворота, длинный поезд вытянулся под окнами покоев императрицы. С треском разгорелись смоляные факелы, громко стучали двери – каретные и дворцовые. В суматохе встречающих, средь разбросанных по сугробам сундуков и баулов, бродила полная женщина в шубе наопашь, с открытою на морозе головой, сверкая восточным украшением, вплетенным в прическу. Это была Елизавета… На лестницах Кремля была страшная суета, одни бежали наверх, другие вниз. Елизавета походя разговаривала со всеми, смеялась, что-то указывала, бранилась, ей возражали, она махала рукой, посылая всех к черту, и тут же суеверно крестилась. Заведя Фике в свои комнаты, императрица сама стала расстегивать на Фике дорожный капор. Герцогиня, ошалевшая от «варварской» простоты приема, стала низко приседать, произнося высокопарную речь о знаках благодеяния, которые… Но Елизавета, не дослушав ее, хлопнула в ладоши, пухлые, как оладьи, – мигом явился Лесток, лейб-хирург ее двора – и указала ему на синяк герцогини, отливавший дивным перламутром:
– Смажь! Чтоб к утру этого не было…
Над Москвою с треском лопались пороховые «шутихи», в избе плясали фонтаны огня. Елизавета сама проводила Фике в спальню, велела при себе раздеваться. Заметив простенькое бельишко принцессы, спросила: что та привезла из Цербста? Фике честно перечислила багаж: три платьица, дюжина нижних рубашек, туфли да чулочки, а простыни для спанья берет у матери.
– И это… все? – хмыкнула царица.
Фике вдруг стало очень стыдно за свою бедность:
– Еще кувшин. Медный. Очень хороший.
Елизавета расцеловала девочку в щеки:
– Бесприданная! Ну спи. Я тебя приодену…
Будущая «Семирамида Севера» уснула, но это не был спокойный цербстский сон – даже ночью жизнь в Кремле не затихала. За стенкою долго шумели пьяные, где-то резались в карты, пили и дебоширили. Фике не раз просыпалась от неистовых женских визгов и сатанинского мужского хохота. В покоях императрицы кастраты из Флоренции до утра исполняли любовные арии на слова аббата Метастазио, а у фаворита Разумовского слепые кобзари играли на бандурах, напевая о страданиях запорожцев на галерах турецких. Потом, уже на рассвете, когда все малость утихомирились, дворец Кремля сильно вздрогнул, будто под ним взорвали пороховую бочку, – это обрушилась гигантская пирамида сундуков с нарядами и туфлями императрицы. А когда утром герцогиня с принцессой, приведя себя в порядок, готовились начать день, выяснилось, что дворец наполнен одними спящими.
За окнами тихо сыпался мягкий снежок…
…
Петр Федорович встретил невесту без интереса. Фике выслушала его первую ложь – как он, будучи лейтенантом (?), командовал голштинской армией (?) и наголову разбил датчан (?), которые сдавались ему в плен тысячами (?).
– Когда это было? – спросила девочка.
– Лет десять назад…
Фике удостоила его игривого книксена:
– Поздравляю ваше высочество, что в возрасте шести лет вы уже столь прославили себя в грандиозных сражениях.
– А вы злая, – ответил Петр.
Елизавета приставила к Фике учителя манер и танцев, священника для познания православия и писателя Василия Ададурова – для обучения русскому языку. Понимая, чего от нее хотят, Фике старалась как можно скорее «обрусеть» и со всем пылом своей натуры взялась за освоение русской речи… О-о, как это было трудно! Регулярно, в три часа ночи, Фике усилием воли заставляла себя покинуть постель, до рассвета зубрила: баба, плетень, дорога, большой, маленький, ложка, превосходительство, чепуха, красавица, капуста, белка, корабль, указ, воинство, клюква… Зачастую, встав средь ночи, Фике, не одеваясь, ходила, разговаривая по-русски, босая, а изо всех щелей дуло, и девочка простудилась.
Все началось с озноба, а к вечеру 6 марта Фике находилась уже в беспамятстве. Очнувшись, она кричала от боли в боку. Императрица находилась в отъезде на богомолье, а мать… Мать думала только о себе! Все, буквально все рушилось в планах герцогини. Сейчас, когда дела идут так хорошо, эта мерзавка дочь осмелилась заболеть. Мало того, врачи не исключают трагический исход, и тогда герцогине, собрав скудные пожитки, предстоит вернуться к заботам о детях, к старому нудному мужу, на обед ей снова будут подавать вассер-суп… С ненавистью герцогиня тащила умирающую дочь с постели на пол, кричала на принцессу в бешенстве:
– Сейчас же встать! Какое вы имели право так распускать себя? Одевайтесь… немедленно! Мы едем на бал к Салтыковым…
Потеря сознания спасла Фике от этой поездки. Чья-то прохладная рука легла на ее лоб, приятно освежая. Это из Троицкой лавры примчалась императрица. Елизавета (прямо с дороги – в шубе) присела на край постели, а герцогине сказала:
– Сестрица, поди-ка вон… погуляй. – Потом заботливо поправила подушки под головою девочки. – Сама не маленькая, и постеречься надобно. Здесь тебе не Цербст, а Россия-матушка… у нас сквозняки такие, что и быка свалят!
Она обещала позвать лютеранского пастора.
– Зачем мне пастор? – сказала ей Фике. – Зовите священника русского. Я ведь уже считаю себя православной…
После таких слов Елизавета наказала Лестоку:
– Жано, передай лейб-медикам, что, ежели не спасут девку цербстскую, я их заставлю раскаленные сковородки лизать…
А пока дочь болела, светлейшая герцогиня трудилась как усердная пчела. Из комодов дочери она перетаскала к себе все подарки императрицы, оставив дочку при том же скарбе, с каким и привезла ее в Россию (заодно с медным кувшином). Это заметили все русские. К тому же Иван Иванович Бецкой за партией в фараон сознался перед игроками, что когда-то поддерживал упоительную связь с Ангальт-Цербстскою герцогиней:
– После этого она и родила девочку.
Кирилла Разумовский спросил:
– Ванька, а не ты ли отец ее?
– Об этом надо спрашивать герцогиню, – отвечал Бецкой, сдавая трефового туза и поднимая выше свои придворные ставки.
5. Екатерина Алексеевна
Моряки, приставая к берегу, бросают между бортом корабля и причалом мешки с паклею, дабы смягчить неизбежный удар, – так и царствование Елизаветы Петровны стало чем-то вроде политического буфера, смягчившего исторически необходимый переход от иноземной сатрапии Анны Иоанновны к просвещенному абсолютизму.
Петр I называл иностранцев «учителями», а Елизавета разогнала этих «учителей», печатно обложив их в манифестах «злодеями» и «дармоедами». В том-то и была суть правления Елизаветы, что она опиралась на русские национальные силы; уже не Тауберг и Шумахер, а Сумароков и Ломоносов читали ей оды, и даже сладчайшие арии заезжих из Италии кастратов не помешали царице услышать пламенный монолог купеческого пасынка Федора Волкова, раздавшийся под конец ее жизни в Ярославле… По духу русская барыня, императрица впитала в себя все пороки русского барства. О первозданной лени Елизаветы писали даже в европейских газетах. Достоверен случай, когда, подписывая указ, она вывела: «Ели», а «завета» дописала лишь через два года. До изнеможения она замучивала себя постами и молитвами, а потом напивалась так, что не могла раздеться, и фрейлины, завалив ее на постель, ножами разрезали на царице золотую парчу одежд. Елизавета умела вести себя с утонченной изысканностью версальской маркизы, но порою, пренебрегая всяким приличием, поступала грубее полковой маркитанки, и тогда даже у кучеров вяли уши… Елисавет – да! – любила русский народ, но палец о палец не ударила, чтобы облегчить нужды народные, отдариваясь от людей устройством бесплатных зрелищ и праздничных карнавалов. Она – да! – уважала крестьянский труд, но ничего не сделала, чтобы облегчить жалкую участь закрепощенных миллионов. Однако в глазах своего народа Елизавета всегда оставалась «дщерью Петровой», и генеалогические связки Романовых с домом Голштинским были мало кому понятны. Вызвав в Россию племянника, императрица жестоко расплачивалась за брачные химеры отца, – и недаром же священники давали присягу, что в эктениях, поминая наследника, они обязуются добавлять слова: «внук Петра Великого» (иначе народ не понимал, откуда этот наследник взялся).
Время Елизаветы интересно не менее самой Елизаветы, и только те иностранцы, которые сознательно ничего не желали видеть в России, представляли ее унылой заснеженной пустыней. Зачастую они замечали в ней только мишурный фасад империи, не догадываясь, что в глубине России укрывается могучий трудовой тыл. Русские заводы при Елизавете уже полностью обеспечивали армию и флот отечественным вооружением. Промышленности и кустарям правительство оказывало самое усердное внимание. Двое умелых рабочих, Ивков и Владимиров, получили за труд звания поручиков; фабрикантов бумаги возводили в ранг майоров. В тяжелой индустрии, размещенной на отдаленных окраинах империи, обрастали дворянством и наградами знаменитые фамилии Твердышевых, Мясниковых, Собакиных, Яковлевых и Демидовых (все они вышли из мужиков-умельцев). А на далекой Печоре крестьянин Прядунов наладил первую в стране перегонку нефти – в целях лечебных и осветительных, и русская нефть уже экспортировалась в Европу. Успехи русской агрокультуры познавались тогда не по книгам – в застольях. Никого уже не удивляло, если подмосковный крестьянин вез продавать на базар лимоны и апельсины, в парниках вельмож вызревали виноград и ананасы; даже близ Полярного круга соловецкие монахи умудрялись выращивать дыни и персики. Избалованная модница, Елизавета желала, чтобы вологодские кружева были не хуже брюссельских, чтобы дамские туфли перещеголяли своим изяществом лучшие тогда в Европе варшавские… Богатейшая страна со сказочными ресурсами имела в своих недрах все, что нужно для бурного экономического развития, и единственное, чего не хватало России, так это рабочих рук! Отовсюду слышались жалобы на нехватку тружеников, а гигантские черноземы за Волгою, колышась вековым ковылем, еще сонно ждали, чтобы в их нетронутую сыть бросили первое зерно…
В самом центре этой работящей страны, еще не достроенной и вечно клокочущей бунтами, в душных палатах московского Кремля, жарко разметавшись на драгоценных сибирских соболях, сейчас умирала ангальтская девочка.
…
Весть о тяжкой болезни Фике достигла и Берлина.
– И надежд на выздоровление мало?
– Их уже не осталось, – ответил Подевильс.
Король свистнул, подзывая любимых собак, чтобы они сопровождали его до парка, и надел шляпу задом наперед.
– Ну что ж. Если часовой убит на посту, его заменяют другим, а потому готовьте для Петра новую невесту… Германские принцессы – самый ходовой товар в Европе. Кто у нас там в запасе? Вюртембергская дрыгалка, две корявые сестрицы Гессен-Дармштадтские. Выберите сами! В любом случае мы не упустим престола русского…
Но Фике не умерла и через месяц появилась на публике. «Я похудела как скелет, – рассказывала она о себе в мемуарах, – сильно выросла, лицо вытянулось, волосы выпадали, и я была бледна как смерть. Я сама себя находила такой некрасивой, что было страшно смотреть. Императрица прислала мне банку румян с приказом нарумяниться».
Скоро Фике заговорила по-русски, вызывая своим акцентом и ошибками шумное веселие среди придворных. Но это не смущало ее: она уже нырнула в московскую жизнь с головой, следовало плыть дальше. Фике часто притворялась спящей и, лежа с закрытыми глазами, слушала болтовню придворных дам, выведывая от них то, что нельзя выяснить путем официальным. Так, она узнала, что ее мать не пришлась ко двору, заслужив в обществе ехидную кличку «королева». Русские быстро разгадали ее пустоту и фальшь, их смешили напыщенная вычурность выражений и жеманное чванство герцогини. Фике было стыдно за мать и обидно, что та растерзала ее гардероб. Елизавета вторично обрядила Фике с головы до пят, но каждая новая вещь вызывала материнскую зависть. Герцогиня отнимала у дочери куски парчи и меха, туфли и шали. В сердцах Фике однажды сказала ей:
– Ах, ваша светлость, знали бы вы, как мне прискучило ваше неистребимое грабительство…
И получила от матери здоровенную оплеуху! Но однажды после обеда с женихом в комнаты к Фике вошла Елизавета, сурово указавшая Иоганне Елизавете следовать за нею для разговора. Фике с Петром уселись на подоконник, разболтались о пустяках. Была весна, все цвело, пели птицы. Вдруг явился Лесток.
– Не пора ли вам укладывать багаж? – сказал он принцессе. – Кажется, вам предстоит возвращение в Цербст…
Фике, ослабев, вяло сползла с подоконника. Петр спросил лейб-хирурга – что значат его угрозы, но врач лишь усмехнулся. Наконец появилась Елизавета, распаленная от гнева, а за царицей, будто побитая собака, тащилась рыдающая «королева». Императрица широко шагнула к Фике, долго изучала лицо девочки. Сказала:
– Ныне на дворе нашем век уже осьмнадцатый, век просвещенный, и дети за грехи родительские неповинны должны быть. – Заметив, что Фике перепугана, она улыбнулась: – Оконфузил тебя Лесток? Ну-ну! Жить в России да не пугаться – такого не бывает…
Истина открылась не сразу: регулярно перлюстрируя письма, Елизавета вызнала, что «сестрица» приехала погостить – как шпионка прусского короля. Ей было поручено свернуть шею канцлеру Бестужеву, а приватные свидания герцогини с Мардефельдом навели царицу на мысль о разветвленном заговоре. Но выставить шпионку за рубежи Елизавета могла лишь после свадьбы. Однако медицинская комиссия бракосочетанию воспротивилась:
– Его высочество Петр Федорович нужных для брака кондиций не обрел!
И надеялись, что организм великого князя окрепнет лишь через два года. Но разве можно допустить, чтобы прусская шпионка еще два года толкалась в передних дворцовых? Летом царица ускорила миропомазание принцессы Фике, которая восприяла от купели веру греческую, получив православное имя – Екатерина Алексеевна.
Перед обручением Екатерина постилась, неделю просидев на рыбной пище, облитой подсолнечным маслом. А когда в церквах провозгласили ектению за «благоверную Екатерину Алексеевну», царица украсила шею невестки ожерельем в 150 000 рублей:
– Но гляди, как бы охотники не сняли с тебя…
Екатерина поняла, в кого она метит. Мать, уже неспособная вести интригу в пользу Пруссии, начала интриговать против дочери. Ее сердце преисполнилось грубой зависти к высокому положению Фике, которая из принцессы превратилась в великую княгиню.
Гремели колокола и стреляли пушки. В ее честь!
…
Обретя под ногами русскую почву, Екатерина оживилась, быстро похорошела. Императрица переслала ей 30 000 рублей «на булавки», которые она тут же спустила за картами. Мотовство не укрылось от взора проницательной Елизаветы. В театре она зазвала наследницу престола в свою ложу и в присутствии Петра и Лестока устроила невестке хорошую баню:
– Что-то уж больно рано финтить стала, голубушка! Когда я в цесаревнах ходила, так, бывало, и соленому огурчику радовалась. А ты, едва приехав, сразу мотать стала… Гляди мне!
Самое обидное было в том, что будущий супруг гнусно злорадствовал над нею, и Екатерина сказала ему:
– Как вы можете, сударь, потешаться надо мною, если видите, что я, ваша супруга нареченная, горько плачу?
А осенью, когда двор длинными обозами стал перетягиваться в Петербург, великий князь заболел оспою. Исход болезни был еще неясен, и герцогиня заранее начала хлопоты перед королем Пруссии, чтобы он подыскал для Фике нового жениха… Петр Федорович, весь в гнойной коросте, остался лежать на станции Хотилово, а герцогиня внушала дочери, что не стоит огорчаться:
– Еще не все потеряно! Георг Дармштадтский славный солдат. Говорят, большой весельчак и принц Баден-Дурлахский…
Но Екатерине уже плевать на Дармштадт, ей и дела нет до Баденского герцогства. Мать осеклась под ее упорным взглядом.
– Я вам приказываю молчать! – выпалила Екатерина…
По сторонам дороги стыли великолепные леса, в белом пуху сидели на елках красногрудые снегири. Двое саней плыли в сверкающем безлюдье: Елизавета срочно повернула назад от Петербурга на Хотилово, а навстречу ей мчались сани с Екатериною. Где-то за Новгородом встретились. Две женщины (одна уже пожившая, все испытавшая, а другая едва вступающая в этот мир) долго плакали в объятиях друг друга. Беспокойство царицы понятно: умри сейчас Петр – и тогда из заточения поднимется Брауншвейгская династия. Еще более понятно и горе Екатерины: умри сейчас Петр – и перед нею снова поднимется полосатый шлагбаум Цербстского княжества. Девушка взмолилась, чтобы царица взяла ее с собой в Хотилово, но Елизавета, волоча по сугробам полы шубы, уже пошла к саням:
– Сама справлюсь! Эй, Сереженька, трогай…
Екатерина с матерью поселились в Петербурге на Фонтанке. Десять раз переволакивали мебель по комнатам, потому что, стоило Екатерине обосноваться, как герцогиня сразу же находила, что у дочери антураж лучше материнского. В довершение всего мать возобновила связь с Иваном Бецким и забеременела. Непорочной Екатерине было противно наблюдать, как ее маменька мечется по аптекам в поисках тайного способа избавиться от нечаянного приплода. Наконец царица привезла в Петербург выздоровевшего племянника. Петр был ужасен! «Я испугалась, увидев его, – вспоминала Екатерина, – черты лица огрубели, лицо было вспухши… он был в громадном парике, который еще больше безобразил его». С детства она умела владеть собою, но сейчас не могла скрыть отвращения к жениху. Кинувшись в спальню, великая княгиня дала волю слезам. Это была естественная реакция здорового организма на всякое уродство… Наплакавшись, она решила подавить в себе отвращение к уроду, чтобы не потерять великой России!
…
Вскоре опять возникла неприятность – Елизавета вплотную подошла к герцогине, сказав ей так:
– А ты, сестрица, еще не образумилась? Что вы там с бароном Мардефельдом по углам, будто тараканы за печкой, шушукаетесь? Я ведь из Хотилова все примечала…
Елизавета назначила свадьбу на 25 августа, а до свадьбы посоветовала «сестрице» совершить увлекательную прогулку по Ладожскому каналу. Разумовскому она сказала:
– Пусть ее там комары наши съедят, чтоб ее черт побрал, курву цербстскую, прости меня, господи, царица наша небесная!
…Екатерина писала: «По мере того, как день моей свадьбы приближался, я делалась все грустнее. Сердце не предсказывало мне счастья: одно лишь честолюбие поддерживало меня. У меня в глубине сердца было что-то такое, что никогда не давало мне ни на минуту сомневаться, что рано или поздно я сделаюсь самодержавною повелительницею России».
6. Игры в куклы
Как и всегда на Руси, к назначенному сроку ничего готово не было, но желание Елизаветы поскорее избавиться от ангальтской «сестрицы» было столь велико, что она решила: