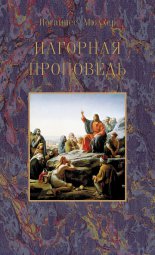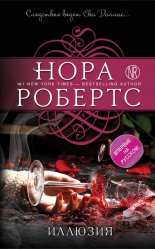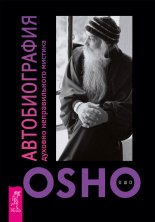Антон Райзер Мориц Карл
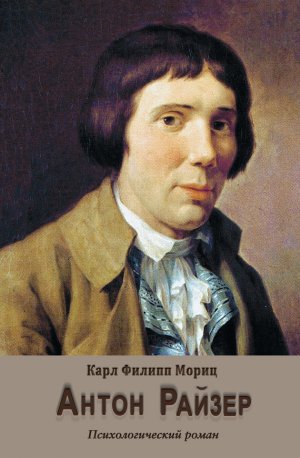
«Господи! Кто может пребывать в жилище Твоем? кто может обитать на святой горе Твоей?
Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем;
кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего;
тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа славит; кто клянется, и не изменяет;
кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного. Поступающий так не поколеблется вовек».
Эта короткая и разительная песнь как будто возбудила в слушателях ожидание дальнейшего. Сердца их открылись для великого и возвышенного, когда пастор Паульман с торжественно-серьезным выражением лица, как бы погруженный в себя, взошел на кафедру и, не сотворив молитвы и не сделав никакого вступления, простер руку и произнес:
«Тот из вас, кто не обижал вдов и сирот, кто не знает за собой тайных прегрешений, кто не вводил в обман ближнего своего ростовщичеством, чью душу не тяготит лжесвидетельство, тот вместе со мною доверчиво воздень руки к Богу и помолись: Отче наш и т. д.»
Далее он обратился к тому месту из воскресного Евангелия, где у Иоанна Крестителя спросили, не Христос ли он. «Он объявил, и не отрекся, и объявил, что я не Христос». Этими словами он воспользовался, чтобы обличить лжесвидетельство; прочтя их своим глуховатым размеренным голосом, он выдержал паузу и начал снова:
- О горе тем, кто на земле
- Отринул волю Божью,
- Кто с мрачной думой на челе
- Чернит святыню ложью.
- Бессовестно ты Богу лгал,
- Его насмешкой оскорблял,
- О, как же пал ты низко!
- Теперь пред ликом Чистоты
- Несчастней твари нет, чем ты,
- Но верь – спасенье близко.
- Ты падать духом не спеши,
- Греху не погубить души.
- Ведь слезы потекут ручьями,
- Когда раскаянье придет
- И стихнет постепенно пламя
- Вины, что нас так больно жжет.
- О ты, что миру зло принес,
- Плачь, если только хватит слез,
- Но лишь в надежде света.
- Тому, кто грех свой превозмог,
- Свой образ снова явит Бог —
- Вот суть его завета.[4]
Эти слова, произнесенные с долгими паузами и с величайшим пафосом, произвели невероятное действие. Когда они замерли, люди перевели дух, со лба их катился пот. Природа лжесвидетельства была исследована, и его последствия представлены в самом ужасающем свете. На голову лжесвидетеля пала молния, и погибель уже приближалась к нему, как вооруженный латник; в глубине его души трепетал грешник и взывал: «Горы, падите на меня, холмы, покройте меня!» Лжесвидетель лишился милости, гнев Предвечного навсегда уничтожил его.
Проповедник в изнеможении умолк, слушателей охватил панический ужас. Антон лихорадочно перебирал в уме все годы своей жизни, доискиваясь, не совершил ли он в прошлом какого лжесвидетельства.
Но уже звучали слова утешения – отчаявшемуся даровались милость и прощение, при условии, что он вдесятеро возместит отнятое у вдов и сирот, что будет всю оставшуюся жизнь омывать свои грехи слезами раскаяния и искупать их усердным трудом.
Милость подавалась нечестивцу не даром: он должен был добиться ее молитвой и плачем. Теперь же выходило так, будто проповедник сам, на глазах у толпы, вырывал ее у Бога своей молитвой и своими слезами, словно бы поставив себя на место сокрушенного душой грешника.
Отчаявшийся слышал обращенный к нему голос: ползай во прахе и пепле, пока не сотрешь колени, вопи: я согрешил пред небом и пред Тобой – так начинался каждый период проповеди: я согрешил пред небом и пред Тобой! – после чего чередой шли признания: я обижал вдов и сирот, отнимал у слабого последнюю опору, у голодного – хлеб и так далее по всему реестру грехов. Каждый период завершался возгласом: Господи, возможно ли мне снискать Твою милость?!
Горькие слезы лились потоком. Рефрен в конце каждого периода производил необыкновенное действие – все чувства словно бы возбуждались новыми и новыми электрическими разрядами, раскалявшими их до предела. И даже хрипота, под конец постигшая оратора, свидетельство его крайнего изнеможения (ибо он так и вопиял к Богу о снисхождении ко грехам народа), лишь усилила жалобные чувства, вызванные этой проповедью; во всей толпе не было ребенка, который бы не вздыхал и не плакал, увлеченный общим порывом.
Два с половиною часа пролетели как одна минута – неожиданно проповедник умолк и, сделав паузу, завершил проповедь теми же стихами, какими ее начал. Усталым севшим голосом он отчитал общую исповедь, принес покаяние в грехах и, наконец, произнес разрешительную молитву. Затем он помолился за тех, кто, как и он сам, готовился подойти к причастию, и, воздев руки, благословил прихожан. Само понижение его голоса после громкой проповеди имело в себе нечто торжественное и трогательное.
На сей раз Антон задержался в церкви: он хотел увидеть, как пастор Паульман будет причащаться. Каждое движение этого человека казалось исполненным святости. С бьющимся сердцем он приблизился к тому месту, где шел пастор Паульман. Чего бы он не отдал в эту минуту, чтобы его тоже допустили к причастию! Потом он смотрел, как пастор Паульман идет домой вместе с сыном, мальчиком лет девяти. Всем самым дорогим на свете Антон готов был пожертвовать, лишь бы оказаться на месте этого мальчика. Он глядел, как пастор Паульман пересекает улицу, со всех сторон теснимый прихожанами, выкрикивающими слова приветствия и благодарности, и ему казалось, будто от его головы исходит сияние и среди толпы смертных пробирается как бы некий сверхчеловек. Более всего он желал, приподняв шляпу, поймать хотя бы его мимолетный взгляд, и когда это ему удалось, он тут же поспешил домой, пытаясь сохранить этот взгляд в своем сердце.
В следующее воскресенье пастор Паульман проповедовал о любви к ближнему, и сколь потрясающей была прежняя его проповедь о лжесвидетельстве, столь трогательной оказалась эта; слова стекали с его губ, как мед, каждое движение не походило на предыдущее; само его существо словно изменилось под воздействием темы проповеди. И при этом – ни малейшей аффектации. В самом его естестве была заложена способность полностью сливаться с мыслями и чувствами, вызываемыми предметом речи.
В то же утро Антон выслушал еще одну, необыкновенно скучную проповедь другого проповедника этой церкви – и несколько раз впадал в настоящую ярость: когда дело, по всему судя, уже шло к заключительному «аминь», проповедник вдруг возвращался и прежним тоном начинал все сызнова. Теперь скучные проповеди причиняли Антону еще большие муки, чем когда-либо, поскольку он не мог удержаться от постоянных сравнений: проповедь пастора Паульмана стала для него высшим идеалом, недостижимым, как он думал, ни для кого другого.
По окончании утренней проповеди к пастору Паульману выстроилась целая очередь причастников, ожидавших его благословения, чему Антон еще никогда не бывал свидетелем. И сколь достойный образ явил при этом пастор Паульман! Он стоял в глубине церкви подле высокого алтаря и пел: «Хвалите Господа, ибо Он человеколюбец и милость Его не прейдет!» – таким неземным голосом и властным тоном, что Антон в ту минуту почувствовал себя как бы восхищенным в небесные сферы, – все это чудилось ему происходящим за некой завесой, в святая святых, куда заповедано даже приближаться ноге человека. Как завидовал он тем, кому дозволено подойти к алтарю и принять причастие из рук пастора Паульмана! Одна молодая женщина в черном платье, с бледными щеками, подступила к алтарю с выражением небесного благоговения и своим видом произвела на Антона небывалое впечатление. Впоследствии он никогда ее не видел, но образ ее на всю жизнь запечатлелся в его сердце.
Теперь его фантазия обрела новую игру. С мыслью о причастии он засыпал и с нею же просыпался. Весь день он носился с ней, работая в одиночестве; его воображению представал пастор Паульман с его мягким, волнообразно нарастающим голосом, глазами, обращенными горй и как бы озаренными неземным благоговением. Временами в его фантазии возникал образ молодой женщины, одетой в черное, бледной, с молитвенным выражением лица.
Все это настолько распалило его воображение, что он почел бы себя счастливейшим человеком на земле, если бы в следующее воскресенье его допустили к причастию. Он надеялся, вкусив причастие, получить столь возвышенное, неземное утешение, что слезы радости уже заранее текли по его щекам. Одновременно он испытывал род мягкого и успокоительного сострадания к самому себе, которое – стоило ему подумать о том, что его, подмастерья шляпника, никто подобного утешения лишить не может, – подслащало горечь и бедственность его положения. Он решил, когда ему позволят, причащаться каждые две недели, не реже, и к этому желанию примешивалась надежда, что при столь регулярном причащении пастор Паульман в конце концов обратит на него внимание, и эта мысль больше всех прочих придавала неизъяснимую сладость витающим перед ним образам. Итак, тщеславие таилось даже и здесь, в самой глубине его переживаний, где было очень нелегко его предположить.
Он и представить себе не мог, что навсегда останется таким же заброшенным и всеми забытым, как теперь. Согласно известным почерпнутым из романов идеям, которые он вбил себе в голову, непременно должно было случиться, что некий благородный господин, случайно увидев его на улице, найдет в нем нечто необычайное и возьмет на себя заботу о нем. Унылое, меланхолическое выражение, которое он придал своему лицу, лучше всего, по его расчету, привлечет к себе внимание. И потому он нередко напускал на себя куда более мрачный вид, чем свойственно его натуре. Мало того, нередко, встречая благородного господина, физиономия которого внушала ему доверие, он был готов заговорить с ним и поведать ему обстоятельства своей жизни. Но всякий раз его удерживала от этого одна и та же устрашающая мысль – что, если этот благородный господин сочтет его глупцом?
Порой, шагая по улице, он жалобным голосом запевал какую-нибудь из выученных наизусть песен мадам Гийон, находя в ней намеки на собственную свою судьбу, – ему думалось, что, поскольку в романах пение подобных жалобных песен иногда творит чудеса, то, быть может, он сумеет таким же образом привлечь к себе внимание какого-нибудь благотворителя и тем изменить свою судьбу.
Благоговение его перед пастором Паульманом было слишком велико, чтобы он отважился первым заговорить с ним. Стоило Антону к нему приблизиться, как его охватывала дрожь, словно он стоит рядом с ангелом. Он не мог и подумать – или всячески старался отогнать мысль, что пастор Паульман, как все люди, по утрам встает, вечером ложится в постель и, подобно остальным, отправляет множество естественных надобностей. Представить его в шлафроке и ночном колпаке было выше его сил – точнее, он сам избегал подобных мыслей, словно они могли пробить брешь в его душе. Особенно невыносим для него был образ пастора Паульмана в ночном колпаке – он будто вносил дисгармонию во все остальные его представления о мире.
Как-то раз, однако, случилось, что, стоя в церковном притворе, Антон услышал, как проходящий мимо пастор Паульман разговаривал со служкой о предстоящем крещении ребенка на нижненемецком диалекте.
Вряд ли существовал на свете контраст, могущий сильнее подействовать на душу Антона, – человек, которого он видел не иначе как перед толпою народа, с возвышенной, берущей за душу речью на устах, теперь, как простой ремесленник, разговаривает со служкой на нижненемецком о столь высоком деле, как крещение, да еще тоном, отнюдь не возвышенным, каким напоминают человеку, чтобы тот не забыл принести таз.
Этот случай несколько поубавил идолопоклонства в душе Антона, он стал чуть меньше превозносить пастора Паульмана – зато тем больше его полюбил.
Вместе с тем его представление о блаженстве полностью отделилось от пастора Паульмана. Он не ведал ничего более возвышенного и чарующего, нежели, подобно пастору Паульману, держать речь перед народом и временами обращаться по имени к целому городу. Последнее виделось ему исполненным особого величия и пафоса – настолько, что порой он проводил целые дни, непрестанно повторяя в мыслях подобные речи, так что однажды, выйдя на улицу купить пива и увидев дерущихся мальчишек, не преминул повторить в уме слова пастора Паульмана, предостерегая жестокосердный город от близкой погибели, – и при этом грозно воздел руку к небу. Куда бы ни шел и где бы ни находился, он произносил про себя пространные речи, а когда возбуждение доходило до крайних пределов, он обычно держал проповедь против лжесвидетельства.
Так он недолгое время витал в приятных фантазиях, которые почти вовсе заставляли его забывать и чесание шерсти в холодной комнате, и мытье шляп в ледяной проруби, и вечное недосыпание, когда ему приходилось бодрствовать по нескольку ночей подряд. Порой часы пролетали, как минуты, если ему удавалось силой фантазии зримо представить себя в роли публичного оратора.
Однако – сказалось ли тут чрезмерное напряжение душевных сил или крайняя усталость тела – он опасно заболел. Хорошего ухода он был лишен. В горячечном бреду он целые дни проводил в постели, и никто о нем не заботился.
В конце концов добрая природа взяла свое: он выздоровел. Правда, болезнь оставила в нем по себе некую слабость и удручение, и добродетельный господин Лобенштайн своими мягкими увещеваниями едва не вызвал ее смертельный рецидив.
Как-то раз вечером в сумерках Лобенштайн принимал теплую травяную ванну, уединившись в своих темнеющих покоях вместе с Антоном, который должен был ему помогать. Поскольку же он сильно потел в своей ванне и вдобавок вдруг стал охвачен сильнейшим страхом, то и обратился к Антону голосом, от которого у того мороз пошел по коже: «Антон! Антон! Берегись ада!» – и неподвижно уставился в дальний угол.
При этих словах у Антона начался озноб, дрожь прокатилась по всему телу. Его обуял невыразимый страх смерти – ведь он нимало не сомневался, что господину Лобенштайну в ту минуту предстало видение его, Антоновой погибели, оттого-то он и издал столь ужасающий вопль: Берегись, ах, берегись ада!
Прокричавши это, Лобенштайн неожиданно выскочил из ванны, и Антону пришлось проводить его до комнаты, освещая путь. Он шел впереди на подгибающихся ногах и, когда выходил из комнаты Лобенштайна, тот показался ему бледнее смерти.
Если кто на свете когда-либо обращался к Богу с подлинно беззаветной и жаркой молитвой, это был Антон: оставшись один в своем закуте, примыкающем к мастерской, он упал даже не на колени, а простерся ничком, и, как приговоренный преступник, просил Бога, умолял оставить ему жизнь – хотя бы на срок, необходимый для раскаяния, коли уж ему суждено умереть, ибо ему вспомнилось, как он больше двух десятков раз бегал и прыгал по улице и беззаботно смеялся – и теперь его ожидали муки ада, коим он будет предан навечно. Берегись, ах, берегись ада! – пронзительно звучало в его ушах, словно неведомый дух выкрикивал эти слова из могилы, и он целый час кряду молился не переставая, – и продолжал бы молиться всю ночь, когда бы страх не стал понемногу утихать, меж тем как грудь его исторгала тревожные вздохи, под конец сменившиеся потоком слез; ему стало казаться, что Бог услышал его мольбы, ибо Он всегда, как то случилось в Ниневии, предпочтет осрамить пророка, нежели погубить хоть одну живую душу. Антон унял свою лихорадку молитвой, но снова впал бы в нее, не отыщи он своим возбужденным умом эту спасительную мысль. Так нередко одно мечтание, одно безумие излечивает человека от другого – дьявол изгоняется Вельзевулом.
Изнурительное бдение сменилось спокойным сном, и наутро Антон проснулся отдохнувшим и здоровым, но вместе с ним проснулась и мысль о смерти; он полагал, что имеет впереди лишь кратчайший срок для раскаяния и теперь следует торопиться, если он все еще надеется спасти свою душу.
И он прилагал к этому все свои силы: молился ежедневно несчетное число раз, опустившись на колени в каком-нибудь укромном уголке, и, наконец, мечтаньями своими довел себя до твердой уверенности, что снискал Божью благодать, и оттого сделался столь весел душою, что уже видел себя на небесах и скорей согласился бы умереть, чем сойти с благого пути.
Не могло, однако, обойтись, чтобы натура временами не брала свое – сколь бы необузданным фантазиям он ни предавался, – и тогда естественная любовь к жизни как таковой снова пробуждалась в душе Антона. Правда, в такие минуты мысль о предстоящей смерти была ему куда как томительна и горька: он полагал, что снова отпадает от божественной благодати, и трепетал оттого, что так и не сумел заглушить в себе голос естества.
Так он пожинал сугубые плоды суеверий, что ему внушили в раннем детстве, – страдания его были не что иное, как болезнь воображения, но оттого не теряли своей действительности и лишали его радостей юного возраста.
От своей матери он узнал, что если при мытье рук от них не исходит пар, то это верный признак скорой смерти, и теперь всякий раз, подставляя руки под воду, он чувствовал, что умирает. Еще слыхал он, что если собака завоет, опустив морду книзу, значит она чует смерть кого-то из домашних, – и с тех пор в каждом собачьем подвыванье он угадывал собственную близкую смерть. Даже если курица вдруг закукарекает по-петушиному, то и это считалось у него неложным знаком чьей-то скорой кончины, а по двору как раз бродит зловещая пророчица и все время кричит не своим голосом. Погребальный звон не казался Антону столь ужасным, как ее кукареканье, и курица эта доставила Антону больше мрачных часов, чем все остальные превратности его жизни.
Когда курица, бывало, молчала несколько дней кряду, отрада и надежда вновь возвращали его к жизни, но стоило ей подать голос, как все его надежды и упования внезапно снова рушились.
В то самое время, когда он неотлучно носился с мыслями о смерти, случилось ему в первый раз после болезни зайти в церковь к пастору Паульману. Тот стоял на кафедре и проповедовал – о смерти.
Антона словно громом поразило, ибо, приученный мыслью об особой заботе о нем божественного провидения все воспринимать на свой счет, – к кому же еще, думал он, как не к нему, могла быть обращена проповедь о смерти. Преступник, выслушивающий свой смертный приговор, не больше трепещет в своем сердце, чем трепетал Антон, внимая этой проповеди. И хотя пастор Паульман привел утешительные доводы в защиту от ужаса смерти, чт были все эти доводы в сравнении с естественной любовью к жизни, которая, вопреки всем химерам, заполонившим голову Антона, все же в нем торжествовала?
Удрученный, с опечаленным сердцем пришел он домой и две недели провел в меланхолии, навеянной этой проповедью, которую пастор Паульман – знай он, что она произведет хотя бы на двух-трех человек такое действие, – вероятно, вовсе не стал бы читать.
Так, благодаря особой заботе Провидения, избирательно оказанной ему божественной благодатью, Антон на тринадцатом году жизни сделался законченным ипохондриком, о котором можно было не обинуясь сказать, что он ежеминутно умирал при жизни. Ему, столь постыдно лишенному наслаждений юности, теперь морочили голову россказнями о всеупреждающей божественной благодати.
Между тем вновь наступила весна, и природа, всеобщая врачевательница, понемногу стала исправлять вред, нанесенный благодатью.
Антон почувствовал прилив жизненных сил; он умывался – и от рук его снова поднимался пар, собаки перестали выть, курица – кукарекать, и пастор Паульман более не произносил проповедей о смерти.
Он возобновил свои одинокие воскресные прогулки и однажды совершенно случайно очутился перед теми самыми воротами, которыми около полутора лет назад они с отцом вошли сюда дорогой из Ганновера. Он не мог противиться желанию выглянуть за ворота и побродить по обсаженному ивами широкому тракту, когда-то им пройденному. Странные ощущения родились в тот миг в его душе. Вся его жизнь, начиная с того мгновения, когда он увидел часовых, расхаживающих по валу, и стал рисовать себе различные картины: как бы этот город мог выглядеть внутри и на что похож дом Лобенштайна, – все разом предстало в его памяти. Ему чудилось, он пробудился от какого-то сна и вот – снова вернулся туда, где этот сон начался: пестрые сцены из жизни, прожитой им в Брауншвейге за полтора года, теснились перед ним, и отдельные картины стали уменьшаться – соразмерно вдруг обретенному его душой более крупному масштабу восприятия.
Вот так могущественно действует в нас представление о месте, с коим мы скрепляем прочие наши представления. Те или иные улицы и дома, которые Антон видел ежедневно, составляли краеугольный камень остальных его представлений, – на эту основу наслаивалось все преходящее в его жизни, через нее сама жизнь обретала внутреннюю согласованность и дйствительное существование: через это он и мог отличать явь от сна.
В детском возрасте особенно важно, чтобы все прочие идеи были привязаны к идеям места, ибо сами они не обладают еще достаточной плотностью и потому не могут держаться сами собой.
Поэтому-то в детстве так трудно отличить сон от яви, и помнится, один из наших величайших философов, доныне живущий, рассказал мне о замечательном наблюдении подобного рода, относящемся к годам его собственного детства.
Мальчиком он часто бывал наказан розгами за обычную ночную провинность, весьма распространенную среди детей. Нередко ему очень явственно представлялось во сне, что он становится к стене и… Когда же днем он действительно подходил с этой целью к стене, то сразу вспоминал о суровом наказании, которому столь часто подвергался, – и часто подолгу выстаивал, не решаясь отдать настоятельный долг природе, пока, наконец, сообразив все обстоятельства и приняв во внимание дневное время, окончательно убеждался, что не спит.
Пробуждаясь по утрам, мы нередко наполовину еще пребываем во сне, и переход к бодрствованию совершается лишь постепенно: сперва мы начинаем ориентироваться в пространстве, потом улавливаем свет, льющийся из окна, и только тогда все мало-помалу становится на свои места.
Вполне естественно поэтому, что Антон, пожив уже несколько недель в Брауншвейге у Лобенштайна, по утрам все еще полагал, что спит, когда на самом деле уже проснулся: причина в том, что стержень, на который раньше при утреннем пробуждении нанизывались идеи вчерашнего дня да и всей его прошлой жизни и благодаря которому они обретали взаимную связь и действительное существование, теперь как бы переместился, поскольку идея места стала другой.
Так стоит ли удивляться, что перемена места столь значительно способствует тому, чтобы все, о чем на самом деле нам не хочется думать, мы воспринимали как сон и забывали?
В более позднем возрасте, особенно если человек много путешествует, связь идей с определенным местом несколько утрачивает силу. Куда бы ни попадал, он видит крыши, окна, двери, булыжные мостовые, церкви и башни – либо луга, поля, пашни и пустоши. Резкие различия скрадываются: земля повсюду одинакова.
Когда Антон впервые стал ходить по улицам Брауншвейга, то особенно по вечерам в густеющих сумерках ему иногда казалось, что все происходит во сне. Такое случалось с ним и тогда, когда улица имела отдаленное сходство с какой-нибудь из улиц Ганновера. Тогда ему порой на несколько минут чудилось, будто он снова в Ганновере: разные сцены его жизни смешивались друг с другом.
Особое наслаждение во время этих прогулок доставляли ему поиски в городе ранее неведомых ему мест. В такие минуты душа его расширялась и он как бы вырывался из узкого круга своего существования – повседневные идеи куда-то исчезали, и перед ним открывались грандиозные и влекущие виды и лабиринты будущего.
И все же ему никак не удавалось единым и всеобъемлющим взглядом охватить свою жизнь в Брауншвейге, со всеми ее многообразными изменениями. Место, где он находился, всякий раз слишком напоминало ему о каком-то одном отрезке жизни, мысль о целом еще не помещалась в его сознании; все его представления ограничивались узким кругом собственного существования.
Чтобы составить наглядную картину его здешней жизни, требовалось оборвать нити, которые привязывали его внимание к сиюминутному, повседневному и разрозненному – и вновь вернуться к той точке, откуда он созерцал свою жизнь в Брауншвейге еще прежде ее начала, когда она только брезжила перед ним в виде неясного будущего.
Именно в этой точке он и оказался, когда случайно вышел за ворота, через которые около полутора лет назад вошел в город широким трактом, обсаженным ивами, и заметил часовых, ходящих по высокому валу.
Именно это место, внезапно внушив ему воспоминание о тысяче разных мелких подробностей, снова привело его в то состояние, в каком он находился непосредственно перед началом новой жизни, предстоявшей ему в этом городе. Все происшедшее с ним за это время стеснилось в его воображении подобно толпе сквозящих теней, подобно сну. Ибо он нынешний, стоящий на мосту и глядящий ввысь на гребень вала, где виднелись часовые, точь-в-точь совпал с собою, стоявшим здесь же полтора года назад и так же глядевшим ввысь на вал. Прошлое, все сцены жизни, прожитой в Брауншвейге, предстали Антону теперь заново, но так, как он полутора годами раньше еще только воображал их себе происходящими в будущем; и до чрезмерности живое представление и память об этом месте несколько ослабили яркость воспоминаний о времени, протекшем с тех пор, – иначе, по крайней мере, трудно объяснить испытанное Антоном необычайное ощущение, подобное которому – хотя бы один раз – всякий человек может обнаружить в своей памяти.
Десять раз и более Антон замышлял покинуть город и прежней дорогой вернуться в Ганновер, но его удерживала мысль о холоде и голоде, которые его подстерегали.
Но с того дня в нем окончательно окрепло решение уйти от Лобенштайна, чего бы это ему ни стоило. Окружающее сделалось ему совсем безразлично, так как он думал, что всему этому скоро придет конец. Да и самому Лобенштайну он так опостылел, что тот, наконец, написал отцу Антона и предложил забрать сына, из которого ничего путного все равно не выходит.
Ничто не могло обрадовать Антона больше, чем известие, что отец вскорости заберет его домой. В Ганновере, рассуждал он, ему все равно предстоит набираться школьной премудрости, прежде чем его допустят к причастию, а уж там он постарается так отличиться, чтобы на него обратили внимание. И как некогда он всей душой стремился в Брауншвейг, так теперь мечтал возвратиться в Ганновер и тешил себя приятными мечтами о будущем.
Несмотря на выпавшие ему тяжкие испытания, многое в Брауншвейге все же сделалось ему дорого – настолько, что к приятным надеждам часто примешивалась грусть расставания, погружавшая его в состояние кроткой меланхолии. Часто он стоял в одиночестве на берегу Окера и – сколько доставал глаз – провожал взглядом проплывающую мимо лодочку, и тогда ему вдруг казалось, что он заглядывает в собственное туманное будущее, но стоило попытаться укрепить в себе приятную иллюзию, как она немедленно исчезала.
Тогда он устроил себе торжественное прощание с теми местами города, которые посещал во время воскресных прогулок и теперь с грустью покидал, не надеясь их больше увидеть.
Он также выслушал несколько проповедей пастора Паульмана, и некоторые места из них навсегда запечатлелись в его памяти.
Неизгладимое впечатление произвел на него возрастающий аффект, с каким пастор Паульман говорил о страстях Иисуса: с состраданием смотрит Он на своих палачей и молится, молится, молится – Отче, отпусти им, ибо не ведают, что творят!
И еще запомнилось Антону – в речи пастора Паульмана об исповеди, посвященной евангельскому рассказу о прокаженном, коему велено было показать себя священнику, обращение к лицемерам, добросовестно соблюдающим всю внешность религии, но имеющим в груди злое сердце; каждый период этой проповеди начинался так: вы приходите в исповедальню, вы показываетесь священнику, но он не может заглянуть в ваше сердце – и т. д. Чуть позже в той же проповеди повторялось выражение, которое чрезвычайно растрогало Антона: «вы пребудете на небеси». Последнее слово, которое проскальзывало как-то слишком быстро, самим своим звуком вызывало в нем слезы каждый раз, когда он о нем вспоминал.
Столь же чарующе звучало для него и другое выражение, очень часто встречавшееся в проповедях пастора Паульмана, – вершины разума, и тому были особые причины, которые в дальнейшем не остались без последствий. Церковный клирос, где стоял орган и пел хор мальчиков, казался ему чем-то недосягаемым; часто он с тоской засматривался на него и не мечтал об ином счастье, как когда-нибудь подробно разглядеть чудесное устройство органа и то, что находилось рядом с ним, – ведь он мог видеть все это лишь издали. Эта фантазия соединялась у него с другой, привезенной еще из Ганновера, – уже там его приводила в восхищение некая башня, и он завидовал музыкантам городского оркестра, стоявшим на ее галерее и трубившим с высоты по утрам и вечерам.
Он мог часами разглядывать эту галерею, казавшуюся снизу очень маленькой, ниже колена, хотя головы музыкантов, дувших в свои инструменты, едва виднелись из-за ее парапета, и не отводить глаз от циферблатa, о котором люди, побывавшие наверху, уверяли, что он величиной с колесо телеги, хотя снизу выглядел не больше тачечного колеса. Все это до крайности возбуждало его любопытство, и он по целым дням не мог ни о чем другом думать и ничего желать, кроме как рассмотреть поближе галерею и циферблат.
Через звуковые отверстия над галереей можно было видеть и колокола, и Антон чуть ли не пожирал глазами это небывалое представление: огромная металлическая машина, производившая оглушительный звон, попеременно вздымалась и опускалась под действием железных балок, на которые ступали ногами люди, казавшиеся на большой высоте совсем крошечными.
Антону чудилось, будто он заглянул в глубочайшее чрево башни и ему открылся сокровенный источник чудесного звука, которому он прежде с волнением внимал лишь издалека. Однако это нисколько не утолило, но напротив, еще больше разожгло его любопытство: он видел лишь один гигантский бок вздымавшегося колокола, но не весь колокол целиком. О величине этого колокола он слышал еще в детстве, и воображение увеличивало его несчетно, рождая в душе самые романтические и невероятные фантазии.
В те времена, когда он страдал от боли в ноге, томился под родительским гнетом, – в чем находил он утешение? Что было сладчайшей мечтой его детства, заветнейшим желанием, заставлявшим его забыть обо всем на свете? Не что иное, как поближе рассмотреть циферблат и галерею на башне в новой части Ганновера, а заодно и колокол, который там висел.
Более года игра фантазии скрашивала печальнейшие часы его жизни, но ему пришлось оставить Ганновер, увы, так и не осуществив своей заветной мечты. Однако образ башни никак не шел у него из головы, последовал за ним в Брауншвейг и часто являлся ему во сне – высокие лестницы, лабиринты извилистых переходов: он поднимается на башню, стоит на галерее, с невыразимым наслаждением прикасается к башенному циферблату и внутренним зрением вблизи осматривает большой колокол, бесчисленные маленькие колокола и другие чудесные вещи, пока не ударяется головой о неохватный край большого колокола и не просыпается.
Вот почему стоило пастору Паульману заговорить о вершинах разума, как Антон с замиранием сердца вспоминал о вершине облюбованной им башни, о ее колоколе и циферблате, о высоких хорах, где помещался орган в Брюдернкирхе, и тогда в нем снова оживала тоска и при словах вершины разума из глаз текли слезы печали.
Умозрительную часть проповедей, произносимую пастором Паульманом с невероятной быстротой, Антон не улавливал, потому что не мог поспеть за ним своей мыслью. Но в ожидании увещевательной части он и эту слушал с большим наслаждением – ему казалось, будто сперва собираются тучи, чтобы чуть позже их рассеяла благодатная гроза или растворил теплый дождь.
Но однажды он пришел в церковь с намерением послушать проповедь пастора Паульмана и по возвращении домой записать ее. Внезапно туман в душе его прояснился – внимание сосредоточилось на другом: раньше он слушал сердцем, теперь же впервые стал воспринимать разумом и жаждал не только потрясения от того или иного места, но хотел уловить весь смысл проповеди целиком, и умозрительная ее часть увлекла его не меньше, чем увещевательная. Проповедь посвящалась любви к ближнему: сколь счастливы были бы люди, если бы каждый радел о благе остальных, а все – о благе каждого в отдельности. Эта проповедь, со всеми ее пунктами и подпунктами, прочно запечатлелась в его памяти, он слушал ее с намерением записать, что и сделал, вернувшись домой, после чего прочел ее вслух Августу, чем привел его в изумление.
Можно сказать, что запись этой проповеди подстегнула развитие разумных способностей Антона, ибо с того времени его мысли стали постепенно приходить в общий порядок – он научился самостоятельно размышлять о различных предметах и пытался выразить свои мысли, а поскольку вокруг не было никого, кому бы он мог их передать, он стал составлять письменные сочинения, пусть порой и довольно странные. Ведь если раньше он разговаривал с Богом устно, то теперь вступил с ним в переписку – сочинял длинные молитвы, в которых описывал свое душевное состояние.
Тяга к писательству развивалась в нем тем сильней, что он был полностью лишен чтения, так как Лобенштайн уже давно не давал ему ни одной книги, исключая подаренного Антону Энгельбрехтова «Описания Рая и Ада для Общества ткачей-полотнянщиков в Винзене-на-Аллере».
Большего пройдохи, чем этот Энгельбрехт, нельзя было сыскать во всем свете. Говорили про него, что он умер, затем заново ожил и убедил свою старую бабку, что побывал на небесах и в аду, женщина разнесла это по округе – так и появилась эта необыкновенная книга.
У этого плута хватило наглости утверждать, будто он парил по небу подле Христа и ангелов, держал в одной руке Солнце, в другой Луну и пересчитал все звезды на небе.
Однако уподобления его были порой весьма наивны: к примеру, он сравнивал небо с изысканным винным супом, коего людям на земле довелось отведать всего лишь несколько капель, но когда-нибудь его можно будет есть ложками, небесная же музыка превосходит земную, как прекрасный концерт – подвывание волынки или гнусавый звук, издаваемый рожком ночного сторожа.
А уж почетом, оказанным ему на небесах, он не мог вдоволь нахвастаться.
В отсутствие более питательных блюд душа Антона поневоле довольствовалась этой случайной стряпней, впрочем, занимавшей хотя бы его воображение. Разум его оставался при этом как бы неподвижным: он не верил в эти россказни, но и не сомневался в них – просто живо представлял себе все, о чем говорилось.
Между тем досада и гнев Лобенштайна на Антона стали все чаще выходить наружу тычками и бранью. Шляпник отравлял ему жизнь ужасным образом, заставляя выполнять самую рабскую и унизительную работу. Но ничто не ранило Антона сильнее, чем тот случай, когда ему впервые в жизни пришлось пройти по оживленной улице c тяжелой корзиной на спине, доверху набитой шапками, сам же Лобенштайн шествовал далеко впереди – Антону тогда казалось, что вся улица только на него и смотрит.
Когда приходилось нести какой-либо груз, под мышкой или в обеих руках, Антон никогда не испытывал стыда, – скорее гордость. Но идти согбенным, подставив шею под ярмо, подобно вьючному животному, послушно следующему за хозяином, – это сгибало и его дух, делая ношу тысячекратно тяжелее. От усталости и стыда он готов был провалиться сквозь землю, не донеся груз до места.
А местом этим был цейхгауз, служивший складом для шапок, сшитых по армейскому заказу. Нисколько не меньше, чем рассмотреть колокола и циферблат на башне в новой части Ганновера, Антон мечтал увидеть изнутри этот цейхгауз, мимо которого он столько раз проходил, даже не надеясь когда-нибудь удовлетворить свое желание. Но теперь все удовольствие было напрочь отравлено.
Ноша на спине подломила его дух сильнее, чем любое другое испытанное им унижение, больше, чем брань и тумаки Лобенштайна. Пасть ниже уже невозможно, думал он и представлялся себе едва ли не самым никчемным и забитым существом. Эта ситуация стала одной из самых страшных во всей его жизни и позже вспоминалась ему всякий раз, как он видел какой-нибудь цейхгауз, живо вставая перед глазами при слове ярмо.
Когда случалось нечто подобное, он старался спрятаться от людей, малейшие звуки веселья делались ему ненавистны; он спешил укрыться за домом, в одном местечке на берегу Окера и просиживал там часами, с задумчивой тоской созерцая течение реки. А если в такую минуту до него случайно доносился человеческий голос из соседнего дома или он слышал пение, смех, разговоры, ему казалось, что мир глумится над ним – настолько презренным и ничтожным ощущал он себя после того, как склонил шею под ярмо той корзины.
Он находил даже особый род удовольствия, присоединяясь к этому глумлению, которое чудилось его мрачной фантазии. В одну из таких ужасных минут, когда он в отчаянии разразился над собой саркастическим смехом, отвращение к жизни достигло в нем такой силы, что он весь задрожал и зашатался, стоя на узком помосте. Ноги его подкосились, и он рухнул в реку. Ангелом-хранителем его стал Август, который уже несколько времени стоял незамеченным за его спиной, он и вытащил его за руку из воды. Однако рядом случились люди, скоро сбежался весь дом, и с той минуты Антон прослыл опасным человеком, от коего следовало избавиться как можно скорее. Лобенштайн немедля отписал об этом происшествии отцу Антона, и через две недели тот, обеспокоенный, уже был в Брауншвейге, чтобы вернуть в Ганновер своего скверного сына, в чьем сердце, по мнению господина Фляйшбайна, дьявол возвел себе незыблемое святилище.
Антон оставался у шляпника Лобенштайна еще несколько дней и в присутствии отца с удвоенным рвением выполнял свои обязанности, находя удовлетворение в том, чтобы напоследок приложить к работе все свои силы. Мысленно он прощался с мастерской, сушильней, с дровяным чердаком, с Брюдернкирхе, и заветным его желанием было по приезде в Ганновер рассказать матери о пасторе Паульмане.
Чем меньше дней оставалось до расставания, тем легче становилось у него на сердце. Скоро он сбросит с себя томительный гнет и перед ним снова откроется широкий мир.
Прощание с Августом было сердечным, с Лобенштайном – холодным как лед. Хмурым воскресным днем Антон вместе с отцом покинул дом шляпника – в последний раз бросил взгляд на черную дверь, обитую большими гвоздями, и удовлетворенный вышел за ворота, за которыми еще совсем недавно совершил столь увлекательную прогулку. Высокий городской вал и башня св. Андрея вскоре пропали из виду, в сумеречной дали виднелась лишь заснеженная вершина Брокена, терявшаяся в низких густых облаках.
Отец держался с ним холодно и замкнуто, поскольку смотрел на него глазами шляпника Лобенштайна и господина Фляйшбайна как на человека, в чьем сердце возвел свое святилище дьявол; по пути они разговаривали мало, шли молча, и Антон почти не заметил, как пролетело время – всю дорогу он приятно собеседовал с собственными мыслями – ему не терпелось увидеть мать и братьев и рассказать им о превратностях своей судьбы.
Наконец четыре красивые башни Ганновера воздвиглись над горизонтом – как старинного друга после долгой разлуки, Антон узнал башню в новой части города и ощутил пробуждение своей старой любви к колоколам…
Он снова оказался в стенах Ганновера, и все здесь было ему ново – родители его переселились на другую квартиру, более тесную и темную, в отдаленной части города. Все это представлялось ему столь чуждым, что, поднимаясь по лестнице, он чувствовал, что совсем не принадлежит к этому дому. Но сколь холодным и отталкивающим было поведение отца, столь радостно-возбужденными криками встретили его мать и братья – они осмотрели его потрескавшиеся от мороза руки, и впервые за долгое время он вновь почувствовал, что его жалеют.
Выйдя из дому на следующее утро, он посетил знакомые места, где когда-то играл ребенком. Ему представилось, что за прошедшее время он повзрослел и теперь хочет предаться воспоминаниям о своей юности; он повстречал компанию своих бывших одноклассников и товарищей детства, все они, обрадованные его приездом, жали ему руку.
Когда же он наконец остался наедине с матерью, мог ли он первым делом не рассказать ей о пасторе Паульмане? Она всегда питала безграничное уважение к священству и вполне разделила чувства Антона к пастору. Каким несказанным блаженством были освящены эти часы, когда Антон смог излить свою душу и вдоволь наговориться о человеке, которого любил и почитал более всех остальных на целом свете!
Теперь он послушал и ганноверских проповедников, но – никакого сравнения с Паульманом! Он так и не смог нигде найти второго Паульмана – разве лишь некий Н. отчасти напоминал его, когда во время проповеди приходил в сильное возбуждение.
Никакой проповедник, хоть немного уступавший пастору Паульману в быстроте речи, не мог снискать расположения Антона, и – если в проповеднике видеть оратора – не знаю, так ли уж Антон был неправ. Учитель должен говорить медленно, оратор – быстро. Учитель просвещает разум постепенно, оратор овладевает сердцами с бою: разум должно вводить в действие медленно, сердце – как нельзя быстрее, если мы не хотим потерпеть неудачу. Правда, плох тот учитель, который временами не выступает оратором, и плох тот оратор, который никогда не делается учителем, однако Фокс, выступая в английском парламенте, всегда говорит с невероятной быстротой, и этот ревущий поток увлекает за собой всех и вся, потрясая души слушателей – так же, как пастор Паульман потрясал души своей проповедью о лжесвидетельстве.
Однажды Антону довелось – с превеликим неудовольствием – прослушать в гарнизонной церкви Ганновера воскресную проповедь священника по имени Марквард, также не имевшего ни малейшего сходства с пастором Паульманом, более того, своей медлительной и спокойной речью составлявшего ему почти прямую противоположность. Воротясь домой, Антон не мог удержаться и поделился с матерью острым чувством неприязни к этому проповеднику, но каково же было его удивление, когда мать сказала ему, что этот священник – ее духовник, что она принадлежит к его приходу и Антону придется посещать его занятия по Закону Божию, исповедоваться ему и принимать от него причастие.
Мог ли Антон тогда поверить, что этот человек, вызвавший у него неодолимую антипатию, впоследствии привлечет к себе его любовь, станет ему другом и благодетелем?
Между тем произошло событие, повергнувшее Антона, и без того склонного к унынию, в еще более мрачное настроение: его мать опасно заболела и две недели находилась на грани жизни и смерти. Тогдашнее состояние Антона не поддается описанию. Ему казалось, он отходит вместе с нею, настолько само его внутреннее существо было с ней слито. Узнав, что доктор уже не верит в ее выздоровление, он проплакал несколько ночей напролет. Сама мысль, что он может пережить мать, надрывала душу. Что же могло быть естественней его состояния, если он чувствовал себя покинутым всем миром и обретал себя лишь в ее любви и доверии!
Пришел пастор Марквард и причастил мать Антона святых тайн – тогда Антон окончательно уверился, что надежды нет, и отдался безутешному горю. Он молил Бога о спасении жизни матери, и тут ему вспомнился царь Езекия, получивший от Бога знак, что его просьба услышана и жизнь продлена.
Подобного знака стал теперь искать и Антон, высматривая, не двинется ли назад тень по садовой стене. И действительно, тень в конце концов как будто несколько отступила – оттого ли, что на солнце набежало легкое облако, или его фантазия сама немного отогнала ее прочь, но с этой минуты Антон обрел новую надежду и его мать действительно стала выздоравливать. Он снова воспрянул духом и не жалел усилий, чтобы заслужить любовь родителей. Но с отцом отношения у него не ладились, по его возвращении из Брауншвейга тот испытывал к нему лишь острое, непреодолимое отвращение, которое выказывал по любому поводу – его попрекали даже едой, и часто Антону приходилось в прямом смысле есть свой хлеб со слезами.
В таком положении единственным его утешением стали одинокие прогулки с двумя младшими братьями – с ними он совершал регулярные вылазки на валы, окружавшие город, при этом всякий раз избирал какую-нибудь цель, ради которой все они и отправлялись в это как бы далекое путешествие.
С ранних лет он любил это занятие: едва научившись ходить, уже ставил себе целью добраться до конца улицы, где жил с родителями, и на этом замыкались его тогдашние маленькие прогулки.
Теперь же Антон превращал вал, на который взбирался, в гору, кустарник, сквозь который продирался, – в лес, а маленький холмик в городском рве – в одинокий остров. Так на пятачке в несколько сотен шагов он пускался с братьями в многомильные путешествия. Он забывал все на свете и не раз терялся с ними в лесах, карабкался на высокие утесы, высаживался на необитаемые острова – иными словами, вместе с братьями, как мог, воссоздавал идеальный мир, который выдумывал по прочитанным романам.
Дома он затевал с ними различные игры, которые нередко заканчивались плачевно – осаждал города, брал приступом крепости, построенные из книг мадам Гийон, обрушивая на них бомбы из диких каштанов. Время от времени он проповедовал, и тогда братьям полагалось внимательно его слушать. Однажды он соорудил себе кафедру из стульев, а братьев усадил на ножные скамейки. Проповедуя, он пришел в такое исступление, что рухнул со своей кафедры на пол и спинкой стула разбил головы обоим мальчикам. Крики и суматоха отдались по всему дому – явился отец и принялся весьма немилосердно воздавать Антону за его старания. Мать, прибежавшая следом, попыталась вырвать его из рук родителя, но не сумела – гнев ее обратился в противоположную сторону, она тоже изо всех сил стала колотить Антона, и никакие мольбы и просьбы не спасли его от побоев. Наверно, ни одна проповедь не заканчивалась столь прискорбно, как первая проповедь Антона. Память об этом происшествии еще долго приводила его в содрогание даже во сне.
И все же случившееся не отпугнуло Антона: он еще чаще стал всходить на свою кафедру, чтобы от начала до конца – с цитатами из Евангелия и правильным расположением частей – прочитать записанную проповедь на ту или иную тему. Ибо с тех пор, как он впервые записал проповедь пастора Паульмана, ему стало легче упорядочивать свои мысли и связывать их друг с другом.
Теперь не проходило воскресенья, чтобы Антон не записал выслушанную проповедь, и вскоре он приобрел такую сноровку, что мог по памяти восстановить опущенные части: записав лишь главные мысли, он затем дома почти полностью воссоздавал всю проповедь на бумаге.
Антону шел уже пятнадцатый год, и, чтобы принять конфирмацию, то есть вступить в лоно христианской церкви, ему надобно было некоторое время посещать занятия по Закону Божию в какой-нибудь школе.
В Ганновере существовал институт, готовивший учителей для сельских школ, и в его стенах – бесплатная школа, где будущие учителя упражнялись в педагогическом искусстве. Таким образом, эту школу учредили для пользы учителей, от самих же учителей пользы здесь было немного. Поскольку, однако, школьникам не приходилось платить за науку, то сие заведение сделалось подлинным прибежищем для бедняков, которые могли обучать там своих детей совершенно задаром, а так как отец Антона отнюдь не горел желанием чрезмерно тратиться на своего пропащего и отлученного от Божией благодати сына, то в конце концов и отвел его в эту школу, где тот, как это с ним случалось и раньше, вознадеялся обрести совершенно новый жизненный путь.
Наутро в первый же час занятий Антону предстало торжественное зрелище: все будущие учителя и обоего пола ученики, собравшиеся в классной комнате. Инспектор этого заведения, лицо духовного звания, каждое утро проводил с учениками уроки катехизации – как образец для учителей. Последние сидели за столами, записывая вопросы и ответы, а инспектор расхаживал по классу и задавал вопросы. На послеобеденных занятиях кто-нибудь из учителей в присутствии инспектора повторял со школьниками тот же урок, что был преподан утром.
Записывание давно сделалось для Антона наилегчайшим делом, и когда учитель вечером повторял утренний урок, у Антона он был уже записан – и куда полнее – на дощечке для письма, и он мог ответить даже больше, чем у него спрашивали, – этим он привлек к себе мимолетное внимание инспектора, что чрезвычайно ему польстило.