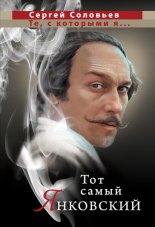Дивертисмент братьев Лунио Ряжский Григорий

Предисловие
Текст, который сейчас перед вами, рождался примерно два года. Я приступил к работе над ним через пару месяцев после того, как мы с Нямой завершили ремонт в нашей квартире на Фонтанке. Сначала мы обновили мебель и докупили всё, что понадобилось нам для постоянной жизни на новом месте. Кровати мы решили брать сразу полноразмерные, исходя... ну, сами догадаетесь, из каких соображений. Всё же как-никак мы с Нямой мужики, и никто не знает, как ещё дело обернётся, когда мы надумаем привести в дом каждый по хозяйке.
Ну а Франя, подшив и развесив новые шторы, сделала собственные покупки, например постельное бельё для всех. Теперь у неё была своя отдельная комната, получившаяся светлой и ужасно уютной. По комнате досталось и нам с Нямой, слева и справа от гостиной. Гостиная же стала общей, местом для всех в нашей дружной семье.
К тому времени у нас уже были дипломы об окончании училища, и мы устроились работать в джазовый оркестр под управлением Анолега Кроллстрема, успешно пройдя у него прослушивание.
Мы много ездили с гастролями, и всякий раз, возвращаясь домой, на свою любимую Фонтанку, и я, и Няма испытывали непередаваемую радость от того, что отныне она в нашей жизни есть, река эта, маленькая, как и мы сами. И есть ещё наша Франечка, которая всегда нас ждёт с нетерпением, и сам этот город, ставший нам родным и близким. И те самые чувства, так образно когда-то описанные Гиршем, теперь с гордостью можем испытывать и мы.
Иногда приезжал Иван, но чаще гостила бабушка Юля. Иван появлялся нерегулярно – бывало, что и без предупреждения. Вёл себя по обыкновению неровно: то убегал поглазеть на прилежащие ландшафты, а то часами просиживал у телевизора, днём разговаривая с Франей, а вечерами общаясь с нами. И так же непредсказуемо исчезал, вспомнив внезапно про сверхплановую упаковку там у себя, на востоке. Но всё равно особо он никому не досаждал и порой даже своим присутствием вполне приятно окрашивал нашу с Нямой жизнь.
Бабуля в отличие от отца наезжала к нам основательно. Несмотря на то что с Франей они изначально были устроены совершенно противоположно, с какой стороны ни посмотри, со временем им удалось сойтись и даже некоторым образом сдружиться. Вместе кухарили, чтобы как следует угодить мне и Няме, совместно посещали колхозный рынок, если выпадала завозная суббота, с равным трепетом отправлялись с цветами на Волково кладбище, к Гиршу, не давая могиле заскучать, и сообща, дружно обихаживали дом, когда этого требовала семейная нужда.
Спустя какое-то время после начала нашей питерской жизни Франя уже стала забирать бабушку к себе – спать в своей комнате. До этого бабуля ночевала в гостиной, в отгороженном ширмой углу, где спал и Гандрабура, когда приезжал отдельно от неё – для отца мы с Нямой приобрели нестандартную кровать вроде той, что так и продолжала стоять на востоке, в бывшей их с Дюкой спальне.
Писал я вечерами, так мне было чувственней и комфортней. Няма, конечно же, влезал, но, надо признать, что чаще с пользой для дела.
Кончилось всё же тем, что текст вышел разномастным, в чём вы сами сможете в скором времени убедиться: где-то он получился дёрганым, в каких-то местах отдельные слова и фразы вышибаются из общего строя, который мне поначалу так хотелось образовать. А ещё пришлось с Нямой несколько раз чуть ли не воевать. Он постоянно редактировал меня, внося личные правки, вписывая собственные куски, привнося неприемлемую для меня интонацию в те главы, которые касались поздней части общей истории семьи. В итоге многое из того, к чему Няма так или иначе принудил меня, вошло в окончательный вариант текста, местами украсив его верно найденным словом, в какие-то моменты предлагая улыбнуться и даже поржать, но порой заставляя меня зажмуриться от его убийственной язвительности и желчного ехидства. Таким, как мне кажется, получилось всё, связанное с Иваном Гандрабурой, нашим отцом по крови и по судьбе.
Дополнительно скажу, что подобное Нямкино вмешательство не могло не отразиться и на самом языке повествования: чередование отдельных кусков текста и целых глав, не уложившихся стилистически в единую органику, о которой мне мечталось в самом начале работы, плюс внезапные вбросы совершенно гротесковых фрагментов, минус умеренность и сочетаемость форм и смыслов, и снова – дурная и непреодолимая тяга моего брата к тому, чтобы скрестить чужеродные, разноуровневые стилистически, а стало быть, и психологически слова и словосочетания – всё это придало тексту некую эклектическую коллажность, и этого мне не удалось отстоять в наших с ним битвах за конечный результат.
Я уже не говорю, что, кроме всего прочего, не до конца выверен и определён сам жанр произведения, заметны неритмичность и спонтанность подачи, внезапные скачки с уходами от главной темы, неожиданные возвраты к утерянной и забытой мысли, резкая смена настроения, ну и остальное всё. Это если не брать в расчёт то ещё, что мы с Нямой во многом по-разному оцениваем сами события и биографические факты, которые приводим, отсортировав памятью те, в которых мы оба абсолютно уверены, как нам казалось при написании. Именно так, копотливо, при взаимном неусыпном контроле, устраняя зоны общих сомнений, поругиваясь и заново мирясь, собирали мы из кусочков, обрывков и обрезков эту неровную, местами цветную, а кое-где чёрно-белую мозаику истории семьи Лунио.
Франю и Ивана в ходе работы мы просто изводили своими вопросами, и если нам удавалось вытянуть из них абсолютно искренние ответы, то это чрезвычайно помогало нам отделить истину от вымысла и узаконить в нашем представлении нечто усреднённое, уже безоговорочно принимаемое всеми сторонами.
Что касается рассказов Гирша, тех ещё, прижизненных, то оба мы и так бесконечно доверяли им – сами поймёте, по какой причине, когда ознакомитесь с этим повествованием. Его рассказы мы практически не тронули, разве что чуть домыслили некоторые детали, малозначительные на наш взгляд, но которые он всё же решился поведать нам, хотя и не в окончательно полном виде.
Проще всего было с бабулей. Та, имея характер, выложила нам всё разом, не укрывая ни вины своей, ни всего остального, чего, возможно, следовало бы стыдиться любому рассказчику. Вообще, надо сказать, что после смерти Гирша баба Юля довольно быстро вернула себе утраченную форму. Это коснулось и потерянного ею некогда физического здоровья, и нового обретения веры в себя, в свою изломанную душу и в целый и несправедливый мир вокруг неё. Одно лишь обстоятельство бабушкиной биографии так и осталось для нас непрояснённым – что же случилось тогда с ней в эвакуации, в этом башкирском Давлеканово, и почему после этого печального события вся её жизнь так неуклонно покатилась под гору, прикатясь туда, где оказаться ей было совсем необязательно.
Впрочем, всё это позади. Иногда нам с Нямой кажется, что вся история семьи Лунио просто выдумана нами же самими, потому что, если собраться, вникнуть и поверить в то, что вам ещё только предстоит прочитать, то именно так вы, скорее всего, и подумаете.
Однако это совсем не так: просим вас отбросить сомнения и поверить в то, чего, казалось бы, просто не должно было быть никогда, чего никак не могло произойти ни с кем из родившихся в городе, носящем имя Ленина, – который умер, но чьи идеи остались с нами и по сей день.
Надеемся, что мы усердствовали не зря и что вы не станете считать потерянным время, которое займёт у вас чтение этой рукописи.
Искренне ваши, Пётр Лунио при участии Наума Лунио.
Глава 1
Дюка умерла при родах. Как только из её рассечённой крошечной матки извлекли меня и моего младшего брата Няму, тогда ещё никак не названного, сердце её остановилось, и она прекратила дышать. Именно в этот момент, когда всё, казалось, шло к счастливому финалу и прибывшая в роддом бригада умников с кафедры акушерства и гинекологии местного мединститута уже предвкушала победную статью в научном журнале под общим авторством – про то, как у них всё грамотно да ловко получилось, хотя область, а не центр: оба ребёнка и выношены были нормально, и отлично подготовлены к оперативному вмешательству, и изъяты из чрева более чем компетентно, без непредсказуемых последствий. И всё это при живой и здоровой матери новорожденных близнецов, Марии Григорьевне Лунио.
Кстати, такая необычная фамилия миниатюрной роженицы наилучшим образом вписывалась в будущую статью, вызывая той своей циркаческой призывностью дополнительный интерес к уникальному случаю ещё на старте удачной беременности. И качественное завершение аномальных родов стало бы полным триумфом медбригады.
На самом же деле такого быть не могло, потому что наша мать – «нанистка», то есть карлица. Ну, просто маленькая 90-сантиметровая женщина с диагнозом «карликовость». Что по-научному обозначается как «гипофизарный нанизм». Такая вот хлопотная история.
Вот почему эти сильно заинтересованные доктора так сердобольничали с нашей нестандартной матерью – шутка ли, двое однояйцевых близнецов у карлицы от здоровенного отца-бугая. Пока мы с Нямой, будучи ещё плодами, дозревали в тёплом Дюкином животе, вслушиваясь своими микроскопическими ушными ракушками в плеск околоплодных материнских жидкостей, врачи уже достоверно могли сказать, что оба мы будем карликами с рождения и чуда, на которое можно было бы надеяться, не произойдёт. И это наверняка.
А вот другое чудо возможно вполне – двойня! Мама и об этом знала от врачей, но только не папа, который честно ожидал нормального потомства и, втянувшись в ставшую ему привычной жизнь дома Лунио, вовсе не планировал бросать Дюку. Наоборот, трудясь с нею на пару, отец придумывал разные любопытные штуки и тем самым зарабатывал средства в общую копилку. Он же не думал на полном серьёзе, что Дюка родит ему сразу двоих деток и оба получатся недоделанными «нанистами», с диагнозом, который носила и она сама.
Случай наш с Нямой, если честно, сам по себе невероятно редкий – это я вообще про наше появление на свет. Хотя, в общем, как-то всё же изученный за столетия врачебных наблюдений. Известно, что параметры таких пациенток, как наша мать, не приспособлены к естественным родам. Однако с учётом нашей изначально нетипической малоразмерности маму решили не резать, поскольку не было у врачей боязни, что мы не протеснимся через что там положено и не выйдем на свет как надо. А прокесарить по ходу дела всегда можно успеть, если быть к этому делу нормально готовым.
Вообще из-за низкого роста у карлиц происходит гормональный сбой и месячные не приходят с должной регулярностью, почти или совсем. И даже если каким-то непостижимым образом им («нанисткам») всё же удаётся забеременеть, то из-за своего недостаточного роста плод свой (или в нашем случае плоды) они почти никогда не донашивают. Но в нашем эпизоде полного чуда, на которое мы – согласитесь – имели право рассчитывать, не случилось. Оно имело бы место, если бы Дюке удалось, например, выносить и родить полноценных здоровых близнецов. Или хотя бы одного меня, без Нямы. Или же Няму без меня, как кому повезло бы. Но вышло – обоих, хотя и укороченных. Доходчиво?
Если – да, то теперь вам станет окончательно ясно, какую предстартовую трясучку испытали акушерские костоломы, когда беспредельно счастливая Дюка забеременела от атлетически исполненного природой самца под два метра ростом, да к тому же по любви. От любви всегда бывает неожиданность, а от неожиданности – непредсказуемость. Никто, в частности, так до сих пор и не выяснил окончательно, никакая их лечебная наука, как, например, влияет на рождаемость детей у карлиц существующее в момент зачатия полноценное взаимное чувство. Или безответное и неполноценное. Или отстутствие этих чувств у обоих. И какое этот же фактор оказывает влияние на последующее развитие плода. А если говорить понятней – кто в итоге вырастет в материнском животе: карлик или не карлик. Это мы, помню, с Нямой уже сами обсуждали, всю эту тематику, меж собой, больше было не с кем. Мать нашу мы живой не видели, а дед Гирш почему-то от этого разговора обычно уходил.
Сами роды, как уже потом нам стало известно, протекали ох как непросто. Наркоз вводили одновременно трое спецов, причём использовали детскую интубационную трубку – а как иначе, ведь вместе со мной и Нямой наша мать Дюка на девятом месяце весила всего 30 килограммов. И трое эти обсчитались – не выдержала мама наркоза их. Убийственным оказался, не попали.
Пара-тройка диссертаций светила им тогда, этой врачебной бригаде – сразу и, наверное, без защиты, исключительно по феноменальности самого факта, какого больше не сыщешь вовсе. Если бы не кончилось всё так, как кончилось. С Дюкой, я имею в виду с нашей карликовой мёртвой мамой. Но пока ещё не случилось, все они, как один, с калькулятором, с расчётом на каждый килограмм массы комариного Дюкиного веса определяли потребную дозу каждого их бесовского препарата, какие в итоге и загнали нашу мать в несправедливую смерть.
Спросите, а чего это я всё «дюкаю»? А это не я, это придумал наш глуповатый незаконный отец. Первый мамин мужчина. Он и окрестил. Поначалу просто именовал её Дюймовочкой – это когда познакомился через Гирша и сразу же, в день переезда в наш дом, сблизился до взаимных ласк. Тем самым, как ему казалось, он проявит избыточное внимание, пикантную нежность и заботу в культурном отношении. Позже он укоротил длинное слово до четырёхбуквенного размера, сложив его из первой и последней пары букв. Этим он избавился от лишней середины, чем подхлестнул собственный интерес к негабаритной, но складной девушке с заурядным именем Мария и затейливо редкой фамилией, напоминающей корнем итальянскую, да ещё и с благовонием в духе цирковых династий – Лунио. Похожие звучные фамилии по обыкновению присваивают себе конники, фокусники или, на худой конец, воздушные гимнасты. Да ещё к тому же объявляют себя братьями, хоть чаще один другому вовсе и не родня.
Однако вдумываться капитально в такое любопытное сочетание фактов и образов отец не стал. Само собой, у карлиц всё не как у нормальных, и это в порядке вещей. Странно было б, если, к примеру, была бы она Марией Селёдкиной. Или Курициной какой-нибудь. Но этого просто никак не могло быть, потому что подобные фамилии и места в пространстве разума и быта уже давно заняты рядовыми полноразмерными женщинами: крепким телом и здоровьем, бойкими и неуступчивыми с первого раза. Мама же всё для себя решила тотчас, как только увидела нашего будущего отца. Она и думать не мечтала, что найдется на её женское счастье свой мужской нестандартный вариант, отдельный человек со специальным вкусом и собственным подходом к маленьким безутешным гражданкам. Да ещё такой высотный богатырь и писаный красавец.
А самого его, как я уже сказал, фамилия её необычная заинтересовала, добавила лишней интриги. Почти как Бартоломео какое-нибудь, сказал. Или Муссолини. Короче, чужой корень, не наш. А значит, решил тогда папа, надо брать и пробовать, тем более что заодно и жгло непустячно – что там и как у маленьких баб устроено. Это уже после разговора с Гиршем он стал так раскидывать будущее по разным интересным деталям.
Гражданские супружеские отношения Дюки с нашим отцом продлились недолго. Поначалу отца забавляло то, как по годам зрелая девушка с полувзрослым лицом и невесомым, совершенно детским телом на полном серьёзе исполняет свою природную обязанность, прикрыв глаза и попискивая от боли и страха в минуты соединения со зрелым и чрезмерно развитым в мужском отношении самцом. Дивило и то, как в обе стороны прогибался от дикого напряжения хрусткий прутик её эластичного позвоночника. Как упирались в его бока крошечные, почти детсадовского размера шелковистые подмёточки. Как прохладные игрушечные ладошки гладили его волосатую грудь, наворачивая на мизинчики завитки жёстких волос. Как страстно, но с опаской пропускала она отца в себя, медленно, пережимая маленькими ручками могучий отцовский корень у его истока, чтобы не повредить себя изнутри или, не дай бог, вовсе не убить. И как потом, когда ласки завершались, юрко соскальзывала с его колен, счастливо улыбаясь тому, что снова всё им удалось и что не будет, скорей всего, препятствий к такой их удивительной взаимности и дальше.
Ей было двадцать шесть, когда они с лёгкой руки нашего деда Гирша сошлись для той их недолговременной совместной жизни. В силу своей примитивной человеческой сути отец наш никогда не был гадом или же просто банальным искателем извращенных удовольствий. Отчасти чувство его опиралось на природное любопытство взрослого зверя, о чём я уже упомянул. В некоторой степени действиями его также руководило неосознанное милосердие, свойственное подобному типу необузданных, сильных и бедовых мужиков. В этом Гирш по случайности не ошибся. Ну и, наконец, всё это ещё каким-то образом сочеталось с видами отца на имущество и некие средства, на тайное наличие которых прозрачно намекал Дюкин отец, мой дед Гирш, по паспорту Григорий. Возьмёшь нашу Марию, сказал он как-то моему отцу, не обижу. Она хорошая, просто небольшая. И отрешённо посмотрел в сторону горизонта, прямо и бесцветно. Потом добавил ещё, чуть поразмыслив, что доверить свою карликовую дочку он может лишь доброму двухметровому человеку с тридцать восьмой ногой, то есть с тем же сочетанием несопоставимых качеств, каким обладал лишь русский царь Пётр Первый. И если Бог даст им ребёночка мужского пола, то пускай имя ему станет Пётр. Нормально?
Отец поверил и взял, желая соединить несоединимое: обидный, но терпимый факт наличия карликовой жены и зажиточное ничегонеделанье. Чем он займётся потом и что утянет его в оголтелое блаженство – об этом он тогда ещё ничего не знал.
Отца нашего зовут Иван Гандрабура. 196 см прямого роста при 114 кг живого веса. При этом – верующий безбожник. Как хотите, так и понимайте. Он и сам понимал про себя не очень. Церковь обходил за версту, не любя тамошних волосатиков с их кадилами, рясами и свечками. Но верить – вроде верил, потому что дочитал-таки детскую Библию в картинках, доставшуюся ему в качестве культурной помощи от Гирша Лунио. В ходе прочтения многое Ивану становилось ясным, и прошлое бессистемное понимание мироустройства медленно, но неотвратимо отскабливалось от наростов случайных обрывочных знаний, обретённых за годы общения с такими же, как он, гандрабурами – по тяжёлым похмельным понедельникам в очереди за тёплым кисло-водянистым пивом. Многое, но не всё. Например – тот любопытный факт, что себя самого нужно полюбить, как других. То есть, наоборот, всех остальных надо полюбить, как себя. Тогда что ж получается – что сам хороший, если себя сам же и полюбишь? А если, к примеру, не полюбишь? Или недолюбливаешь после, как натворил чего? Это, получается, всякий раз надо для начала прикинуть про самого себя и принять к выводу. Ну а если не доподлинно помнишь про всё? По понедельникам, допустим, какой там упомнить – там бы себя с противолежащим не перепутать. А наврёшь, так и полюбишь остальных не от своего имени, а от того перепутанного. И бед натворишь, и после про них узнаешь не раньше только вторника, уже на смене.
А вот ещё, смотрите. Прикинул он, что если каждых семян и зверей по паре забирать при потопе, то нет такой ладьи, чтобы уместились. Неправда это, не было такого. А если слоны, допустим, они ведь тоже звери, или жирафы с бегемотами? Это ж ледокол нужен, не меньше, или караван сухогрузных барж для такого заплыва от проливного дождя – в этом месте явно просматривался обман или же дурная фантазия.
А история с щеками, когда обидчика полагалось не бить смертным боем, а взамен этого подставлять себя по новой, ещё и с другой, более удобной для дальнейшего избиения стороны? В силу чего, спрашивается, с какого перепугу? И это вместо того, чтобы воткнуть негодяя головой в сыпучий песок тамошней раскалённой пустыни и вкручивать, вкручивать по самую селезёнку...
Или взять вопрос бытовой. Питание. Там как раз всё довольно необидно ни для кого изложено, и даже проявлена излишняя щедрость. Зато обман, в чистом виде, хотя это уже не сам Бог, а сын его натворил. Ну как, скажите, можно, чтобы двух рыбин и штук вроде пяти батонов хватило насытить толпу безработного народа? Ну сколько одна рыбина, к примеру, будет весить, даже если у него обе выловились, нагуляв полный вес. Ну пускай, допустим, под два кило – хотя и не стандарт. Всего – четыре кило получается. Это на всех. Минус голова, хвост, кишки и рёбра. Молоку не считаем, пусть остаётся как съедобная. И чего? Они ж друг друга порвут просто, и всё равно не хватит нормально никому. А Иисус накормил, и все остались довольны. Ну чисто как у баснописца Крылова, только про другое. То-то и оно.
Короче, как Иван на это дело ни смотрел, такое ученье не обладало для него нужным запасом правдивой справедливости. Однако это выяснилось уже чуть потом, после того как, заинтересовавшись непустячным образом, он арендовал у того же Гирша все Евангелия от всех четверых похожих рассказчиков под общей мягонькой обложкой. Всех, ясное дело, не осилил, но первого одолел почти налегке и практически доконал второго. Других полистал уже просто для порядка и отложил за ненадобностью, так и не запомнив точно, кого и как из близкого окружения богова сына звали и кто чего для него делал.
К тому же путался постоянно, больно все они одинаково излагали про одни и те же дела. Но один из них в память всё же нормально запал – тот, который Пётр. Вспомнил Иван слова Гиршевы про русского царя Петра Великого и про его маленькую ногу при несоразмерном росте. Себя, опять же, ввернул сюда, в похожесть с ним такую, и уложилось оно в памяти само, без понуканий. Петра он назначил вторым по важности из всех после главного героя повествования Иисуса Христа. Потому что и доверие к нему было, и не так уж он и предал подло, а лишь ошибся чуток, против прочих, которые с умыслом предавали, несмотря на предостережения главного. Не говоря уже про скверноподлого Иуду, тот дело вообще отдельное. Получалось, что он, Пётр, самый наилучший приверженец святого учения из всех других. Так что решил Иван согласиться с будущим тестем насчёт моей маленькой личности. Ну что если я живой получусь у них с Гиршевой дочкой Дюкой-Марией, то буду называться Петром.
Которым я и стал, как они договаривались. А братика, про которого никто в ту пору не думал и не знал, назвали Наум. Няма. В честь покойного отца Гирша, Наума Евсеевича Гиршбаума. Для меня Няма – младший близнец, его извлекли на воздух сразу после моего появления на свет и долго откачивали. И нормально откачали, кстати, не жалуемся. И теперь мы Пётр Иваныч и Наум Иваныч, неотличимые близнецы. Но только не с отцовской фамилией Гандрабура, а тоже – Лунио, в деда по материнской линии.
До того ещё как мы родились, когда жива была мама, отец Иван любил иногда пооткровенничать с упаковщиками, знакомыми ему по старой ещё досемейной жизни.
– Такое, – говорил, – со мной Ивангелие приключилось... – Это он о своей жизни с Дюкой. – Ни дать толком, ни взять нормально. Одно удивление и красота в малой форме. А самой бабы вроде как бы и нет. Будто понарошку всё, по забаве. Хоть перечень весь имею и состав: сисюльки аккуратненькие такие, на полмизинца от грудины – фижмочки, попка – двумя орешками с небольшую помидорку, шейка тонкусенькая, в обхват двух пальцев, глазики умные – со строгостью и внимательные, без расцветки, как у Григорий Наумыча, но повеселей, зубочки меловые белые, мелковатые и чуток редкие, зато остренькие, волосики с паучью нить тонкие-претонкие, русые, без бабьей густоты и волнятся, как в кино, плечики – обои лёгкими уключинками над ямками, косточки на рёбрах – наперечёт, всё по списку, всё как у других. А сикнуть пойдёт – не услышишь, как журчит, какнёт – чисто ящеркой какой, не учуешь и следа после, как носом ни старайся. Ну чем не баба? Всем – баба. Только подержаться – мяса самого не хватает. Так чтоб вжать растопырку в мякоть, перебрать её пальцами, напружиниться и замереть на время, пока охота не подступит.
Но это он, само собой, не Гиршу пояснял, а прочим людям, и не только упаковщикам – тайно, в ходе нечастых уже совместных пивных возлияний, по которым иногда ностальгировал, ещё до того как вышел из состава семьи. В то время он ждал неизвестного наследства из Дюкиного живота, а соединяться с Дюкой в кроватную любовь уже не имел физической и законной возможности.
Сведения разными кривыми путями брали начало от упаковщиков, знакомых Ивану по прошлой службе, и разлетались дальше. Время от времени, частично искажаясь в ходе своего пролёта, достигали они и ушей самого Гирша, а достигши, малой частью осаживались и на Дюке. Впрочем, таким малоприятным ответвлениям в получившейся безоблачности Дюка, всецело довольная жизнью, не доверяла и значения им не придавала. В постоянном её пользовании на основе чистой любви состоял добрый русский богатырь, о чём она раньше не осмеливалась и помышлять и чему так напрасно поначалу сопротивлялась. И оба они ждали продолжения рода по линии Лунио или Гандрабур – как повезёт.
Покинув стены фабричного общежития, наш биологический родитель, которого мы до определённого времени не видали вообще, прожил в семействе Лунио без малого три года, имея в активе не подкреплённую законом жену Дюку и всё ещё не утихающую надежду на лёгкое обогащение. Возможно, жил бы он так и дальше, то борясь с самим собой за освобождение из комфортабельного рабства, то напрочь забывая, что таковое присутствует в его жизни вообще. Работать, в традиционном смысле слова, в семье Лунио, куда он попал после увольнения с прежней должности, его никто не просил, разве что передвинуть что с места на место. Сам же он про любой вид труда уже не вспоминал. Прежде, работая на упаковочной фабрике, куда его взяли сразу после армии, Иван много думал о карьере, мечтал стать бригадиром среди своих таких же, чтобы свести на нет самоё сидение на проходной и просто пребывать в задымленной дежурке, при синей форме, при горячем чае, доминошных костяшках, программе телепередач, пистолете без заряда, перекидном настенном календаре с истекшим сроком годности и с голыми фигуристыми девками недостижимо-иностранного фасона, насквозь засмотренными сменным караулом за десять висячих лет. И при настольном аппарате для связи с настоящим начальником. И чтоб голова при этом всегда была невинной от любых обязательств по службе.
Такая жизненная конфигурация представлялась отцу идеальной, лучше неё был один лишь космос, куда Ивана всё равно не взяли бы из-за веса и роста. Но шли годы, и настукало их немало, а предложений других, кроме того, какое он и так верно исполнял, не поступало. Одно время он собирался продвинуться в той же профессии, с ловкой задумкой – чтобы и не менять ничего в корне и приблизиться к заветной мечте. С этой целью даже осуществил пробное усилие, предложив свою кандидатуру на место старшего смены той же проходной. Однако тут же был осквернён отказом начальника фабричной охраны, Лунио Григория Наумыча. Тот отмахнулся просто и покрутил пальцем у виска.
И тут как выстрелило! Именно тогда, после своего равнодушного отказа Гирш Лунио внезапно и подумал о рядовом охраннике Иване как о возможном зяте. Сами по себе механизмы жизнедеятельности, приводившие в движение эту большую и глупую машину, упакованную в грубую оболочку, были вполне исправны и управляемы, о чём Гирш знал достоверно и что всецело отвечало задаче. Оставались два дела – главное и неглавное. Главным было уверить Марию, что всё в жизни возможно. Даже в жизни маленьких людей. В том смысле, что и маленькие человечки так же могут жить, любить, трудиться на общее благо, и не за страх и вспомоществование от государства в виде инвалидной подачки, а за нормально начисляемый дважды в месяц приличный заработок. А также испытывать регулярные человеческие эмоции и быть востребованными не только такими же маленькими, как сами они, людьми, но и вполне размерными, и даже очень крупными. Как, например, работник сферы охраны готовой упаковки и упаковочных материалов Иван Гандрабура. И её, Машеньки Лунио, женское счастье вполне может зависеть лишь от её выбора, если что. Это для примера. Неглавной задачей, второй по значимости, было соблазнение отобранного Ивана новой, привлекательной жизнью. Здесь дед не сомневался, что его интерес перетянет. Сама природа распорядится так, а не иначе – несомненно, должен быть слаб и безволен этот несуразный человек, чья нога своевременно не позаботилась о ступне нужного размера.
Первый, он же и последний, разговор между дедушкой и охранником был коротким и конструктивным. Предварительного обмена мнениями дед не планировал изначально. Со стороны Гирша беседа сразу выстроилась как обоюдовыгодный, но обязательный для исполнения договор. Итак. Григорий Наумыч Лунио, человек и начальник, увольняет бойца невоенизированной охраны Ивана Гандрабуру с места трудовой деятельности по его собственному желанию. Обеспечивает Ивану выписку из профильного общежития и всецело и окончательно забирает его для совместного семейного проживания со своей половозрелой дочерью Марией в квартире повышенного габарита. При этом Иван Гандрабура становится обладателем временной прописки в качестве гражданского мужа Марии и живёт с ней долго и счастливо. Рождение наследников также приветствуется в случае такой медицинской возможности; и тогда вопрос брачного статуса пересматривается в общую пользу по взаимности. При этом, какой бы спонтанностью дело ни обернулось, дочь обижать категорически воспрещается, как мужу, как мужчине и как здоровенному самцу. Имей в виду, говорил Гирш, Мария, моя святая, почти как пресвятая Дева Мария, если б та перестала расти в 9 лет. Так что на сторону тоже ходить возбраняется, как бы ни прижало. С девкой твоей, что при роддоме, тебе придётся завязать. Не работать и вообще ничего не зарабатывать – можно при любых обстоятельствах. Полное довольствие в разумном пределе и на постоянной основе, как и кров, обеспечивается ответственным квартиросъёмщиком, то есть мною, на протяжении всего совместного проживания. Плюс карманные деньги. Да, и ещё! Без регистрации вы будете жить, просто чтобы людей не злить понапрасну. Родите кого – распишем, чтобы как у всех, я уже говорил. Но только никакая фамилия не меняется ни в чью пользу. Дети остаются Лунио. Всё!
Как потом рассказывал Гирш, отец нам предложению такому совсем не удивился, потому что натерпелся после службы в рядах вооружённых сил одинаковости и безнадёги личной жизни при неполном рационе питания и общения. Плюс к тому вечно сказывалась категорическая нехватка в организме пары-тройки существенно важных умообразующих макроэлементов. Спросил лишь:
– Сама-то она знает про меня вообще?
И еще:
– А был у ней кто до меня?
А совсем уже подумав, подытожил вопросник:
– А когда выходить-то, сейчас прям?
На первые три своих вопроса он получил в ответ уверенные дедовы «нет» и уже только тогда немного успокоился и обмяк. Пока отмякал, придумался четвёртый, самый для Григория Наумыча трудный в смысле ответа вопрос.
– А чего я-то, Григорий Наумыч?
Гирш в откровенное лукавство пускаться не стал. Ответил, как отрубил, чтобы закрыть тему навсегда:
– Потому что ты свой. Понял?
Ответ понравился, но и озадачил, предполагая несколько вариантов развития торга. Ивана хватило на один. Его и озвучил:
– Только если коротыш всё ж у ней родится от меня, какой сама она, то пускай не мой будет. Так сговоримся?
Дедушка не растерялся и отреагировал как опытный негоциант:
– Сговоримся, Ваня. Но уйдёшь без выходного пособия. Как вошёл, так и вышел. Без ничего. Бесплатный вход – бесплатный выход. Это ясно?
– А вы откуда тогда про мою роддомовскую знаете? – невпопад спросил Иван.
– Знаю, и всё! – неопределённо мотнул головой Григорий Наумыч и кивнул на дверь: – Свободен, боец!
И вот тут наконец в полный рост проявился характер нашего отца, спавший доселе нетрудолюбивым Муромцем.
– Завтра отвечу, Григорий Наумыч! – с непривычной для себя решимостью произнёс Гандрабура и удалился на расстояние длиной в один день. Гирш проводил его пасмурным взглядом и отправился готовить дочку к новой жизни.
Дня до завтра Ивану хватило, чтобы посетить местный роддом, в котором у него сутки через трое, утро – вечер попеременно заступать, трудилась знакомая, Франя, тамошняя няня, убедиться, что та сегодня выходная, и далее отправиться по знакомому маршруту, не забыв навестить попутный продмаг. Сама по себе девка эта видной не была, хотя тело какое-никакое имела, не так чтобы окончательно увесистое, но всё же рёбра, как ни вглядывайся, не высматривались. А вдобавок пела ещё по субботам в церковном хоре. Пешие походы от упаковочной фабрики до роддома в режиме «ночь через три как получится» Ивана, в общем, устраивали. Тем более что Франя ни разу за всё время их отношений не выдвинула никаких специальных требований в ходе совместных актов телесного сближения. Сначала они ели то, что приносил с собой Гандрабура, затем безмолвно ложились на её узкую кровать и после соединения занимали уже каждый своё ночное место: няня оставалась спать на кровати, а Иван перебирался на дощатый пол: там хозяйкой предварительно был раскинут нарощенный в длину матрас, на котором умещался весь он целиком, даже в варианте полностью вытянутых ног.
Утром она его кормила остатками принесённой еды и на прощанье крестила быстро, стыдливо и по возможности незаметно. Тогда Иван был ещё вне богословской тематики и потому, когда засекал на себе суетливый перекрест, просто вяло отмахивался от Франи, прикидывая, что навряд ли такой святой обряд сможет оказать ему содействие в получении места старшего смены по охране упаковок.
В этот раз всё было чуть иначе против остальных его визитов. Знал Иван, кишкой чуял, что сегодня всерьёз прощается с молодостью, свободой и трудом, и оттого внутренность его наполнена была радостными переживаниями, сопровождаемыми лёгким страхом. Кишечная палочка в нём тоже не дремала, передавая позывные, вызывавшие бурчание в животе. Он даже не мог как следует разобрать, чего ждёт от этого своего последнего визита к няне: то ли одобрения рокового шага, то ли констатации поражения всей его нескладной жизни, то ли просто грамотной медицинской консультации на предмет рождаемости карликов в условиях, когда один из родителей не карлик, а совершенно наоборот, а другой – чисто карлица, натуральная.
И в этот судьбоносный момент я, как бы отмотав плёнку назад, увидел отцовскими глазами его растерянность, его неготовность родить нас с братом такими недоделанными, какими мы получились, приняв от родителя лишь по 90 сантиметров роста и не более того. А ещё я вижу дурную берёзу за окном съёмной няниной комнатёнки; она выгнута подковой и облита сверху донизу по веткам и стволу ледяной коркой после аномального зимнего дождя. Вижу, как отец, вопреки заведённому им правилу, не съехал с кроватной узкоколейки на пол сразу вслед за последним своим звериным выдохом, а оставил себя наверху, на общем матрасе, рядом с единственной своей женщиной, покорной как усталая овца и никогда не любимой. Он притянул её к себе, положил ладони ей на груди, неумело разыгрывая близость, и вжал пальцы в тёплую податливую мякоть, обогатив этой лаской, как ему почудилось, свой привычный гостевой визит. Ледяная берёзовая дуга за окном, намертво вмёрзшая в неласковую природу, не шевелилась ни единым своим прозрачным щупальцем, и эта странная для местной зимы картина навела Ивана на мысль о том, что счастье его, как отдельного человека, и вся его остальная неинтересная жизнь напоминают такую вот, как эта, ледяную деревянную подкову, которая стоит за окном просто так, без всякой нужды, не потребная ни хозяину, ни лесу. И никто её и никогда не станет разгибать обратно, чтобы сделать выпрямленной. Просто пройдут себе мимо и не заметят – хочешь, стой гнутой, хочешь, разгибайся. Но чтобы с ним и дальше было так, Иван уже не желал. Почувствовал, что и он нужен людям. Хотя бы этим Лунио.
И он решился:
– Послушай, Франя, – выдавил Гандрабура через стеснение в груди, – а вот скажи мне как медик пациенту, без утайки. – Франя чуть вздрогнула и напряглась от непривычности происходящего, однако уступчиво распахнула веки, чтобы начать вслушиваться в Ивановы слова. Он же, не переставая вжимать пальцы в её груди, попытался доформулировать свой вопрос понятно, и, кажется, у него это не получилось, слишком уж щекотливой была сама тема. – Так вот я и говорю, – продолжил Иван, нащупав в себе наконец подходящую уверенность, – если мать, к примеру, природная карлица, а отец от природы нормальный, ну в полный рост, то могут они выносить и выродить такого, допустим, как этот отец, если сойдутся? А не как мать. И без последствий на потом, а? И что про такое в вашей больничке думают, не в курсе?
И прощально убрал от неё руки. Вопрос был настолько неожиданным и чудным, что Франя этого не заметила. Ощутила только, что дышать стало немного легче. Но зато и ответ в ней не задержался.
– А что случилось-то, Ваня? Заболел кто?
Гандрабура чуть раздражённо повёл плечом:
– При чём заболел? Оно ещё не родилось пока. Дитё это. Вот и спрашиваю, больное оно будет или здоровое? Как мы с тобой, предположим, без всякого отклонения от норматива или какое? Маленькое или большое?
Франя потупилась. Ощущение зарождающегося в узкой, как сама кровать, комнатке маленького приёмного покоя не отпускало. Да ещё сам по себе факт, что заблудший пациент не ушёл, как обычно, к себе на пол, также добавлял беспокойства.
– Да чьё дитё-то, Вань? – тихо спросила Франя охранника, стараясь не усилить его волнения интонацией своего голоса. – Почему большое? Где оно есть-то, у кого? В толк не возьму.
Иван хмуро посмотрел на женщину, и теперь она уже не понравилась ему окончательно.
«И чего только время на неё столько потратил? – внезапно подумалось ему. – Четыре года хожу, доски эти давлю поганые, а проку никакого. Глупая она, вот и весь мне ответ. Крутится при роддоме сутки через трое, а про калек ничего сказать толком не умеет. Надо ж, а ведь пожениться когда-то с ней думал...»
И всё же он сделал последний подход к снаряду, осуществив на этот раз обрисовку проблемы с помощью пальцев, освобождённых от няниных грудей. Тем более что снаряд этот всё равно шёл на утилизацию. После выразительной демонстрации Франя сообразила наконец, о чём речь и отреагировала неожиданно быстро и по существу.
– Теперь ясно, – сказала она, – так бы сразу и объяснил. Отвечаю, чего знаю. Были случаи такие и не один. При мне живых не вынимали, а чаще они выкидывали месяце уже на третьем. Мамочки ихние. Маленькие. Или вообще плод не цепляли, сколько ни жили со своими. А тебе для чего это надо? Для кого?
– Для того! – с внезапным облегчением и одновременной злостью выкрикнул Иван, подводя итог четырёхлетнего марафона по накатанному маршруту. Потому что понял – теперь можно безопасно жениться на дочке начальника охраны и положить с прибором на всю ихнюю упаковку.
Глава 2
Гирш, давший будущему гражданскому зятю времени в обрез, чтобы не хватило запаса сил на обдумывание, и сам в каком-то смысле сделался заложником скоротечно принятого плана. Из опыта предыдущей жизни Лунио знал, что подобные дела следует решать сразу, одним решительным марш-броском, навалившись на проблему грудью и накрепко пережав ей дыхалку. В Иване, которого дедушка рассчитал навскидку, без калькулятора, он был уверен. Глуповатый и, в общем, не злой громила, которому отроду не хватало мозгов изобрести себе для жизни что-нибудь ещё, кроме того, чтобы поддаться обману, в который его кто-нибудь, предварительно заморочив голову, затащит, сомнений у него не вызывал. К тому же не было секретом, что про свою сексуальную активность тот больше бахвалился перед охранниками и упаковщиками, нежели проявлял её на деле. Чтобы удостовериться полностью, Гирш приложил несложное усилие, наняв шустрого пацанёнка, из упаковочных, и вызнал с его помощью полную занятость охранника Гандрабуры в нерабочее время. Вся операция обошласть Гиршу в плёвый пустяк: разрешил молодому под покровом темноты вытащить за охраняемый периметр пару универсальных упаковок под экспортную продукцию, и все дела. При том что бедней от этого не сделался никто, а пацану приработок и себе польза.
Малый этот без утайки донёс всё как есть. Что, мол, нет никаких у Ивана в жизни баб других, кроме одной роддомовской тётки, кем там она точно не знаю, санитарка, нянька или сестра. Ходит к ней на неделе раза два и спит там до утра. Потом идёт охранять или обратно к себе в общагу. Больше никуда не ходит, кроме продмага. Бабу эту его звать как, не узнал, но лет ей вроде около тридцати. Тоже одна без никого живёт. Сама с деревни. Кажись, всё.
Этих сведений деду хватило с запасом для окончательного утверждения кандидатуры Ивана на роль сожителя для нашей мамы. Оставался последний шаг – разговор с самой дочерью. Он и состоялся тем же днём, какой был отпущен Ивану для размышлений. Гирш заглянул к ней, когда она работала, как всегда сосредоточенно, высунув наружу маленький язычок. Обжигала в этот момент что-то там металлическое. Сначала он зашёл, а уж потом громко стукнул костяшками пальцев по двери с внутренней стороны:
– Машунь, отвлечь хотел ненадолго, ты как?
Она не обернулась, продолжала священнодействовать с газовой горелкой.
– Конечно, папуль, я тебя слушаю.
Гирш чуть помялся, но решил больше не тянуть.
– Тебе же у нас 26 скоро, милая. Вот я и подумал, возраст-то подходящий самый, чтобы мужчину завести, а?
Дюка продолжала работать и одновременно отвечать:
– Папа, но ты же знаешь, мы с тобой не раз об этом говорили, никогда я не стану жить с карликом. Хватит мне и самой себя ненавидеть. Два стыда больше, чем один, разве не так? Выше крыши наелась: и училась пока, и сейчас всё ещё дорожки выбираю помалолюдней. Спасибо, профессия у меня домашняя. Или ты хочешь, чтобы я дополнительно ещё помаялась?
Гирш несогласно развёл руками, словно она могла видеть этот жест спиной:
– Доча, да я не об этом, я о другом. Я о нормальном мужике, о высоком, молодом. Какой там тебе карлик ещё! И есть у меня такой на примете, кстати говоря. И сам вроде бы не против. Знакомимся?
Дочь затянула горелку, отложила работу и развернулась к Гиршу лицом:
– А я ему зачем, пап? Он что, без карлицы страдает? Извращенец?
– Да не в этом дело, Машунь. – Дед приблизился к ней и присел на край стола. – Просто он добрый и простой. У меня работает. Одинокий, малопьющий. И очень большой ростом. Значит, и сердцем такой, я знаю. Сердобольность в нём есть какая-то, любовь к людям... особая. Ко всем вообще, к большим и к маленьким. И уважение. Вот я и подумал, может, сладится у вас, хоть он не из наших. Э-э... не из ваших. Ну, я имею в виду, не из маленьких людей. Он детей очень любит, говорит, мечтаю о сыне. И стеснительный. Так что у него особенно ни с кем сойтись не получается. Робкий, хоть и охранником у нас. Но редкой душевности парень. И без претензий. А?
Дюка хмыкнула:
– А он нормальный? Я имею в виду... по голове. Отклонений никаких? А то уж слишком... на двоих придётся, не думаешь?
Гирш, почувствовав у дочки перемену настроя, резко подхватил тему:
– В том-то и дело, что нормальный. Абсолютно. Просто напрочь лишённый амбиций. И внимательный. Ему бы только дай о других заботу проявить, ну по типу волонтёрской. Было бы возможно, говорит, открыл бы благотворительный фонд милосердия. Людям посильно помогать. Такой человек, доча. Иваном его зовут, Гандрабурой.
Дюка сделала лицо:
– Он что, сидел?
Гирш всплеснул руками:
– Да нет, боже упаси, это не кличка вовсе. Неужели думаешь, я тебе уголовника предлагаю, девочка моя? Просто у него фамилия такая. Приветливая, весёлая. Я же говорю, у него всё для людей, даже это. И потом, я ведь не сразу замуж предлагаю. Поживёте, притрётесь. Дальше сама решать будешь, нужен тебе такой мужчина для жизни или нет. Вдвоём по-любому веселей. И надёжней. И деточки могут получиться прекрасные. Ты же знаешь, у маленьких с маленькими не бывает. А он богатырь, просто из русской сказки, с ним у тебя всё будет, сама увидишь. Так или не так?
– Наверное, – неуверенно ответила она, но Гирш постарался развить идею ещё дальше:
– Знаешь, мы ведь никому правды не скажем. Пусть все думают, дальнего родственника к себе прописали.
Дюка прыснула:
– Ты про кого это, пап? Какого родственника? Если он с фабрики твоей упаковочной, то уже через два дня всем всё известно станет, уверяю тебя. Тут чихнут, там услышат.
– А мы его уволим оттуда, да он и сам говорил мне, что собирается. Так что никто и ухом не поведёт, а жить станете не хуже людей! – с искренним воодушевлением воскликнул Гирш так, чтобы не оставить дочке сомнений.
Дюка почесала мочку маленького уха и улыбнулась:
– Точно не хуже, не обманываешь?
Гирш соскочил со стола и рубанул кулаком по воздуху:
– Да не обманываю я тебя, не обманываю! Лучше, а не хуже! Днями приведу его знакомиться. Да, доча? Да?
Она повернулась обратно к столу, отвернула клапан горелки, поднесла к соплу зажигалку и крутанула колёсико. Из сопла вырвалась упругая струя синего пламени. И уже через плечо, не поворачиваясь к отцу, согласилась:
– Ладно, пусть приходит, посмотрим.
Я привёл этот разговор, чтобы стало понятно, как приходилось дедушке унижать себя и изворачиваться в разговоре с нашей мамой. Столь рьяно и неискренне убеждать родную дочку сблизиться с ленивым, обделённым любыми положительными качествами мужланом – простите ещё раз за такую откровенность – задачка не из лёгких и не из приятных, согласитесь. Однако, перебрав за пару лет прочие варианты, которых, правду сказать, и не было особенно, Гирш всё же принял тяжёлое для себя решение, о котором я только что вам поведал. Ну не мог он смотреть на мою мать без сердечного спазма: как ходит, как моется, как тянется к чашке со стула, приподняв тело над сложенными в коленях ножками, как ест суп десертной ложкой, как укутывает зимой лицо поглубже, чтобы сойти за девочку, как смотрит на здоровых и весёлых людей, сглатывая привычную, не отпускающую ни на минуту, загнанную в глубокое нутро боль от случившейся несправедливости...
Я и сам хорошо это знаю, ясное дело. Но у меня, в отличие от мамы, есть брат, такой же как и я, только младше на семь с половиной минут. Впрочем, для нас, карликовых «нанистов», разница в минутах и даже годах не столь важна – тоже, надеюсь, понятно почему. Все мы маленькие человечки с полудетскими-полувзрослыми лицами, надёжно укрывающими наш возраст и тем самым отдаляющими нас ещё больше от мира остальных людей. Наши головы несоразмерны нашим телам. Наши лица чужды нашим голосам. Наши желания превосходят наши возможности. Наши страхи не отпускают нас никогда. Наши обманные сны дают нам лишь неосуществимые шансы. Наши дети – у нас их нет. Наши близости, наши любови – получаются скорее вынужденно, чем по чувству и страсти. Наши тщетные помыслы не оставляют надежд...
Надо сказать, что мамино положение всегда было лучше, чем у многих других. Прекратив расти в возрасте 9 лет, тело её продолжало формироваться, подчиняясь лишь ему одному известному закону выживания карликов. Причина, образовывающая особенности развития, никогда не известна, тем более что оно может начать свой отчёт с любого непредсказуемого никем дня. В результате пропорции мамины – это я могу с уверенностью сказать, исследовав многочисленные фотографии, нащёлканные в разные времена дедом Гиршем, – практически не изменились с того года, когда выяснилось, что больше она уже не вырастет. Дюкина головка, девчоночья по размеру и форме черепа, ладно примостилась на тонкой шее. Красивые плечи, тонкие руки, узкие бёдра, чистая до полупрозрачности кожа, отсутствие возрастных искривлений и некрасивых наростов – всё это оставалось с ней, словно законсервировалось к финалу 9-летнего отрезка жизни. Разве что грудь со временем подалась чуть вперёд двумя острыми коротенькими бугорками и лицо... Лицо, продолжавшее взрослеть согласно течению жизни, диссонируя с остановившимся в развитии телом, казалось несколько взрослее. Наверное, Гандрабура прозвал маму Дюймовочкой не только из-за её детского роста, а даже скорей из-за неизменно выразительной девчоночьей грации.
У нас с Нямой всё не так. Мы не останавливались в росте, мы сразу, в отличие от мамы, вышли на белый свет уродцами. Так что кривоваты, не скрываем. Ну и остальное всё, если говорить о наших пропорциях, тоже не самого отборного качества. Зато я мужик, это точно – понимаете, о чём я? Вполне настоящий. И Нямка такой. Так вот я и говорю, что лично нам повезло, потому что нашу с братом беду мы делим на двоих и оттого на каждого приходится только половина несчастья. С оставшимися половинами мы обычно поступаем по-разному, зависит от обстоятельств. Но об этом не сейчас, ладно?
Предварительное знакомство молодых, как к этому ни относись, всё же было необходимо. Это дед, само собой, понимал, хотя и несколько дёргался, опасаясь пары-другой вариантов непредсказуемости в развитии событий. От этой встречи теперь зависело и остальное, включая самое главное, для чего он и затеял всю эту околосемейную авантюру, – дочкино будущее.
В дом Лунио Гандрабура пришёл с опозданием ровно в один час, как будто подгадал специально, чтобы изначально не угодить. Гирш встретил гостя с вытянутым лицом, фальшиво улыбнулся, но ничего не сказал. Кивнул на тапки и на свободный крючок для огромного Иванова тулупа. Чуть позже и сама Дюка, со свойственной ей мягкостью и терпеливостью, сделала вид, что так оно и должно быть и что на фоне большого и красивого малое и пустяковое существенной роли не играет. Оттого Иван и не придал никакого значения своему первому проколу. Он даже не понял, что вообще что-то произошло: ему не сказали и не поставили на вид. Через годы, вспоминая, как дедушка рассказывал нам с братом историю возникновения нашего отца, я догадался, что не было в тогдашнем его опоздании ни просчитанного вызова в адрес будущей родни, ни демонстрации личной безответственности, присущей раздолбаям всех мастей, ни желания выказать наличие характера, чтобы сразу срезать и приготовить будущих родственников к серьёзному мужику в доме, хоть и не хозяину.
Просто Иван, в силу своей персональной особенности, не был в курсе, что объявленный для гостевого визита час является всамделишным руководством к последующему действию. «В 5 часов», к примеру, для него означало «где-то уже после обеда, но ужинать пока ещё не сели». То есть «ближе к вечеру», в общем. Он так и пришёл, как понял. Ничего личного, чистая душа, не замутнённая условностями и этикетом. Зато вместо цветов принёс две бутылки водки. Не располагал данными, что из питья там будет на столе и употребляет ли эта маленькая вообще чего-нибудь. Про Наумыча знал, что со своими тот не принимает. Ни разу замечен в рабочее время не был никем. То есть больной или хитрит. Или принцип специальный, чтобы идти по службе дальше ещё. Дело его, вольное, но иметь с собой на случай казуса надо всегда, сгодится, если что.
Пока шёл, пока искал адрес, прикидывал заодно, сколько надо нормальному карлику, чтобы забуреть. Решил, что не от роста всё, а от веса. Потому что карлики тоже бывают разные, как и карлицы. Кто, например, запрещает им быть полненькими? И за один раз принять на грудь граммов 400, допустим? Кстати, о теле Марии этой Лунио, о типаже самой фигуры он забыл поинтересоваться у отца её. Не принял в рассмотрение, озадачившись сразу другими позициями, основополагающими.
Невеста, неслышно ступая, вышла в коридор из своей мастерской только после того, как гость стянул с плеч свой охранницкий тулуп из грубой, засаленной местами овчины, приладил его на вешалку и стал разуваться.
Первое, на что Маша обратила внимание, были гостевы сапоги. Своим небольшим размером они странным образом не совпадали с могучей статью явившегося в их дом чужого мужика. Она с надеждой подняла глаза, и того, чего она тайно опасалась, не произошло. Не споткнулся глаз её о лицо гостя и не отвёлся. Наоборот, мужик этот представлял собой большерослое добродушное на вид создание, с чуть смущённой полуулыбкой на довольно приятной открытой физиономии, которую не портила даже небритость, также не оставшаяся незамеченной с высоты 90 см от пола. Аккуратные миниатюрные Дюкины туфли на каблучке оставляли исходную высоту точки взгляда на том же уровне. Мелькнула мысль – тот самый, ночной, первый. И Маша не смогла сдержать внутренней улыбки от такого своего предположения.
Далее у гостя просматривались обожжённые уличным морозом красные ручищи с мозолистыми потёртостями на подушках пальцев, растянутый, с зацепами и безнадёжно обвисшим горлом вязаный свитер Франиной выделки, пузыристые на коленях неопределённого фасона и цвета штаны, не дотягивающие до щиколоток, и шерстяные носки с двумя заплатами, равновелико задранные чуть выше пяток. Таким был её будущий партнёр по жизни.
Вбив ступни ног в хозяйские тапки, Иван первым делом вытянул из карманов две свои бутылки. Затем, обнаружив в коридоре неприметную хозяйку, подал бутылки той. Перед собой и вниз.
– Нате, Мария, – сказал он, потупившись на всякий случай, чтобы не ошибиться в оценке ситуации. – Это к вашему столу. Меня Иван звать. А вас?
– А меня Мария, вы правильно сказали, Ваня, не ошиблись. – Она протянула вперёд маленькие ручки и приняла гостинцы, доставленные Гандрабурой. Подавая, он обнаружил на пальчике её левой руки удивительной красоты кольцо со сверкающими разноцветными огнями, исходившими от увесистого камня прозрачной наружности и в золотой, судя по виду, оправе. Прицокнул от удивления языком, но ничего не сказал. Просто не знал, что говорить про такое и какими словами. Да и не время было пока.
– Только я не знал, пьёте вы её или не потребляете, – вымолвил Иван смущённо и с некоторым сомнением в голосе, но уже несколько отпущенный внутренностью после того, как подарок его был принят.
– Вы с папой лучше выпейте, а я на вас просто посмотрю, ладно? Я знаю, что вы непьющий, но раз в гости к нам пришли, то, наверное, немного позволить себе можно, да? С селёдкой под шубой, – вежливо обрисовала ситуацию дочь хозяина.
– В смысле? – искренне не понял Иван. – Под какой шубой? У вас не топят, что ли? Незаметно вообще-то.
И стал неуклюже озираться по сторонам.
– Давай, Вань, давай, проходи, – прервал неловкость Григорий Наумович, всё это время молчавший. – Шуба – это свёкла с майонезом и все дела. Сейчас всё узнаешь. Привыкай потихоньку.
На самом деле визит уже можно было успешно завершать. Дед понял, что противопоказаний не предвидится. Слишком хорошо знал свою дочь, чтобы теперь, после короткого, но многозначительного Дюкиного реверанса предположить с её стороны любое другое развитие события, кроме того, которое сам же для её блага и сочинил.
«Глянулся всё же ей наш мудлон, – обречённо подумал он, не особенно радуясь такому факту, но и не огорчаясь явно. – Теперь дело за этим уродом, чтоб ему пусто было».
И обратился к дочери. В это время они уже сидели за столом. Было налито и разложено.
– Ну что, Машунь, за нашего гостя? И за всех хороших людей?
Дюка, устроив своё маленькое тело на двух подложенных под махонькую попку думочках среднего размера, подняла фужер с ситро, улыбнулась хорошей улыбкой и произнесла со своей стороны, тоненько и весело:
– За всех, папочка! За них и за нас! – и посмотрела на гостя. – Да, Ваня? – и после стеснительной паузы добавила уже тише: – Вы согласны?
Вопрос этот, на ощупь сконструированный Дюкой, предполагал чуть более широкий смысл, нежели тот, в котором прозвучал. Это понимала сама она, это прекрасно прочувствовал и Гирш. Другой, закадровый, план не уловил лишь Иван. Но зато и он с готовностью протянул перед собой рюмку, громко чокнул ею по двум другим и простодушно угодил в невинно расставленную сеть:
– Да я всегда! – заулыбался он. – Не вопрос, кто ж откажется от такого дела!
И опрокинул в себя рюмочное содержимое. И снова была допущена непонятка с его стороны, что ужасно разозлило Гирша. Из слов Ивановых можно было понять, что приветствие его явно выражает согласие на взаимность с дочерью хозяина. Но это если бы тот был поумней. А так, скорей всего, слова эти просто обозначили солидарность и признательность в адрес хороших людей, о которых упомянула Маша.
«Чёрт бы его побрал, идиота, – подумал Гирш, – что же дальше-то будет, когда дозу свою примет?»
Однако опасения его были напрасны. После первой, и особенно третьей, рюмки и уже под нормальную горячую еду, когда первые две, пройдя в кровь, полноценно достигли капилляров, Мария начала нравиться Ивану всё больше и всё активней. Только сейчас он стал подмечать в хозяйке то, чего получасом раньше не разглядел. Тонкая вся, без лишней кривизны, как у других маленьких тёток, глаз добрый, улыбчивый, не злой. Лицом выглядит почти на свои года, а корпус недотягивает. Но всё остальное имеется, от низу до макушки, вполне себе ничего, только негабаритное.
«Главное, не порвать её такую... – подумал он неожиданно и подлил всем, каждому своего. – Остальное – решим, и не такое решали...»
Какое это было «такое» и в какие жизненные моменты – сразу не всплыло. Наверное, что-то про времена армейской службы. Потому что ничего другого интересного в Ивановой жизни, кроме этих памятных лет, пока не случилось. Он даже хотел одно время, собираясь на дембель, пересмотреть общую концепцию существования и труда, отдав себя армии навсегда. Но тяга к мирному жизнеустройству всё же перетянула собой военную перспективу, в которой хотя всё и было предельно понятно, но имелись ведь и свои минусы: кормили, может, и обильно, зато не аппетитно, без лишних калорий, и ещё не было никакой регулярности с бабами, всё спонтанно, а чаще просто совсем никак. И тогда служивых выручал лечебный бром в пузырьках и рассказы очевидцев вкупе с рукоприкладством.
Однако далее размышлять об этом было уже за пределом текущей необходимости, нужно было определяться с тем, что есть.
«Беру! – твёрдо подумал он про себя. – Беру и точка!»
Несколько иначе о совместном их будущем, но с похожим результатом думала, сидя напротив Ивана, сама Дюка Лунио.
«А он милый всё же, хотя и неуклюжий. И, кажется, немножко робеет. Аппетит отменный – значит, здоровье в порядке. В общем, надо попробовать, прав папа, от добра добро не ищут. И брать. А потом – влюбляться, явных противопоказаний нет. Сильный мужик, и видно, что одинокий. И не хам. И смотрит искренне, без лживого сочувствия к женщине в моём положении. Только бы не повредил он меня, не дай бог. И правда, как папа и говорил, просто богатырь какой-то сказочный...»
Гирш, минимально участвуя в разговорах и исподволь наблюдая за тем, как развивается застолье, не сомневался, что затея его провальной уже не станет, под какой бы уклон ни покатилась дальше беседа. Наоборот, результат зримо превосходил возможные ожидания. «Этот» сидел, раскрасневшийся и, кажется, немало довольный собой.
Квартира, в которую попал наш неприкаянный отец по чужой доброй воле, произвела на него впечатление, сравнимое разве с тем, какое было, когда ему, ещё мальчиком, сказали, что живое животное, запущенное Советским Союзом, летает в космосе в шарообразном спутнике Земли. Она тогда ему приснилась, то ли белка эта самая по имени Стрелка, то ли собака породы лайка по имени Белка, не помнит уже, лохматая, с закрученным колечком хвостом и человечьей мордой. Она ещё всё время жрала сосиски, одну за одной, без горчицы и без остановки, и смотрела вниз, на Ивана, через круглый иллюминатор. А Иван тогда взял да и приманил космическую тварь пальцем, совершенно не рассчитывая на успех. А та, не переставая убирать сосиски, взяла да и развернула шар с антеннами и со всей силы устремила его вниз, на Ивана, который от страха закрыл тогда, помнит, голову руками и не мог убежать, потому что ему судорогой свело ноги, к тому же они намертво вплавились в раскалённый асфальт. И поэтому космический животный спутник ударился об Ивана, со всего лёта, сверху вниз. И маленький Иван заорал от боли и страха, описался и проснулся. После этого сна, кстати, он и стал расти быстрей других ребят, а ноги его, в ступнях, не успевали за ростом всего остального и доросли только до 38-го размера, как у царя-батюшки Петра Первого.
Так вот. Когда уже подъели основное и стали пить чай с конфитюром, Ивана пробило на откровенность. Первая бутылка к тому моменту вся вышла, а от второй оставалось меньше половины. Взвесив последние за и против, Гандрабура, разогретый питьём, салатом, селёдочной шубой, горячими блюдами, богатым домом и сидевшей напротив него хорошенькой малявкой, отставил в сторону недопитую чашку чая с кроваво-красным петухом на боку и наваленным внутрь конфитюром, смахнул со скатерти крошки и сделал объявление:
– Григорий Наумыч и Мария! Хочу вам сообщить, что в вашей квартире мне очень нравится быть. И как гостю, и как в семье. Если к вам можно переехать, то я с полным удовольствием переселюсь. Как ваша Мария скажет. И как вы сами скажете. И буду честно жить, если вы так захотите. Мне, говорю сейчас прямо, больше знакомиться не нужно, я уже ознакомился. А вы мне просто скажите, что делать. И я это сделаю.
Он оторвал своё большое тело от стула, поднялся, окинул рассеянным взглядом жилплощадь и сел обратно, ожидая любого встречного слова от любого из Лунио. Григорий Наумович понимающе покачал головой и бросил тяжёлый, как бы прощальный, взгляд на дочь. Та намёк поняла и тоже встала, обращаясь к гостю.
– Дорогой Иван, я хочу сказать то, что наверняка хотел сказать и папа, но давайте лучше скажу я. Хорошо?
Иван важно и сосредоточенно кивнул, давая такое разрешение. Никогда ещё в его понятно устроенной жизни никто не интересовался Ивановым дозволением на что-либо вообще. Только на проходной. Но там он давал добро на вход и выход не по своей воле, а в силу служебного долга, хотя и не принимал никакой присяги, когда нанимался. Сейчас это было приятное чувство, и он успел ощутить его всем телом.
Тем временем Дюка, едва перекрывающая линией взгляда поверхность обеденного стола, закончила фразу:
– Мы рады тебе, Ваня, и поэтому хотим, чтобы ты жил в нашем доме вместе с нами. И мы верим, что всё у нас будет хорошо, не хуже, чем у других, если ты тоже не против такого подхода к совместной жизни. А время покажет, ошиблись мы или не ошиблись. – И снова забралась с ногами на стул и думки.
Гандрабура встал уже окончательно, отодвинув свой стул в сторону. И подытожил встречу вопросом:
– Так мне когда за вещами? Сейчас? Или как?
– Завтра, Иван, завтра, – с заметным усилием изобразив гостеприимство, Гирш тоже поднялся из-за стола. Получилось финально и напутственно. – После обеда приходи, мы всё тут подготовим пока. Перестановка кой-какая потребуется. – А сам подумал, что придётся срочно перетащить свою кровать в дочерину спальню, а то какая ж это получится у неё жизнь с двухметровым мужиком на детской кроватке. Или срочно оборудовать им другую, нестандартную, больше двух метров в длину. Не смог удержать в себе улыбки, выпустил-таки наружу, несмотря на настроение, похожее на похоронное. «Надо же, задачка – два противоположных нестандарта рядом теперь уместить потребуется». – И озвучил печальный для себя итог: – И заживёте. А там видно будет...
Теперь, когда история Лунио мало-помалу начала слепляться в снежный комок, размером с детский кулачок, чтобы со временем вырастить из себя объёмный снеговой шар, когда герои её чуть размялись и немного разговорились, пришло время притормозить, чтобы обернуться и откатить повествование назад, к тем временам, когда ленинградский подросток Гриша Гиршбаум ещё не ведал о том, что впоследствии станет Гиршем Лунио. Перед самой смертью он рассказал нам об этом, решив проставить точку в истории нашей фамилии. А история эта такова. Надеюсь ничего не упустить в попытке воспроизвести её с максимальной точностью. Итак, рассказывает Гирш, дед.
Глава 3
«Отец мой, Наум Евсеевич Гиршбаум, был довольно известный в городе ювелир. Женился он поздно и по первой любви, пришедшейся на его 60 и мамины 41. Так уж в нашей семье случилось. Брак их был первым для обоих. Мама, страдающая всю свою жизнь от врождённого порока сердца, сознательно не искала себе мужа, предпочтя безбрачие. И на то были свои причины: она безгранично любила детей и всегда хотела ребёнка, однако знала, что стать матерью ей не позволит сама природа, роды, скорее всего, её убьют. По крайней мере, так пугали врачи, страхуя и себя, и маму от нежелательных последствий. И чем взрослее становилась ваша прабабушка, тем больше возрастала опасность материнства, о котором она не переставала мечтать. Другое дело, что, родившись однолюбкой, она так и не сумела встретить своего единственного мужчину, ради которого решилась бы на гибельный риск. Такое обстоятельство некоторым образом скрадывало неосуществимость мечты, но полного утешения, как вы понимаете, не приносило.
Так длилось, повторю, до её сорока одного, когда вместе с последними женскими годами безвозвратно истаивали и последние надежды на чудо. Которое не замедлило в том же самом одна тысяча девятьсот двадцать пятом году объявиться в лице моего отца, Наума Евсеича, поразительно схожего с мамой своим клиническим однолюбством.
В тот самый обычный день она пришла к нему заказать простенькое колечко с недорогим камнем для взрослеющей племянницы, а получила и колечко, и ювелира. Они просто насмерть вцепились друг в друга. И понеслось. Он задарил её ювелирными презентами, и она была без ума и от папы, и от его рукодельных талантов, и от остальных его многочисленных мужских добродетелей и достоинств. И потому, откинув все страхи и ненужные разговоры, наплевав на возраст и чужие тревоги по поводу возможной смерти, мама зачала меня в первую же неделю их знакомства – прямо в закутке при мастерской, не дожидаясь официальных церемоний: она ведь и так прождала его всю свою жизнь и не хотела более медлить. Оба они это знали. И обоим им было всё равно – что будет потом и что скажут люди.
В отличие от моего отца прабабушка ваша знала, на что шла: боялась, что он не даст ей осуществить главную её мечту – моё появление на свет. Но поделиться этим с папой не сочла возможным из-за боязни быть остановленной им же в самой главной своей мечте – в моём появлении на свет.
Мамины родные узнали о том, что она ждёт ребёнка, уже слишком поздно, чтобы вмешаться. Да и кто бы им дал это сделать. Поезд ушёл, гудок прогудел, разогретая до предела паровая машина уже вовсю молотила всеми поршнями и шатунами, набирая обороты. Саму же маму со временем неясные перспективы относительно протекания родов перестали волновать совсем. Счастье её было слишком огромно, «если даже не излишне», шутила она, часами наблюдая за тем, как творит папа. Как на её глазах рождается чудо за чудом, как податливо плавится разогретое до тягучести серебро, как причудливо вытягивается из него тонкая, мягким светом поблёскивающая нить, как узорчато укладывается она в неожиданный завиток и как он тут же затвердевает, обретая форму уже бессрочной красоты. И как потом они вырастают ещё и ещё, эти замирающие на глазах локоны, витки, шарики, букли и змейки и уже гнездятся совсем рядом, один к другому, обнимая камень со всех его сторон, одевая его в себя, обволакивая своим неповторимым плетеньем, тайна которого была известна только одному человеку на свете. А ещё она любила следить за тем, как чернится под огнём металлический скелет этого чуда, как шипит он в кислоте, готовя себя к новой жизни, как наливается светом, ярким и вечным, от которого больно глазу и блаженно сердцу...
А умерла ваша прабабушка не на операционном столе, вопреки ожиданиям врачей, безуспешно сражавшихся за её жизнь в момент, когда я появлялся на свет. Немногим позже, сразу после второй операции, почти без перерыва продолжившей первую (теперь уже на открытом сердце, для чего пришлось срочно менять бригаду хирургов и операционную), сквозь предсмертную муть она успела посмотреть на меня долгим запоминающим взглядом, насколько хватило её слабых сил после того, как она очнулась от наркоза. Меня принесли в реанимационную палату и приблизили к её умирающему лицу – так, на всякий случай, не будучи уверены в том, что успеют.
Ещё через час мама умерла, успев остатками покидающего её утекающего сознания порадоваться, что оставляет папе сына. Меня. Так думалось палатной сестре, которая поведала о том моему отцу. Так ей показалось. Или же она просто хотела таким простодушным приёмом ослабить, насколько получится, отцово горе.
Все заботы обо мне с того дня легли на папу. Стоит ли говорить о том, что ваша прабабушка стала последней в его жизни женщиной. Когда её не стало, что-то внутри у него остановилось. Перестало бесперебойно тукать и заводиться. Затормозился привычный ход вещей. Коротким оказалось счастье, меньше года продлилось. А несчастья принесло с собой не меньше, чем было само. Правда, остался я, как часть мамы, её образа, так и не успевшего дополна насытить собой папину память. Я виновник и жертва в одном лице, сын матери, которую так никогда и не увидел, если не считать того размытого, кратковременного и перевёрнутого изображения в белом цвете, которое было моей умирающей мамой.
Когда мне было шесть, шёл тридцать второй год. Они пришли и сказали, что надо делиться. Так и заявили, прямо с порога, чтобы не было времени соображать. Двое в коже и один в пиджаке. Все из ОГПу. Не орали и не ругались. И даже не попросили увести ребёнка, то есть меня. Предъявили заготовленный акт об изъятии излишков материальных ценностей, жертвуемых гражданином Н.Е. Гиршбаумом на благо индустриализации советской родины для скорейшего и победного построения социализма в Советском Союзе. Фабрики строить надо? Надо. Заводы? Еще как надо! Голодные есть еще советские люди? Нет в основном, но поддержка необходима для экономики, чтобы и не было их никогда, голодающих.
И добавили, тот из них, который был в пиджаке, тоже не давая ответить:
– А вы, наверное, гражданин Гиршбаум, жируете тут на вашем золотишке неучтённом? Камушки разные... то-сё в придачу. Лучше сами накопленное от народа сдайте, не вынуждайте нас силовую власть применять.
И повторно предложили добровольную сдачу. Знали, что у ювелира не может не быть. Тем более у такого известного, запись к которому за год и больше.
– У меня весь материал заказчика, – спокойно попытался обрисовать ситуацию Наум Евсеевич, не испугавшись незваных гостей. – Я имею заработок только как мастер. И плачу патент.
После смерти мамы он вообще мало чего боялся. Только за меня. Всё остальное перестало для него существовать. Работал по-прежнему, держа качество изделий, но душу не вкладывал, не мог, перестал, ушла душа, утекла вместе с мамой. Так он мне говорил.
– Забирайте, что сочтёте нужным, только знайте, что забираете чужое. Из моего здесь только инструменты, оптика и стул.
Трое разбираться не стали. Выгребли и описали, что нашли. Всё и на самом деле было чужим, кроме мелочовки. Потом вывели нас с отцом во двор, посадили в «Опель» и повезли к нам домой. Там дочистили остальное, уже своё, домашнее: несколько николаевских червонцев и пятнарей, три советских золотых червонца выпуска 23-го года, остаток торгсиновских долларов, с полкило весового серебра в мелких монетах, ну и прочее разное. Слава богу, не заметили маминого кольца, того самого, что папа подарил, с камнем на трёх металлах, самое изумительное из всего, что сделал. Не нашли, потому что на видном месте лежало, неприбранное. Туда они сглупу не заглянули. А папа и не убирал далеко, потому что часто в руки его брал, пальцем в задумчивости тёр, к лицу подносил, щеки своей касался, потом смотрел долго, словно маму через это кольцо оживлял. Так он её вспоминал. Одним словом, выкормыши эти, что от лукавого пришли, драгоценность семейную упустили. И до слитка – тоже не добрались.
– А то бы худо было нам совсем, Гришенька, – сказал мне тогда папа. – Там бы изъятием одним не обошлось.
А Сталина, погань эту, ненавидел с первого дня, как того поставили на власть. Верней, когда тот сам её взял, обойдя других. Зверя, говорит, чую в нём. Это ведь он Владимира Ильича в гроб загнал, и никто другой. Был бы Владимир Ильич живой и здоровый, никто бы к нам в дом так нагло не заявился, никто бы на память мамину покушаться не посмел, так и запомни, сынок. И ладно ещё, «золотуху» учинил! Голодомор тоже от его личного умысла идёт, от преступного – что Поволжье всё уморил, что Украину, убийца.
Эти слова он адресовал больше себе, чем мне, но я был всегда под рукой, при нём, потому что жил без матери. А в те годы уже и без прислуги. И все отцовские откровения как бы обращены были ко мне. Ему тогда уже было шестьдесят семь или около того. Забывался. И не думал, само собой, что пойму что-то из его слов и запомню. А я слова его не забыл. А потом, через время уже, и осмыслил к тому же. Всё, о чём и что он говорил.
– Пойми, Гришенька, Ленин умер, но идеи остались. Сталин сдохнет, а Владимир Ильич будет жить вечно. НЭП, свободный и справедливый труд – его придумка, а не зверя этого. Жаль, что довести не смог, не успел. Этот гад его кончил, обошёл, обдурил, в болезнь загнал неизлечимую...
Но и потом, после экзекуции этой, нужно было жить дальше, а значит, работать. С обделёнными невольно заказчиками отец спорить и ругаться не стал, отдал им всё, что изъяли, из личных ресурсов. Плюс остаток долга каждому добивал потом работой. Те бы сами, возможно, и не спросили о возврате, знали, что не обманывает Григорий Наумович Гиршбаум, не та репутация у старика, чтобы на чужом горе наживать себе избыток. Да многие и сами пострадали немало, по схожему сценарию. Но они-то, в отличие от отца, были состоятельными по-настоящему. Бывшие нэпманы, к примеру, успевшие на этой самой политике славно разбогатеть, известные врачи, успешные адвокаты, люди творческих профессий, включая знаменитостей. А также разное подозрительное начальство, связанное в основном со снабжением кого-нибудь чем-нибудь.
То обстоятельство, что долг его мог быть и прощён, роли для отца не сыграло. Человек чести и слова, что тут говорить. Отдал и отработал всё до копейки.
После этого проклятого тридцать второго жить нам с папой стало трудней. Богатеи попрятались, заказы помельчали. Так разве что цепочку порванную пропаять, колечко невестино растянуть, ушко на кулончик приладить, защёлку под медальон подправить. И прочее.
А году в тридцать восьмом, кажется, пришёл к папе человек один, чин из НКВД, из Германии вернулся только, после долгой там работы на нелегальном положении – так я потом про него догадался. Худющий сам, но видно, что не от нездоровья, а по комплекции своей, по сложению. Заказ для жены делал – как оказалось, прощальный. Пьяный был сам, после ресторана. Нет, скорее, просто не до конца трезвый. Чувствовал уже, наверное, что по следу его идут, со свободой прощался. Он и сказал отцу, по секрету, потому что знал его давно и уважал. Сказал, будет, мол, война с Германией, Григорий Наумович, как пить дать, будет. Не может не быть. Два года, самое большее – три, и пойдёт немец на нас; сначала Европу положит, и та ляжет под него, как швед лёг под Полтавой, а после за Советский Союз возьмётся. И завоюет, в первый же год, сразу, зуб готов отдать вам свой золотой, многоуважаемый наш ювелир. А вина будет лично на усатом негодяе, на преступнике. Не найдётся у нас силы такой, чтобы Гитлера одолеть, нет у нас её просто, Григорий Наумович, неоткуда ей взяться. А одним народом не повоюешь, одним его желанием силу немецкую и порядок их не победишь, уж я-то знаю, видел.
Отец тогда вроде как и не услышал про это дело, про придуманную этим начальственным заказчиком войну с немцем. Усмехнулся себе в усики, руку тому чину пожал на прощанье, обещал с заказом не опоздать. Только всё равно опоздать пришлось. Расстреляли заказчика папиного в том же месяце. В газетах писали, что германским шпионом был. Или японским, не помню. Главное, что когда отец, не дождавшись, пока заберут, сам уже к ним домой работу готовую понёс, то дверь у них была заперта и никто не отзывался. Так и остался заказ лежать нетронут. Отец его не хотел никуда пускать, ни на реализацию, ни на материал обратно. Такой уж он был, кристальной совести человек.
Я тогда в школе учился, кажется, в седьмой класс перешёл. А папа стал болеть. Сердцем. И астмой. Задыхался. Они между собой как-то связаны оказались, два эти недомогания, доктор потом говорил. И папа уже почти совсем не работал, мы на пенсию его жили и на ранее отложенное. Иногда только для особенных каких-нибудь старых клиентов что-то делал он, для проверенных, и если только интересное что, как память о профессии своей любимой, о ремесле.
А совсем плохо ему стало ранней весной сорок первого. Война в Европе уже вовсю шла тогда, хотя для нас ещё не началась, но папа уже всё заранее обдумал насчёт того, что чин из органов ему тогда перед своим арестом рассказал без утайки. Помню, в тот день отец в кабинете лежал у себя, на диване и подозвал меня к себе, поближе. Уже плохо говорил, тихо, трудно было воздух лёгкими выталкивать. Сказал: я тебе сейчас буду говорить, а ты записывай. А ещё лучше и запись делай, и запоминай, сыночек.
Я ему принёс все его тетрадки старые, блокноты и другие бумаги. Он листал, вглядывался и говорил, что писать. Я и писал. В основном это были адреса, имена, должности и телефоны разных людей, богатых и тех, кто при власти. Как их звать. И жён, если знал, или мужей, наоборот. Родню тоже, прочую. Короче, всех, кто за долгую жизнь клиентами его числился и у кого деньги были и хорошее имущество. Все наши, городские, ленинградские. Когда перебрал всех, кто был, сказал:
– Это адреса и люди, куда ты можешь потом пойти, Гриша. Чтобы выжить.