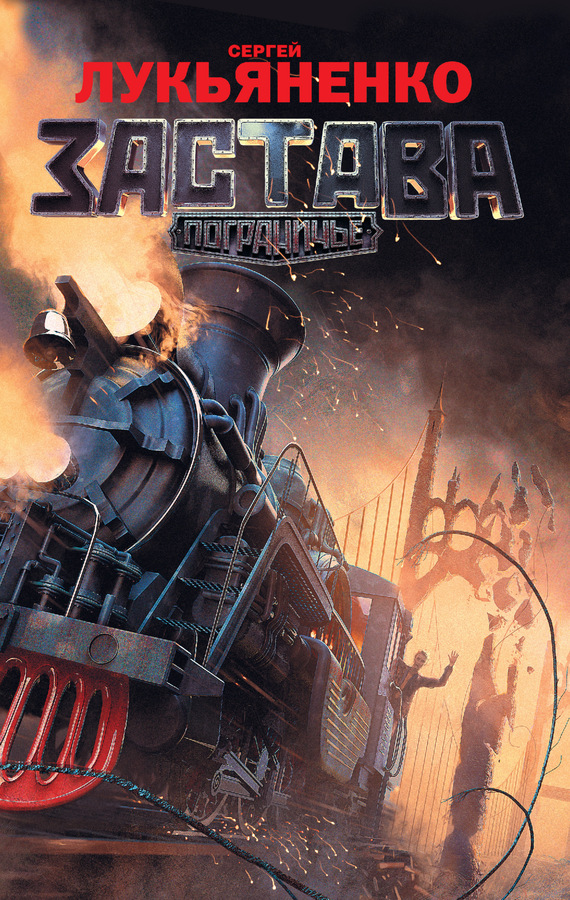Детство 45-53: а завтра будет счастье Улицкая Людмила

Шли по абсолютно оранжевой дороге. Мандарины! Их не ели, а просто выдавливали сок, остальное выплевывали. Это была единственная еда.
А потом всё очень просто. Приказ Сталина «Ни шагу назад!». Загранотряды.
С одной стороны – немцы, с другой – внутренние войска.
Папа всегда говорил, что выжил по глупости, по случайности и потому, что его, совсем юнца, жалели старшие.
Все свои медали он подарил внуку, и среди них есть его первая – «За оборону Кавказа». Провоевал до самого конца войны. И никогда после не ел мандарины.
Екатерина Терешкевич
Про колбасу, пельмени и мандарины
У каждого ребенка в Загорске была мечта – попасть на елку в Кремль. И почти у каждого была иллюзия, что если попадешь в Кремль, то обязательно увидишь Сталина. Я тоже очень мечтала об этом: Кремль, красные звезды и Сталин! И однажды моя мечта чудесным образом сбылась. В организации кремлевских елок работала папина племянница, она-то меня туда и провела.
Всё было огромным! И Георгиевский зал, и красивый ковер, и величественная елка… Там я впервые увидела «настоящих» Деда Мороза и Снегурочку. Все маленькие дети рассаживались прямо на полу, на этих прекрасных коврах. Там выдавали подарки с прекрасными конфетами! Подарки были в железных коробочках, которые хранились потом много-много лет. В общем, апофеоз детских мечтаний. Правда, Сталина на той елке я так и не увидела, но впечатлений было столько, что меня это и не расстроило.
…Игрушки на Новый год нам не дарили, только конфеты и мандарины. Причем купить мандарины в Загорске было невозможно, за ними ездили в Москву. Из столицы везли докторскую колбасу, останкинские пельмени и мандарины. Это было всё самое вкусное, что лишь можно представить! Колбасы покупали по несколько огромных батонов, поэтому в то время ходил анекдот: «Что такое: длинное, зеленое, пахнет колбасой? Электричка!»
Родители приезжали из Москвы, сразу же варили пельмени – мы их обожали! Могли съесть в огромном количестве! И обязательно делали бутерброды с докторской колбасой и свежим хлебом. А мандарины можно было таскать со стола и прятать под подушку. Поэтому сначала я ела мандарины «официально», вместе со всеми, потом втихомолку днем, а потом еще ночью – под подушкой. В итоге я так наелась мандаринами, что у меня началось отравление – всю ночь рвало! Но от этого любить мандарины я меньше не стала.
Василий Омельченко
Первые конфеты
Вряд ли кто из нынешних ребят может хотя бы приблизительно вспомнить, когда впервые в жизни ел конфеты. Какие они были на вкус, на цвет и как назывались. Сейчас конфеты суют даже беззубым малышам, и тем почти все равно, что у них во рту: конфеты или соска.
А я свои первые конфеты хорошо помню. Потому что, когда впервые попробовал их, не ел, а именно попробовал, мне было уже немало лет – целых шесть, по нынешним временам – школьник!
Было это в 1946 году. Я называю дату потому, чтобы легче было понять, почему свои первые конфеты я попробовал так поздно: родился накануне самой войны с фашистами, а в войну какие конфеты… Да и после войны время было очень трудное: все разрушено, а тут еще неурожай… Если б хоть отец был, но отец мой погиб на фронте. Мать работала одна. На турбинном заводе. Уборщицей. Вечерами подрабатывала в станционных буфетах, полы мыла. За это ей давали несколько пирожков с мясом или горсточку конфет. Пирожки она отдавала нам, детям: нас было трое, я – самый младший. А конфеты чаще даже не показывала нам, считала, что это не еда, и, как только принесет, прячет в тумбочку, а тумбочку на замок, а ключ себе в карман. Когда собиралось конфет десятка два-три, мать носила их на базар к проходной завода, чтобы на вырученные деньги купить еды посущественней: хлеба, молока, картошки. И вот однажды это дело доверила мне: мать заболела, братья были в школе, а денег на хлеб не было.
Опыт торговли я уже имел. Как-то я носил на базар продавать мыло. Мама тоже болела и денег на хлеб у нас тоже не было. Провожая на базар, напутствовала: «Проси пятьдесят рублей, если будут торговаться – соглашайся за сорок, ну, а окончательно можешь отдать и за тридцать». Только я достал кусочек мыла, меня сразу обступили. Сколько, спрашивает одна женщина, просишь за этот смылочек. Я сказал, что это, во-первых, не смылочек, а мыло, и мы только раз умывались. Потом сказал, что прошу пятьдесят… Если будете торговаться – за сорок, а окончательно отдам за тридцать. Сунула она мне тридцатку, взяла мыло и была такова. И я тоже пошел, довольный собой. Правда, кто-то бросил мне вслед: ну и дурачок… Только потом, дома, я понял почему.
Словом, опыт торговли у меня уже был, поэтому мама и доверила мне продать конфеты.
– Рубль пара, – сказала она, – дешевле не отдавай, конфеты очень хорошие, лимонные дольки, запомнил?
– Запомнил, – сказал я, поедая глазами конфеты, которые мать аккуратно доставала из тумбочки.
– Только ж смотри, ни одну не съешь по дороге… и деньги не потеряй!
– Не съем, не потеряю…
Я во все глаза смотрел на конфеты. Какие красивые, солнечные такие, веселые. Наверно, очень вкусные. Мать нашла старую дощечку от посылки, застелила ее газеткой, ровненько разложила в два ряда конфеты, один ряд желтой стороной кверху, другой – зеленой. В каждую конфету ткнула пальцем.
– Ровно двадцать, – сказала, – как раз на десятку.
Я согласно кивнул. Осторожно взял дощечку с конфетами, вышел на улицу.
Иду, несу их перед собой, как хрусталь, боюсь споткнуться и стараюсь не смотреть на них, а конфеты мои глаза как магнитом притягивают: уж больно красивые они, а пахнут… Я оглянулся назад, поднес дощечку с конфетами ближе к носу – всю жизнь бы дышал таким запахом! Потрогал одну конфету – твердая. И другая твердая. Все, стало быть, твердые.
Опять оглянулся: мама в окно не смотрит. А что, если… чуть-чуть попробовать, только одну конфету, только одну и чуть-чуть… Как у нас пацаны говорят, когда пряник или печенье вдруг кто-нибудь вынесет: на, пробуй, только не кусай…
Кусать, понятно, я не собирался, материн наказ для меня – закон. А если лизнуть… она твердая, эта лимонная долька, как камешек. Еще раз оглянулся на дом – мать не смотрит. Пошел медленней. Не глядя на дощечку, нащупал одну конфету – твердая… Осторожно поднес ко рту, язык ее сам – раз и за щеку. Я даже не понял, как это получилось. И в тот же миг во рту разлился такой вкус, сразу сладкий и чуть кисленький, но больше сладкий, такой вкус, что у меня аж под ушами закололо – никогда в жизни я ничего не пробовал вкуснее. Я испугался, что конфета растает, и тут же положил ее на место.
Завод был недалеко. Я шел, счастливый, что попробовал конфету, знаю теперь, какие они на вкус, и думал о том, что я очень хитрый. Думая так, я нащупал на дощечке другую конфету, глянул по сторонам и отправил ее за щеку, так незаметно я это сделал, будто муху от лица отогнал. И снова блаженствовал.
Хитрым, наверно, бывает каждый. Один больше, другой меньше. Одним удается это, другим – нет. Мне – не очень удается, вечно я попадусь. Как-то еще при немцах ходили с матерью в деревню на менку. Вещи меняли на кукурузу. Чтоб потом кашу варить. Ночевали у одной бабушки. У нее был петух, один-единственный. Дело было зимой. Утром я открываю в сени дверь, а за мной петух выскочил, точнее, хотел выскочить, а я его нечаянно дверью прижал, да так, что он больше и не поднялся.
Понятно, перепугался я насмерть. И петуха жалко. И попадет же мне теперь! Схватил бедолагу и бегом к колодцу. Там ледяная горка от воды образовалась. Положил я его на лед: скажу, что выбежал петух на улицу, бежал, бежал, добежал до колодца, а тут поскользнулся на льду и голову себе разбил. Так я потом и сказал бабушке, когда она спросила меня про петуха. Выслушав, она как-то интересно посмотрела на меня, словно приглядываясь, я это или не я, покивала головой, вздохнула и в сердцах проговорила:
– Чтоб тебя, пострел, дождик намочил!
Теперь, когда, случается, меня мочит дождь, я знаю, за что он меня мочит, и не сержусь на него.
Пока я вспоминал этот случай, незаметно для себя я перепробовал все конфеты, и в этот момент не было, наверно, мальчишки счастливее меня.
Сияя от радости, я подошел к заводу, где у проходной уже собрался базарчик. Я пристроился в рядок к женщинам, которые разложили перед собой кучки огурцов, картофеля, пучки лука. Сипло и настойчиво баском запел гудок, и вскоре из проходной повалил рабочий люд: женщины, подростки, старики. Все худые-прехудые. Вышли и несколько мужчин. Деньги из карманов достают, торгуются, покупают. А ко мне подойдут, глянут на дощечку и дальше себе идут. Конечно, конфеты не еда… Но все равно кто-нибудь купит, успокаивал я себя, мать же всегда продает…
Из проходной уже вышли все рабочие. Базарчик быстро редел, женщины-торговки расходились. А ко мне по-прежнему никто не подходил. Вернее, подойдут, глянут и дальше идут. Я уже совсем забеспокоился: неужто никто не купит? Посмотрел на конфеты, а они, бедные, уже сами на себя не похожи: светленькие лепестки, а не конфеты лимонные дольки… Кто купит такие? Только теперь я пожалел, что все их перепробовал… лучше б одну съел и потом признался б матери. Зато все продал бы, кроме одной. Эх, как иногда бывает… сделаешь что-то, а потом жалеешь, локоть себе кусаешь… Ну зачем я их пробовал, эти конфеты? Как теперь идти домой? Что матери сказать? Какой же я дурак…
Слезы сами навернулись на глаза. Проходная завода помутнела, посмотрел на конфеты, через слезы они казались большими, чем были на самом деле. Вот так схитрил… Как же теперь быть? Мать отдерет как сидорову козу… И денег на хлеб не будет. Если бы я сейчас только выходил из дому, ни за что бы не притронулся к этим конфетам, продал бы все до одной и деньги бы принес до копейки.
Я уже стоял один у проходной завода, с дощечкой с конфетами, потерявшими свой былой вид, и несчастнее меня, наверное, не было на всем белом свете. И тут подходит ко мне, прихрамывая, еще один рабочий, в замасленной фуфайке, воротничок гимнастерки выглядывает, лицо в пороховинках, будто на лице иголки для наколки пробовал, снаряд, наверно, разорвался перед ним или мина. Подходит, одна нога у него скрип-скрип, на протезе, значит. Посмотрел на меня, на конфеты. Протянул руку к моей голове, я подумал, за ухо возьмет – может, он видел, как я пробовал конфеты… И я уже вобрал голову в плечи, еще мгновенье – и дал бы деру, но он не взял меня за ухо, а вдруг потрепал по плечу и незло так спрашивает:
– Что это у тебя, парень?
– Конфеты, – говорю, – лимонные дольки.
Кашлянул он, поинтересовался, где взял и где мать, отец. Я всё рассказал как есть.
Постоял рядом. Повздыхал. Спросил:
– Почем же они, твои лимонные дольки?
– Рупь пара, – ответил я поспешно, как и наставляла мать. И замер в ожидании: неужто купит?
– Сколько у тебя их тут? А ну, давай вместе сосчитаем.
Сколько их, было хорошо видно, что там считать, но мне показалось, что он хочет проверить, как я умею считать. И большим пальцем с сизым ногтем – наверное, как я однажды, молотком по нему угодил – принялся считать тонкие, как листики, лимонные дольки, а вернее то, что осталось от них:
– Пять, шесть… двенадцать, тринадцать… два десятка, значит.
– Два, – с готовностью подтвердил я.
– Вкусные? – спросил он лукаво.
– Очень, – торопливо заверил я. И мне показалось, что он видел, как я пробовал конфеты.
Неспешно он полез в боковой карман фуфайки, вынул деньги, отсчитал сколько надо, подает мне:
– Держи, парень, и домой бегом к матери!
Не веря своим глазам, я взял деньги и протянул ему взамен дощечку с конфетами, но он снова потрепал меня по плечу:
– А конфеты сам съешь!
Я вовсе опешил.
– Да что вы, дяденька?!.
Он улыбнулся.
– Вырастешь, заработаешь и угостишь меня как-нибудь, – сказал он, подмигнул мне как своему старому знакомому и, сильно припадая на поскрипывающую ногу, быстро зашагал к проходной завода. А я – бегом домой. Деньги отдал матери, все до копейки. Конфеты поделил с братьями.
…Никто ничего не делил. Никаких денег матери я не отдал. Потому что никто тогда ко мне не подошел. Ничего не спросил. Никаких денег мне не дал. Это я придумал… Мне так хотелось, чтоб кто-то тогда ко мне подошел. Потрепал по плечу…
Еще с полчаса простояв у проходной завода, сгорбившись, я побрел домой.
Когда мать всё узнала, когда увидала опробованные мной конфеты, она задала мне такую нещадную трепку, что я запомнил ее на всю жизнь. Как и те первые свои конфеты.
Потом, правда, конфеты мать отдала нам.
– Ешьте, куда их теперь…
Съели, конечно. Только вкус теперь у конфет был иной, под ушами, как тогда, от удовольствия не кололо – кололо в сердце…
Пили…
Почему в России так много пьют? Ответ на этот вопрос не может дать ни статистика, ни социология. Однако если исходить из цифр, Россия не удостоилась даже бронзы во всемирном состязании по потреблению алкоголя – мы занимаем всего лишь четвертое место, пропустив впереди себя Молдавию, Чехию и Венгрию. Правда, не учитывается самогон, стеклоочиститель и прочие спиртосодержащие жидкости, не предполагающие их потребление внутрь! Но, несмотря на столь скромное место в мировом потреблении, именно русское пьянство вошло в культурную мифологию. Страны южные, где издавна культивируют виноградную лозу, пьют вино – пьют его давно, усердно, повседневно, ежевечерне, цедят по глоточку, наслаждаются букетом. Южное пьянство, таким образом, оказывается «мягким». Более того, даже считают, что вино полезно для здоровья. Чехия и Венгрия потребляют пиво – в огромных количествах. Но ни в одной из этих «передовых» стран алкоголизм не превратился в национальное бедствие, как в нашей стране. Северные страны пьют водку – «залпом», большими дозами, сморщившись и крякнув. Пьют от холода, от тоски, от усталости, от горя и от радости. Это пьянство северное. Наш отечественный фасон. Незабвенный Виктор Черномырдин оставил замечательный афоризм «Вино нам нужно для здоровья, а здоровье – чтобы пить водку».
В России послевоенной пили, судя по статистике, как всегда – не больше и не меньше. Только жизнь была более обнаженной – всё на виду. Картинки пьянства остались в памяти.
Одно только горькое замечание: сегодня от пьянства умирает гораздо больше мужчин молодого и среднего возраста…
Борис Иванов
Киселёв и гитара
1947 год. Моя семья – а это всего лишь я, восьмилетний малолетка, и затюканная работой мать – обитала на самой-самой окраине небольшого шахтерского городка Прокопьевска в Кузбассе, в поселке Южный на улице Павлоградской. Дальше поселка была только цепь обвалов, образующихся после того, как из недр земли выдадут «на-гора» необходимый стране уголь. В залитых водой обвалах мы купались – и у каждой пацанской компании был свой личный обвал. В сухих – играли в футбол. Мячом поначалу была какая-то старая шапка, потом обшитая оболочкой куча тряпок, и наконец, по мере роста мастерства, общими усилиями был куплен мяч. Ах, какой был замечательный мяч! Сначала его по очереди надували ртом, аж приседая от натуги, потом завязывали плотно пипку, прятали ее под шершавую оболочку и шнуровали сыромятным шнурком. Наш мяч был предметом зависти соседских улиц, и иногда мы даже снисходительно приглашали соседей на игру в свой обвал. Другим захватывающим делом было взрывание капсюлей. Мы добывали их на терриконах, куда по канатной дороге вагонетки вывозили из шахты породу и наверху ее вываливали. В этой породе и попадались невзорвавшиеся капсюли. На дне обвала мы разжигали костер, бросали туда капсюль и стремительно мчались в укрытие. Несколько секунд – и взрыв! Особо ценился медный капсюль – его взрыв напрочь разметывал костер.
Улица Павлоградская состояла из двух десятков частных домиков с непременными огородами и двух оштукатуренных бараков о двух этажах. В каждом бараке обитало по два десятка семей. На всех насчитывалось человек тридцать пацанвы разного возраста (кстати, в ходу у нас было слово не «пацаны», а «огольцы») и не более десятка взрослых мужиков. Главы семейств были существами суровыми и загадочными, мы их видели редко и слегка побаивались. На работу они уходили, когда мы еще спали. Обычно в 5 утра расположенная рядом шахта давала первый гудок – это чтобы рабочий люд проснулся и готовился к трудовым подвигам. В 6 часов второй гудок – все, выходи из дома!
В мирной жизни улицы дважды в месяц были дни тревоги и беспокойного ожидания. Это были дни «аванса» и «получки». Уже с середины дня матери семейств становились озабоченными и сердитыми, нещадно раздавая ребятне подзатыльники. А часам к 7–8 вечера начинали тревожно вглядываться в начало улицы – надеялись издали углядеть, в каком состоянии появится «мой». Главное было не в том, что появится «выпимши», – это дело законное, привычное и неискоренимое. Главное, чтобы шел все-таки на своих двоих и не пропил бы всю получку. Обычно отцы семейств являлись домой под хорошим хмельком, но добрые и веселые, со всеми здоровались, раздавали угощенье. Именно в эти дни безотцовщина судорожно сглатывала слюну, толкалась неподалеку, ожидая, когда из подъезда появится счастливец с сытыми глазами и отцовскими подарками в карманах.
В один из таких дней мой погодок Генка Киселев, ожидая отца в куче огольцов, выбрал момент тишины и солидно произнес, глядя куда-то в сторону:
– А мне батя обещал гитару купить, – замолк, ожидая реакции.
Мгновенно установилась тишина и мы все уставились на Генку. Гитара? Да быть такого не может! На всей наей Павлоградской улице было лишь два музыкальных инструмента – две старенькие балалайки. А тут вдруг – гитара! Для Генки!
– Врешь ты, Генка! Быть того не может! – был единодушный вердикт. Генка, видно, и сам сомневался, не верил, он лишь насупился и не спорил.
День получки заканчивался. То одна, то другая мамаша, углядев «своего», торопилась подхватить его и утащить в недра барака. Если тишина в квартире сохранялась – значит, все в порядке, получка сохранена и теперь надежно припрятана. «Сам» же, лихо выбив ладонью пробку из принесенной «чекушки» и приняв внутрь ее содержимое, мирно уснул до утра.
И вот в начале улицы показался Киселев. Приветливый, добродушный, разговорчивый – и в руках его действительно была гитара! Блестящая, новенькая, с шикарным бантом на грифе! Не гитара, а мечта, такой не было не только на нашей Павлоградской улице, но, наверное, и во всем поселке! Генка стремглав бросился к отцу, они прошли мимо, при этом Генка бросал на нас горделивые взгляды: «Я же говорил, говорил! А вы-ы…»
Киселевы и гитара скрылись в темном зеве подъезда. Разойтись мы, конечно, не могли, тут же возник жаркий спор о достоинствах Генкиной гитары. Мы с нетерпением ждали: через час ли, через два, но Генка обязательно появится с инструментом, может быть, даже даст кому-нибудь подержать в руках это чудо, подергать новенькие струны!
По летнему времени окна во многих квартирах распахнуты. Открыты они и у Генки. И вот оттуда через какое-то время стали доноситься голоса – самого Киселева и его жены, Киселихи по-уличному. Преобладал, конечно, голос Киселихи. Он то спадал, то повышался до крика. Изредка слышалось глухое «бу-бу-бу» Киселева. Явно назревал скандал. Потом, как перед грозой, небольшое затишье, и все взорвалось пронзительным криком «И-и-и… Убиваю-ю-т!», и из подъезда вихрем вылетела Киселиха. За ней гнался Киселев. Всклокоченный, с гитарой в руке, он пытался схватить жену то за развевающиеся волосы, то за одежду. Он не дотягивался чуть-чуть, еще три-четыре шага – и догонит, схватит, и тут уж ей не поздоровится! Но внезапно Киселев споткнулся и со всего маху грохнулся на дорогу. Взвилось облачко пыли. А Киселиха, не переставая заполошно кричать свое «а-а-а…», вихрем пронеслась мимо нас и скрылась за углом дома.
Киселев полежал на дороге, потом сел, потом медленно поднялся и побрел к подъезду. Внезапно он остановился, поднял гитару и изо всех сил хряснул ею по перилам крыльца. Гитара жалобно пискнула, веером брызнули блестящие щепки. Киселев отшвырнул оставшийся в руках гриф и скрылся в подъезде. Несколько секунд на улице стояла полная тишина. Потом женские головы в окнах исчезли, мы – огольцы – занялись игрой в «ножички», всполошившиеся было куры вновь озабоченно стали рыться в пыли.
Так и осталась улица Павлоградская без гитары, лишь при двух старых балалайках…
Валентина Никитина
Безысходность
Для меня первый год после смерти папы был годом разгула. Я в третьем классе, взрослая, самостоятельная. Не надо никого слушаться, в школе можно уйти с урока через окно, не готовить домашнее задание и вообще не клянчить (как другие) у Веры Владимировны сумку с учебниками и тетрадями, которую она отбирала у нас, отправляя за родителями. Можно безудержно хвастаться хорошей, сытной, просто замечательной домашней жизнью, потихоньку сглатывая голодную слюну при виде кусочка хлеба в руке своих товарищей. Была свобода от всех обязанностей: от выполнения школьных правил поведения, от домашней уборки – а что убирать, если в доме ничего нет. Ни-че-го. Столи две кровати с досками вместо сетки, сухие веничи (стебли трав) вместо матраца и рядюшка, чтоб от холода накрыться ночью. Холодная плита, на которой ничего не варится. Нас дважды за этот год обокрали свои же сельские родичи и соседи. Мама, неграмотная безработная с тремя малолетками на руках, от горькой безысходности нашла единственный выход. Она запила.
А началось это так. Зашла к нам в гости соседка. Все ее звали баба Домка, говорили, что их семья богатая. Дочка Катя работает на мясокомбинате, мясо едят они каждый день. Я не верила этим россказням. Как можно мясо есть каждый день? Мясо едят по праздникам, а их каждый день не назначают. Но в тот день баба Домка нам устроила праздник. Тяжело переваливаясь на кривых ревматических ногах, она опустилась на табурет возле импровизированного стола, покрытого вместо скатерти какой-то то ли серой бумагой, то ли старыми газетами, долго, подслеповато прищурившись, осматривала пустую кухню, посмотрела на маму, оглядела нас и достала из сумки одуряюще вкусно пахнущий сверток и маленький кувшинчик.
«Наверное, там молоко», – подумала я. Развернув сверток, баба Домка достала кусок кровяной колбасы, немного хлеба и попросила стакан.
«Сейчас нальет молока!» – ликовала моя душа, и бурно урчал голодный желудок, ликуя, как и я, в предвкушении молока.
Ах, если б я знала последствия этого праздника. Если б я могла предположить, сколько горя принесет нам то, что было в кувшине, я бы разбила его на мелкие-мелкие осколочки. И наша мама, наша милая мама не стала бы со временем пьяным зверем, избивающим своих детей всем, что попадет под руку, пропивающим нашу маленькую пенсию за три-четыре дня, обрекая на медленную голодную смерть, постоянный позор от слов, бросаемых вслед: да это Гали пьяницы байстрюки. Тяжело вздохнув, кивнув своим мыслям, баба Домка налила в принесенный стакан вина и сказала:
– Галочка, выпей стаканчик вина, а я хоть посмотрю, потому что пить не могу, мне нельзя.
Мама выпила. И впервые со дня похорон засмеялась, а мы поели колбасы с хлебом. Больше практически мы трезвой маму не видели. Сначала чуть под хмельком, она всё глубже увязала в пьяном угаре. В замутненном сознании ей виделась такая счастливая ее прежняя жизнь, а отрезвление порождало только еще большее желание не возвращаться в беспроглядную нищету.
Андрей Красулин
Танкист на масловке
Год сорок девятый или пятидесятый. Я учусь в МСХШ (Московская средняя художественная школа). Мы с другом Саней Белашовым идем от Верхней Масловки, где мастерская его матери, на Беговую. Зима, холод, страшно скользко. Нас окликает еле бредущий на двух протезах парень в шлеме танкиста. Он сильно и привычно нетрезв. Мы ведем его, подхватив с двух сторон. Он идет в пивную, небольшое кирпичное строение. У входа в пивную он сует руку в карман и протягивает нам горсть мелочи. Мы отказывается. Он ссыпает мелочь в карман. Потом сдергивает с коротко остриженной солдатской головы танковый шлем и громко говорит:
– Перед Лениным Владимиром Ильичом я снимаю… а идола грузинского…
Дальше идет длинная матерная фраза.
Мы идем в сторону Беговой, в столовую авиамоторного завода, на котором написано большими буквами «ФАБРИКА-КУХНЯ». Там кормят всех, не только рабочих завода. И в зале стоит древний автомат. Выбиваешь чек, и продавщица дергает рукоять – льется сто пятьдесят грамм водки. Но мы тогда еще не пили.
Людмила Улицкая
Грудь в орденах
Василий Иванович был сосед по коммуналке. Как мне казалось, старик. Пил он по-черному. Трезвым я его никогда не видела. Но даже в пьяном виде он был милый и улыбчивый, только падал часто. Всегда у него на лице была какая-то отметина – то синяк, то ссадина. Жена его – сильно пьяного – домой не пускала, и он довольно часто засыпал на полу возле нашей двери – приглянулся ему наш половичок или просто идти было недалеко. И в пьяном, и в трезвом виде был он миролюбив и застенчив.
Двери наших комнат были друг напротив друга. Уже когда я пошла в школу и возвращалась домой, взрослая, семилетняя, с ключом в руке, я часто заставала Василия Ивановича спавшим перед порогом нашей комнаты. Я вытягивала вперед руку с ключом, дотягивалась до замка и, перешагнув через спящего в луже Василия Ивановича, закрывала за собой дверь. Я его не боялась. И вообще до сих пор умею с пьяными обращаться. А году в пятьдесят втором он умер. Это были вторые похороны в нашей квартире. За несколько лет до него умер его зять, тоже пьяница, Филипп, но тот был совсем молодым. На большой коммунальной кухне на двух табуретках поставили гроб. И надели на покойника черный пиджак. Но материя видна была только на рукавах, потому что грудь оказалась вся в медалях и орденах. Вот такой был наш пропойца.
Мылись…
Привычное дело: открыл кран, течет вода. Хочешь – холодная, хочешь – горячая. Смесителем регулируется температура. Моется большинство людей каждый день. Не выходя из собственной квартиры – и душ, и ванна…
Трудно даже вообразить, какой радостью и блаженством было мытье в послевоенные годы. Моя бабушка жила в старой квартире, где была ванная комната с большим котлом, который топили дровами. Там же была и раковина – старинная, фарфоровая, в розовых хризантемах, иссеченных трещинами… Топили котел раз в неделю, и тогда меня приводили из соседнего дома, где я жила с родителями.
Сначала ванную занимал дед, он любил мыться чуть ли не кипятком. За ним – все другие члены семьи. Дети – в последнюю очередь, когда вода уже не была горячей. Для моих младших братьев ставили на табуретку прямо в ванную цинковую детскую ванночку, и мне разрешали тереть их спинки мочалкой… Какое счастье – горячая вода, мыло, хрустящее полотенце, белые простыни, пододеяльники, маленькая думочка на подушке, все жесткое от крахмала и пахнущее чистотой… Какая это роскошь – мытье горячей водой с мылом!
Леонид Добровольский
В баню в мужской компании
С Сережей и Володей нас объединяло еженедельное совместное хождение в баню. Дело в том, что никаких там ванн ни у кого из нас дома не было, но, что важнее, у нас не было отцов. До какого-то возраста каждый из нас ходил мыться в баню с мамами или бабушками, в женское отделение, но по понятным причинам наступил момент, когда это стало невозможным. Теперь я уже не помню, как мы объединились по поводу бани: то ли наши матери как-то между собой договорились, то ли случайно как-то вышло. Надо себе представить трех восьмилетних мальчишек с огромными эмалированными тазами, в которых лежат свертки с чистым бельем, полотенцами, мочалками и мылом, идущих в Ямские бани, располагавшиеся на нашей улице Достоевского, которая прежде называлась Ямской.
Сначала надо было отстоять очередь за билетами, а затем уже встать в очередь в банный класс согласно купленному билету. Были классы с парной за сорок копеек и так называемый «общий класс» без парной – за тридцать. Ходили мы в баню обычно по пятницам, очереди были невероятно длинные – часа на полтора-два. Не представляю, как у нас хватало терпения их выстаивать. Из «классов» выходили люди с распаренными красными лицами, и через некоторое время банщики объявляли, что могут пройти, например, четверо. Верхнюю одежду принимали в гардероб, там же давался номерок, который соответствовал номеру шкафчика и места на белой деревянной скамейке.
Здесь ты раздевался, вешал одежду в шкафчик и звал банщика, который закрывал шкафчик на ключ. Номерок за веревочку вешался на щиколотку или на запястье – кому как больше нравилось.
Потом шли в мыльную, где прежде всего надо было занять место на мраморной скамье для мытья и захватить пару цинковых тазиков – шаек. Для мытья головы и тела использовался принесенный с собой эмалированный таз, одна шайка с водой ставилась под ноги, а другую обычно наполняли прохладной водой для окатывания.
Захватив скамейку, мы наполняли все тазы водой, клали рядом с ними свои мочалки и мыльницы и шли в парную.
Помещение парной, обычно полутемное с тусклой лампочкой в плотном тумане, стены и потолок – почти черные от копоти. В одном углу – печь с раскаленными большими булыжниками сверху, за дверцей в топке ленивый огонь лижет обугленные крупные поленья. Большую часть парилки занимает деревянная конструкция в виде лестницы с огромными ступенями – полками, на верхнем полке – самая жара, не продохнуть, на нижнем – жарко, но терпеть можно. В тазиках замоченные веники, березовые и дубовые, их продают мужики у входа в баню, но настоящие парильщики приходят со своими. Кто-то с огромным ковшом на длинной ручке кричит: «Посторонись, сейчас поддам!» – и выплескивает с размаха воду из ковша на камни. С верхней полки раздается: «Вот пошло-пошло, хорошо! А ну-ка, поддай еще!»
После каждой поддачи нас обдает жгучим жаром, пронимающим до самого нутра.
Мы жмемся на нижней полке. Кто-то берет брошенный избитый веник, и, подражая мужикам, мы начинаем охаживать друг друга. Эффекта никакого, иногда только больно от царапающих кожу голых веток. Тут кто-нибудь из взрослых вдруг замашет над тобой настоящим целым еще веником, и жар, кажется, проникает в каждую клеточку организма.
После парной, откуда мы в конце концов вылетали пулей, атмосфера зала для мытья казалась благодатью, особенно если после этого окатиться холодной водой из полного таза. Мы принимались за мытье: мылись сами, а потом по очереди яростно терли спины друг другу намыленными мочалками. Кажется, до такой степени чистоты во взрослые годы мне отмываться больше никогда не приходилось – кожа скрипела, и во всем теле чувствовалась какая-то небывалая легкость.
Одевшись и собрав вещи, мы выходили в вестибюль и направлялись в новую очередь – к пивному ларьку. Здесь мы пили квас или клюквенный морс. Когда стали постарше, то уже выпивали и по «маленькой» – граненую кружку на четверть литра жигулевского пива. Стоила она 11 копеек. Случалось это мероприятие еженедельно по пятницам или субботам.
Вообще в те годы с мытьем были проблемы: либо нужно было идти в баню и отстаивать длиннющие очереди, либо идти на помывку в гости к родственникам или знакомым. В некоторых коммунальных квартирах, где жило по нескольку семей, были ванные комнаты с дровяными колонками. Соседи устанавливали очередь, закрепляя за каждой семьей определенный день недели, дни при этом разыгрывали по жребию.
Мы, бабушка, мама и я, ходили иногда мыться к бабушкиному племяннику, дяде Володе. Дома у него собиралась целая компания. Все приходили со своими дровами – небольшой вязанкой тонко нарубленных сухих чурок, – но, кроме этого, приносили выпивку и что-нибудь из закуски или сладкое. После мытья в ванной, которое растягивалось на несколько часов, все усаживались за стол, и начинался настоящий праздник, иногда даже с танцами под патефон или электропроигрыватель. Кто-то приходил с детьми, и дети, в том числе и я, что-то поев, забирались под стол – другого свободного места не было – и там занимались своими делами.
Татьяна Жданова
Баня
В сороковые и пятидесятые была проблема – мытье. Ведь никаких ванн и душей в наших домах и помину не было. Где и как люди умудрялись совершать свой туалет, особенно женщины, – это особая песня. Но и еженедельное мытье требовало специальных усилий.
Мылись, стоя в корыте. Перед корытом ставили табурет, на табурет – таз. Грели воду в ведрах и больших кастрюлях, смешивали горячую и холодную воду тоже в ведрах или в баках для кипячения белья и мылись. При этом вода плескалась на пол. После мытья ее надо было подтереть, а грязную воду из корыта – вылить в помойное ведро. Одному это было не под силу, надо было позвать кого-нибудь еще. При этом дома должно было быть тепло, даже очень тепло, – стало быть, перед мытьем надо было натопить печку. А перед этим надо было натаскать воды с колонки. Словом, забот хватало. Если мыли детей, то ставили корыто на два стула, сажали ребенка в корыто, мыли, потом разрешали встать и обливали чистой водой. Моя тетушка Гера иногда устраивала мне душ: она брала дуршлаг и поливала меня через него водой из ковшика. Мне это ужасно нравилось.
Сама Геруся мылась до пояса каждый день, когда приходила с завода «Красный богатырь». Противный запах технического рыбьего жира и резины въедался в ее кожу, и она старалась отделаться от него. Она часто приносила новые упаковки «Земляничного» мыла, в голубенькой бумажке с узором из ягод земляники, с приторно-сладким запахом. По тем временам это было последнее слово советской косметики, выше могло быть только мыло «Красная Москва». Геруся ставила на стул таз и доверяла мне поливать ей воду из кружки на руки и шею. Потом вытиралась вафельным поло-тенцем.
Тот, кто не желал связываться со всеми этими трудностями, шагал в баню. Бань вокруг было много. Мама Женя ходила со мной в Богородские, а Геруся иногда водила меня в Потешные бани. И туда, и туда надо было ехать на четвертом трамвае, только в разные стороны.
Я гораздо лучше помню Богородские бани. В бане были женское и мужское отделения, иногда их почему-то меняли местами. В бане мыться можно было очень вольготно: и воды сколько хочешь, и лей ее куда хочешь. Однако в бане всегда была очередь. Иногда надо было простоять и просидеть час-другой в ожидании, пока освободится место в предбаннике. Иногда не хватало шаек. Иногда трудно было найти место, чтобы поставить свои шайки. Но если уж дорвался до всего этого – мойся всласть. Некоторые ходили в баню со своими тазами (эмалированными), шайки же в бане были оцинкованными. Их надо было сначала как следует помыть, потом ошпарить кипятком, и место на лавке тоже надо было ошпарить, чтобы не подхватить какую-нибудь инфекцию. В душ обычно тоже стояла очередь, и женщины торопили друг друга – всем хотелось постоять под струями воды, свободно льющейся сверху.
В банном отделении было душновато, пар поднимался высоко к окнам. Там же была и парная, но мы никогда туда не ходили. Я попала туда, когда мне уже было лет двадцать с ишним.
Как-то раз что-то случилось с краном, откуда текла горячая вода. Пару набралось больше, чем обычно, и в нем вдруг возникла фигура мужчины, вполне одетого, с инструментами в руках. Он деловито, не обращая внимания на обнаженных женщин, подошел к крану, повертел толстую деревянную ручку, что-то там подправил и так же спокойно удалился. Голые женщины испытали легкий шок, но никто в обморок не упал. Стыднее всех, кажется, было мне, пятилетней.
Когда мама Женя мыла мне голову и мыло попадало мне в глаза, я начинала вопить. Мама Женя говорила, что я ору басом, совсем как Поль Робсон. Я не обижалась, потому что он мне очень нравился.
Но мы не очень часто ходили в баню, во-первых, потому, что мама Женя не отличалась повышенной чистоплотностью, а во-вторых, мне кажется, она плохо себя там чувствовала. Однажды она чуть не упала в обморок, уже в предбаннике. Кто-то догадался дать ей понюхать нашатыря, и она пришла в себя. Я очень перепугалась за нее и за свою особу.
В предбаннике рядами стояли диваны с очень высокими спинками. Спинка была одна, а диваны были с двух сторон. На спинках висели крючки для одежды или для полотенец. Женщины шли по дорожкам, разостланным на полу, к своим местам, а детишек чаще выносили из моечного отделения на руках, чтобы они не пачкали ноги, и ставили на диван. Помнится, я шла сама: наверное, у мамы Жени не было сил таскать меня на себе.
Один раз мама Женя сказала о какой-то женщине в бане: «Посмотри, какая красивая у нее фигура». Я посмотрела и ничего не поняла: просто голая тетя. Я вообще долго ничего не понимала в фигурах. Лицо – вот это понятно, либо оно нравится, либо нет, а фигура?..
Иногда летом родители не ленились и выносили на лужайку перед нашим домом корыта, наливали туда холодную воду, и мы в трусиках сидели в этих корытах и плескались. Вот было счастье!
Помню, как-то раз, когда у нас в очередной раз отключили электричество, мать зажгла коптилку и устроила мытье в корыте мне и моей подружке Гале. Я, уже помытая и завернутая в полотенце, сидела на кровати и смотрела, как мать поливает Галку чистой водой, при этом свет коптилки ярко отражался в мокрой Галкиной попке. Это было очень живописно.
При всей скудости наших омовений у нас не было вшей. Маме Жене вовсе не хотелось возиться с моими волосами, поэтому меня стригли «под мальчика». Специальных детских парикмахерских не было, поэтому меня просто приводили во взрослую, где маме Жене иногда делали шестимесячную завивку. Когда подходила наша очередь, поперек кресла, на его ручки, клали широкую доску и сажали меня на нее. Стригли меня механической машинкой, которой я сначала боялась, но потом перестала бояться. Но все равно: прикосновение холодной металлической машинки к загривку вызывало у меня какое-то атавистическое чувство ужаса. Вопрос, как постричь ребенка, состоял только в одном: под нуль или с челочкой? На мою голую голову мама Женя надевала отнюдь не панамку, а сооружение своего собственного изобретения – колпачок, сделанный из верхней части старого чулка. Чулок обрезался, его обрезанная часть стягивалась и сшивалась, и туда пришивалась кисточка – получался колпачок. Зачем надо было меня так уродовать, ума не приложу, но сама я ничего не имела против этих колпачков, не то что против фартучков. Меня часто принимали за мальчика или просто дразнили: «Лысый, иди пописай!» Однако о косах я все равно не мечтала, мне было хорошо и так.
Кстати, о волосах. У Геруси были довольно длинные светлые волосы, которые она заплетала в косички. Когда она их расчесывала, на гребешке оставались волосинки. Она их снимала, сворачивала на пальце в колечки и бросала на пол, аккуратистка! Почему-то я их ужасно боялась, они казались мне живыми, при сквозняке они перемещались по полу, как мыши.
Марина Краевская
Случай в бане
В 1945 году мне было одиннадцать лет. Мы жили в самом центре Москвы, естественно, в коммуналке и, столь же естественно, без ванной. Организация семейного мытья была делом непростым и, уж конечно, не слишком частым. Родители с утра занимали очередь в ближайшие к нам Чернышевские бани, а я шла в школу. По возвращении присоединялась к ним.
Запомнился случай. Дедушка, рассеянный ученый, далекий от реальной жизни человек, по ошибке вышел прямо из моечного зала мужского отделения в соответствующем (вернее, несоответствующем) виде в общий вестибюль. Никто не был смущен, кроме него самого. Да и до того ли было! Простоявшие несколько часов на улице люди теперь находились «на финишной прямой». Не более получаса отделяло их от вожделенного момента получения маленького кусочка темного хозяйственного мыла (выдавали при входе непосредственно в предбанник всем, и детям в том числе!). А дальше предстояла борьба за шайки, желательно две, попытка что-нибудь простирнуть, что жестко пресекалось администрацией, но неизменно проделывалось: дома еще сложнее. Так кому какое дело до голого мужчины, когда вот-вот сбудется мечта!
Ирина Безуглая
Дочка, потри спинку!
…На кухне в цинковых ванночках или тазах купали грудничков и малышей. Ни душа, ни ванной не было, только две уборные по обе стороны длинного коридора, с крупными буквами «М» и «Ж», нарисованными на дверях масляной синей краской. Старшие дети раз в неделю шли с родителями в Усачевские бани, недалеко от рынка того же названия. Мы с подружками не любили ходить в баню, потому как знали, что, едва мы появимся в помывочной, со всех сторон послышится: «Дочка, потри спинку». Мы перетерли тогда много старушечьих спин, искривленных тяжелым трудом, особенно в годы войны. Сейчас думаю, что этим «старухам» было не более сорока – сорока пяти лет.
Одевались…
Мы живем во времена невиданного изобилия. Никогда прежде в мире не было произведено такого количества всяких вещей: обуви, одежды, мебели, посуды… Вещи дорогие и дешевые, хорошего качества и плохого и, как предел презрения к самой материи, – вещи одноразовые. Всего много, даже слишком много. Ломятся от вещей шкафы, ломятся и помойки…
Дома у меня стоит швейная машинка, кабинетный «Зингер», подаренный моей бабушке на свадьбу весной 1917 года. Очень был своевременный подарок: на этой машинке бабушка обшивала всё семейство чуть ли не до самой смерти. Я помню эти семейные вещи, которые проживали много жизней, – пальто долго «строили», покупали материю, подкладку, ватин, бортовку, воротник, пуговицы, потом бабушка раскладывала ткань на полотне, рисовала обмылком чертеж, кроила, долго и пристально корпела, делала множество ручной работы, а под конец, сдвинув шаг стежка на максимальный, строчила на машинке, подправляя ткань руками и покачивая ногой чугунную подножку… Пальто долго носила моя мама, потом его перелицовывали, и оно служило еще десяток лет, потом оно перевоплощалось в юбку и в жилет, и последнее, уже предсмертное существование: круглая перочистка, сшитая из темных лоскутков изношенного сукна, прошитая посередине красным шнурком, варежка-хваталка для кастрюли. Бывший воротник перевоплотился в стельку… Такое семейное пальто следовало бы сохранить как музейную реликвию, но это невозможно, поскольку оно отслужило до последней нитки. Гордые, уважаемые, почтенные вещи, которых теперь не стало. Изобилие испортило наше отношение с вещами: мы перестали их уважать и ценить.
Давно умерла бабушка, но до сих пор, когда мне нужна розовая нитка или зеленая пуговица, я нахожу их в ящичке швейной машины. Другой мир, другая культура. Мне до сих пор нравятся эти строгость и скудость, и нравится всё реже встречающийся особый женский талант обращения с мукой, сахаром, шерстью, полотном и шелком…
Людмила Кожурина
Всепогодные сандалии
– Ты зачем надеваешь босоножки, дождик ведь?
– Так потому и надеваю, что вода тут же выльется и нога быстро высохнет.
Это обо мне беспокоятся дети: я собираюсь по делам на целый день. Мое объяснение их невероятно смешит. Но ведь правда, дело привычки.
В детстве на каждое лето мне покупали одни сандалии и одно ситцевое платье. И то и другое снашивалось в дым, потому что сандалии были всепогодные, а платье стирали в субботу после бани, и к утру оно было готово к дальнейшей носке.
Сейчас у меня есть туфли, и не одни, юбок-платьев хватает, но на каждый сезон я подбираю что-то одно, «любимое», что ли. Прошлогоднюю юбку не надену, пусть и хорошую. Новую сделаю.
Кстати, это «сделаю» осталось с тех самых пор, с перешиваний и перелицовок всего, что еще не полный хлам. Этим занималась мама, она сама эти платьица «делала» – мне и себе. В пятидесятые годы, когда я посещала детский сад, у меня было штапельное платье старушечьей расцветки, темно-зеленый фон и мелкий горошек, причем подол с одного боку отвисал – видимо, ткани было не настолько много, чтобы выкроить детали правильно, вдоль нити, а не поперек. Я это платье сильно не любила, чем и запомнила. Другой особенностью платьев, которые мама шила мне в детстве, было отсутствие карманов. Видимо, за нехваткой времени или ткани опять же. Но ребенок не на все неудобства может посетовать, потребовать карманов – непредставимо. Тем более что вместо карманов мы, маленькие девочки конца пятидесятых, использовали штаны. Это нам так повезло: штаны у детей были в виде панталон, с резинкой у колена. Как теплые, «на байке», так и «простые», хлопчатобумажные, – их тоже мама шила. Штаны были длиннее, чем платье, и в старшей группе девочки их «подбирали», подкручивали, чтоб не выглядывали. То еще ощущение толстых колец вокруг ног. Но я ведь не о красоте, а о карманах.
Этот жест – подобрать что-то с земли и засунуть за гачу, за резинку – он памятен. Мы так делали. Яблоко недоеденное туда, мелок, маленькую куколку. Однажды по дороге в сад – а в садик мы ходили самостоятельно, причем я даже ездила на автобусе, – так вот, видно, в автобусе я и подобрала тюбик губной помады. Естественно, засунула за гачу. На прогулке показала девочкам, они крутили-смотрели и крышку потеряли. В общем, я и без крышки – за гачу. А после тихого часа началось: воспитательница, увидев меня, завизжала, дети замерли, я тоже посмотрела на себя: вся в алом. Помада эта, значит, растаяла и потекла. Панталоны в тот день у меня были ярко-желтые. «Лимонного цвета», как их хвалила моя мама.
Моя мама умела похвалить всякую дрянь. «Ешь, ешь, килька чуть с душком, ароматная… вот каша пшенная – она на воде такая остренькая получается, вкуснотища… картошечка-то с разварочки, хороша, ничего к ней и не надо». Ботинки – «еще крепкие, не промокают», пальто – «как новое, рукава совсем не протерлись». Костюм клоуна, который она мне сшила из матрасной ткани, – «загляденье, а не костюм». И так, казалось, всё нормально у нас, хорошо живем.
Когда мне надо было идти в первый класс, встал вопрос о белом фартуке. Первая идея у мамы была – из отбеленной марли, и, если накрахмалить… Но она остановилась на кухонной занавеске: хорошая бязь, где у нас хлорка? Ленты в косы она «сделала» из своего старого крепдешинового платья – «благородные ленты»!
Эта нищета (мама врач, отец инженер) в нашей семье не проходила. Когда мне надо было торжественно вступать в пионеры перед лицом своих товарищей, мама сделала мне галстук из куска бордового сатина, аккуратно так руками обметала тряпочку. Уголки сразу скрутились в трубочки, и это было не разгладить.
Ну, тебе уже десять лет, ты видишь, что есть у подруг, что им покупают, в то же время ты замечаешь, как окружающие уважают твою мать, вообще семью. И ты спрашиваешь: почему у нас нет этого, того. И получаешь укрепляющий завет:
– Вот как ты видишь богато одетого человека, как входишь в дом, который от добра ломится, – знай: это нехороший человек, это плохой дом. В нашей стране честные не могут быть богатыми.
Радикально, конечно. Но тогда спасало и от зависти, и от преклонения, и от униженности – дружить не мешало. А в случае намека на мой скудный гардероб я вытаскивала козырь: «Зато мы ездили к морю». Это доставало. Тогда мало кто выезжал в отпуск. Считалось, пустое. То ли дело – люстру купить.
А тоску людей по большим путешествиям утоляло радио. И все самозабвенно пели: «На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы».
Леонид Добровольский
«Комбинации»
Одеваться тогда приходилось довольно сложно: и мальчики, и девочки носили чулки, пристегнутые резинками к лифчику, сверху натягивались шаровары с начесом, шерстяной или байковый свитер, а поверх всего – пальто на вате с меховым воротником или шубка. Кроме того, надевались теплые вязаные варежки на резинке, чтобы не потерять, и длинный шерстяной шарф, который несколько раз оборачивался под воротником пальто и часто завязывался на спине. Еще пальто или шубка подпоясывались ремнем, чтобы снизу не задувало, а на голову одевали меховую шапку с ушами, которые завязывались под подбородком.
Отдельная тема – обувь: зимой тогда носили валенки с галошами, а позже – суконные боты с резиновым низом, которые одевались поверх ботинок. При этом, конечно, еще одевались и теплые вязаные носки. Особым шиком были так называемые бурки – сапожки из специального толстого сукна с толстой утепленной подошвой и отделанные кожей. Такие бурки стоили очень дорого, и носили их только дети из очень состоятельных семей. Говорили, что бурки очень теплые, практичные и ноские, сам я это подтвердить не могу – носить их не пришлось.
Большинство детей в то время одевали в перешитые из вещей родителей или старших братьев и сестер платья и костюмы, которые назывались «комбинации», поскольку для их пошива использовали куски разных тканей, выкроенные из старой одежды. Например, девичье платье могло иметь различные верх и юбку, а также кокетку и рукава из другого материала. То же было и в мальчишечьей одежде: пиджачки или курточки, брючки, составленные из двух-трех типов тканей.
Мальчики примерно до десяти-двенадцати лет носили тогда в основном либо короткие штаны – выше колен, либо так называемые «брюки-гольф» – штаны чуть ниже колен с манжетой или резинкой, плотно охватывающей ногу. В праздничном варианте под пиджачок или курточку надевали светлую рубашку, украшенную жабо или бантом. Очень многие дети, мальчики и девочки, и в будни, и в праздники носили нечто вроде лыжных байковых костюмов.
Помню, как мы с бабулей тянем за веревку детские санки, груженные торфяными брикетами, по узенькой тропинке, протоптанной на тротуаре между высоченными, выше меня, снежными сугробами. Вообще с топливом для печки, торфяными брикетами и дровами связано множество эпизодов того времени, запечатлевшихся в моей памяти, равно как и бесконечные очереди за яйцами.
Наталья Гаврилова
Красное платье
В школу я пошла в первый послевоенный сентябрь. Была я маленькая, худенькая, читать и писать не умела, букв никаких не знала. Надо ли говорить, что никакой подготовки к школе в те годы не было и все первоклашки узнавали азбуку, цифры, учились читать и писать уже сидя за партой.
Моя мама считала меня не готовой стать школьницей, ей хотелось оставить меня еще на год в детском саду. Строгие правила не позволяли семилеткам, а мне в мае исполнилось семь, посещать детский сад, и в августе я была «по возрасту» отчислена. Мама по этому поводу сильно сокрушалась, а так как деть меня было некуда, то и отвела меня в школу.
Видимо, особого впечатления это событие на меня не произвело, потому что ни свой первый школьный сентябрь, ни начала учебы я не помню. Пытаясь вспо-мнить свою первую учительницу, вижу размытый облик молодой женщины, имени которой память не сохранила, но зато живо помню, как мне становилось не по себе, когда слышала я ее произношение: «свекла и моркошка». При любом удобном случае я громко и четко, как мне тогда казалось, говорила: «свёкла и морковь». Еще помню, что писать чернилами разрешили мне одной из последних в классе, дольше многих писала я палочки и кружочки карандашом. Маму моя учеба в первом классе не заботила. Лишь изредка она интересовалась, сделала ли я уроки, и, услышав ответ «сделала», больше ни о чем меня не расспрашивала. Так спокойно, без особых событий пролетел мой первый учебный год.
И вот я уже получаю табель с одними пятерками, получаю и подарок – мою первую в жизни награду за отличную учебу. Подарок завернут в бумагу, и я узнаю от учительницы, что это отрез ситца мне на новое платье. Счастливая и гордая, бегу домой, одной рукой прижимая к груди бумажный сверток, а в другой бережно держа листочек-табель и чернильницу-непроливайку. Бегу быстро, со всех ног; завидя маму на нашем огороде, кричу во все горло: «Мама, мама! Я отличница, отличница, отличница!» Она смотрит на пятерки в табеле, потом как-то удивленно на меня и тихо говорит: «Молодец». Но ведь это еще не всё! У меня в руках подарок! Отрез ситца на новое платье – так сказала моя учительница. Мама разворачивает сверток, и луч майского солнца ослепительным светом падает на ткань ярко-красного цвета с белыми горошинами. От этой красоты у меня захватило дух, замерло, а потом радостно забилось сердце, волна счастья накрыла меня с головой. Я уже вижу себя в новом красном платье и нетерпеливо спрашиваю маму, когда она сошьет мне новое платье, но мама говорит: «Нет, Натка, нового платья у тебя не будет. В воскресенье на базаре мы продадим этот отрез и купим семенной картошки. Нам нечем сажать огород, ведь свою семенную картошку мы почти всю зимой съели». Кончилось счастье. Обида и горе свалились на меня. С плачем убегаю и долго отсиживаюсь в темном углу сарая.
В детстве горюют недолго, отгоревала и я, ведь впереди меня ждали каникулы, летние солнечные деньки, речка, лес, ягоды, подружки. В тот день я дала себе обещание, что когда-нибудь у меня непременно будет ослепительно красное платье.
Шли годы, появлялись обновки, но как-то так получалось, что никогда у меня не было ничего красного, так никогда и не довелось мне нарядиться в королевский красный цвет. А всё оттого, что мне – сероглазой блондинке – красный цвет вряд ли был бы к лицу.
Елена Шор
Один сапог
…А еще в Москве были барахолки, где можно было продать-купить всё что угодно. Я знала две из них – Преображенку и Палашевский рынок. Торговля на Преображенском рынке начиналась прямо от станции метро «Сталинская» (ныне «Семеновская»). Море людей толкалось, протискивалось туда-сюда, держа в руках то, что хотели продать.
Однажды мы с сестрой поехали туда покупать ей сапоги. Видим человека: держит в руках один сапог, демонстрирует, дает примерить. «Второй, – говорит, – вот он, в коробке». Сестра просовывает руку в коробку, нащупывает голенище… Примеряет сапог. Всё в порядке. Расплачиваемся, суем второй сапог в коробку, приезжаем домой. Не терпится обуть новые сапоги! Лезем в коробку и видим: там один сапог и свернутый в трубку кусок грубой кожи.
Владимир Розанцев
Две истории о смерти вещей
История с поркой
Прошло уже очень много лет, но я до сих пор с огромным стыдом вспоминаю историю, которая случилась со мной, восьмилетним мальчиком.
Я жил в комнате с отцом и матерью Верой Петровной, или тетей Верой, как ее все звали в нашем дворе. На лестничной клетке в соседней квартире жила подруга матери, тоже Вера, с дочкой, и тоже Верочкой.
Мы с Верочкой родились с разницей в четыре часа. Когда мы стали чуть постарше, нас во дворе стали дразнить «тили-тили тесто, жених и невеста». Это повторялось почти каждый день. Меня эта бесконечная насмешка очень смущала и тревожила.
В 1947 году, когда я учился во втором классе, меня эта «шутка» стала изводить. Весной этого года мама Верочки сшила ей новое пальто. Пальто было голубенькое с маленьким беличьим воротником и очень шло девочке. Где ее мама смогла достать материал в такое тяжелое послевоенное время, было удивительным. Она всегда старалась свою дочку одеть получше. И вот однажды во дворе нас опять стали дразнить, и я решил, как-то ничего, в сущности, не понимая, обидеть Верочку. Придя домой, я взял безопасную бритву отца и, при очередной насмешке, распорол спину ее голубенького пальтишка. Испугавшись сделанного, я закричал: «Верочка, у тебя пальто сзади разрезано!» Дети, которые всё это видели, тут же сказали, что я сам ей пальто разрезал.
Вечером мама, услышав эту историю, пришла в ужас. Как она будет теперь глядеть в глаза подруге? Будучи женщиной больной и нервной, она всегда сдерживалась, когда я что-нибудь вытворял. Но тут… Она замочила ремень, сдернула с меня штаны и отстегала по одному месту, повторяя при этом: «Чтобы тебе было неповадно». Никакие слезы, рыдания и мольба «Мама, прости, я больше никогда не буду!» не остановили экзекуцию.
И эти удары и шлепки я запомнил на всю жизнь. До этого меня никогда не пороли. Мне кажется, именно с этого момента я начал что-то понимать в жизни. Я этой порке благодарен. А пальто было потеряно безвозвратно: никакая художественная штопка не могла бы его спасти.
История о беличьей шубке
Удивительное свойство памяти: подчас я совершенно не могу вспомнить, что было два-три года назад, а стоит закрыть глаза и подумать о своей родной школе, как я отчетливо вижу первый класс, в который я поступил в 1945 году.
1 «Д» был сформирован в конце августа и был пятым по счету. В него попали дети, которые по разным причинам ранее не были записаны в школу. Среди таких был и я, мама умолила директора втиснуть меня в этот класс. Наша Малая Грузинская улица делила собой два района: Краснопресненский и Советский. Нечетные номера домов относились к первому району, а четные – ко второму. Мы жили на нечетной стороне. А мама, ничего не знавшая о том, что можно учиться только в школе своего района, по прописке местожительства записала меня в Советский район, где учился в четвертом классе мой кузен. Придя в школу накануне 1 сентября, она испуганно увидела, что в списках меня нет. Так я оказался в незабываемом 1 «Д» школы № 82 Краснопресненского района.
Что же это был за 1 «Д»? Сейчас, по прошествии более шестидесяти пяти лет, сегодняшнему поколению очень трудно себе представить. Буквально бурса по писателю XIX века Помяловскому.
Дети войны. У большинства учеников отцы погибли на фронте. У многих мальчиков не было мам, и жили они с кем-нибудь из родственников. Возраст детей в классе колебался от семи до одиннадцати лет. Основная масса ребят жила крайне бедно. Одежда не по размеру: переделанные отцовские гимнастерки, большие сапоги или ботинки, шапки-ушанки. Наша классная руководительница, окончившая гимназию в дореволюционное время, со слезами на глазах смотрела на нас. Мы за глаза называли ее старухой и завидовали ребятам других классов, у которых учительницы были очень молодые.
Я жил в конце Малой Грузинской улицы, ближе к Белорусскому вокзалу, а школа находилась в районе Красной Пресни, и ходить до нее было достаточно далеко. Моя мама очень переживала, как я буду переходить два переулка по дороге в школу. С этого края улицы нас было только трое ребят, и для многих учеников класса, живших поблизости от школы, мы были «чужаками», так что было не избежать пинков и тумаков. Но среди нас троих был один десятилетний парень по прозвищу Царь, прошедший колонию и вызволенный оттуда родной теткой. Это была колоритнейшая фигура, этакий Мишка Квакин из повести А. Гайдара «Тимур и его команда». Его боялись все, вплоть до учителей. В рваной одежде, лохматый, с горящими глазами и обязательным окурком во рту, он был на голову выше всех в нашем 1 «Д».
Бедная классная руководительница не знала, как с ним справиться. Особенно страдала учительница пения – интеллигентная пожилая еврейка. У нее на лице был ужас, когда он появлялся на уроке пения, хотя прогуливал его почти постоянно. Однажды он принес в класс большое оконное стекло и грохнул его об пол, когда учительница отвернулась, играя на разбитом стареньком пианино. Она испуганно закричала и бросилась из класса за директором. Исключить его из школы было невозможно, поскольку он был сыном погибших родителей.
Никто в классе не любил опрятных и аккуратных мальчиков, которых встречали и провожали мамы или бабушки. Вспоминается случай: когда мама одного из учеников привела своего сына в новой беличьей шубке, которую привез из Германии возвратившийся с войны отец, в классе произошло событие, потребовавшее вмешательства директора школы.