Сент-Женевьев-де-Буа Юденич Марина
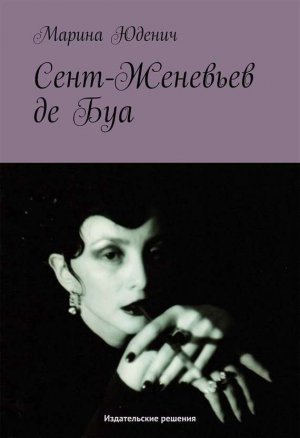
Часть первая
События
Лето в Париже – милая и уютная пора. Его не портят даже частые дожди и очень жаркие дни, когда плавится асфальт и душно под зонтиками уличных кафе.
Сегодняшний день выдался жарким.
Прочувствовать этого он еще не успел: кондиционер работал на полую мощность, и в номере было прохладно, настолько, что он проснулся озябшим.
Однако ж, достаточно было всего лишь выглянуть на улицу..
Окна его спальни выходили во двор американского посольства, и, отодвинув тяжелую вышитую гардину, он некоторое время наблюдал за темнокожими рабочими, грузившими контейнеры с дипломатическим мусором в маленький грузовичок. Им-то точно уже было жарко – с высоты шестого этажа были хорошо видны взмокшие фирменные рубашки и даже струйки пота, бегущие по шоколадной коже.
Да, жарким было уже и раннее утро.
Размышляя об этом, он с удовольствием принял прохладный душ, и как раз вовремя – мелодичный звонок оповестил о том, что доставлен завтрак. Закутавшись в белый махровый халат, украшенный гербом графа de Crillon – владевшего когда-то известным парижским дворцом, ставшим позже не менее известным отелем – и на ходу растирая полотенцем влажные волосы, он поспешил отворить дверь служащему, вкатившему столик с завтраком.
Они обменялись несколькими дежурными фразами, причем француз не преминул принести свои извинения по поводу несносной жары – он легко отмахнулся – в машине хорошо, как и в номере, работает кондиционер, француз почти искренне обрадовался и, получив приличные чаевые, почтительно удалился.
За завтраком он бегло просмотрел парижские утренние газеты, но больше внимания уделил телевизору, настроив его на российскую программу, впрочем, ничего нового оттуда не почерпнул: в Москве все было по-прежнему: падал рубль, ругались депутаты, кого-то взорвали в своем автомобиле – имя погибшего было ему незнакомо, и то слава Богу! А вот горячие круассоны в «De Crillon» были, как всегда, отменны. Он с удовольствием воздал им должное, щедро сдабривая маслом, медом, и испытал даже некоторое сожаление, когда с завтраком было покончено.
Он любил завтракать в отелях. Даже пору советской молодости, когда о роскошных пятизвездочных, не приходилось даже мечтать. Любил скромные многолюдные завтраки в небольших европейских гостиницах с неизменными горячими булочками, ароматным кофе, набором конфитюров и меда на столах, необыкновенно вкусными закусками на «шведском столе», сочными баварскими сардельками и английской глазуньей с беконом. Тогда он обязательно позволял себе еще и бутылку-другую холодного пива.
И это было верхом блаженства.
Теперь, допивая свежевыжатый грейпфрутовый сок, он только улыбнулся далеким «совковым» воспоминаниям и даже немного взгрустнул: прошлой первобытной радости теперь уже не ощутить, что бы приятного ни случилось в жизни. «За что боролись…» – философски подумал он и снова перешел в спальню – нужно было одеться: машина, видимо, уже ждала у подъезда.
Грядущий день был практически свободен – вчерашним ужином он поставил точку в деловой части визита, а возвращаться решил завтра, утренним рейсом «Air-France». И сегодня праздно оставался один на один с Парижем. Сознание этого настраивало его на легкий и беззаботный лад.
Вчера, возможно под воздействием двух рюмок «Кальвадоса» 1923 года, в баре отеля, куда заглянул уже глубокой ночью, он принял довольно неожиданное решение.
«Кальвадос» конечно же был ни при чем: он был вовсе не пьян, скорее дело заключалось в музыке. Пианист в баре оказался русским и, угадав соотечественника среди нескольких горланящих американцев, двух мрачных арабов, не сводящих с ярких заокеанских туристок похотливых масленых глаз, и юной парочки, невнятной национальной принадлежности, вдруг заиграл Вертинского
«Вы ангорская кошечка, статуэтка японская, вы капризная девочка с синевой у очей, вы такая вся хрупкая, как игрушка саксонская…».
Слова вспомнились ему сразу, сплелись с мелодией, он готов был поспорить, что может допеть до конца, ни разу не сбившись. Это было удивительно – с той поры, когда слышал этот мотив, прошло очень много лет. Правда, слушал его в ту далекую пору очень часто – почти каждый день. Бабушка, на воспитание которой он был отдан в возрасте трех лет, в компании тогдашних своих подруг музицировала ежедневно, и «Черные веера», «Ангорские кошечки» и «Лиловые негры в притонах Сан-Франциско» были ему известны куда лучше, чем «Золушка» и «Гадкий утенок».
Он выпил еще одну, возможно уже и лишнюю, рюмку «Кальвадоса», со смаком выкурил любимую «Монте-Кристо» и, покидая бар, оставил на рояле стодолларовую купюру.
Музыкант улыбнулся благодарно, немного грустно и заиграл «Подмосковные вечера».
«Вот это уже напрасно», – рассеянно подумал он, поднимаясь в лифте на свой шестой этаж, и вдруг решил, что завтра поедет на русское кладбище в предместье Парижа – Сент-Женевьев.
Решение, действительно, пришло вдруг.
Никогда прежде не бывал он на этом кладбище, и не был никоим образом связан с ним. Кроме разве того обстоятельства, что в той земле покоились люди, творившие некогда историю его страны.
Но он не был сентиментален.
Однако, поднявшись в номер, и уже отходя ко сну, он еще некоторое время размышлял о завтрашней поездке и окончательно утвердился в решении ехать.
Утром вечерние фантазии, как правило, не вызывают вчерашнего энтузиазма, если не кажутся вовсе нелепыми и абсурдными. Такое часто случалось и с ним.
Но сегодня было не так.
Он налил еще одну чашку остывшего кофе и, с удовольствием прихлебывая ароматный напиток, задумался. На кладбище ехать по-прежнему хотелось – это было вполне определенное ясное желание. Хотя до вчерашнего вечера он предполагал провести последний свободный день в Париже совсем иначе – как делал обычно – пробежаться по знакомым магазинам, пополнить гардероб, приобрести подарки.
Потом – если погода будет подходящей – безмятежно пошляться по улицам, оставив машину где-нибудь неподалеку, в тени, чтобы, устав, можно было скоро вернуться в прохладный уютный салон.
Потом долго и со вкусом отобедать в «La Grand Cascade» – знаменитом парижском ресторане, который любил с истовой страстью снобствующего туриста.
Планы на вечер варьировались широко. Хранилась, к примеру, в дальнем углу портмоне – не обошлось, без брезгливой неловкости – визитка мерзкого типа – Пети Бестермана, берущего на себя труд организации досуга состоятельных русских господ в ночном Париже. Случалось, он пускался в свободное плавание. Но всякий раз приключения были легки и необременительны.
Все это можно было легко организовать еще и сейчас, но, допивая кофе, он остался верен принятому ночью решению.
Это было странно.
Водителя-серба, носящего французское имя Манэ – с ним всегда работал в Париже – желание патрона, пожалуй, тоже слегка удивило, но, разумеется, виду тот не подал. Лишь коротко взглянул в зеркальце на пассажира чуть внимательнее и острее, нежели обычно.
Однако минута канула в вечность.
Солидный «мерседес» уже катил по запруженным парижским магистралям, пробиваясь к окраине столицы.
Бабушка его любила романсы Вертинского. Но это было, пожалуй, самое достойное из ее песенного репертуара, далее следовали всевозможные «Танго сильнее смерти» и «Шумит ночной Марсель в притоне «Трех бродяг». Под эту музыку прошли его ранние детские годы.
Еще бабушка тайком от родителей читала ему дневники Вырубовой, зачем-то изданные в первые годы советской власти, стихи Надсона, Зинаиды Гиппиус, еще каких-то авторов, имена которых он сейчас не помнил..
А еще – бабушка часто повторяла, что человек только тот, кто «com il faut», подчеркивая, что цитата принадлежит раннему Толстому, из чего следовало, что более поздние убеждения графа она не разделяла. При этом, запросто называла великого писателя графом Львом Николаевичем, а императрицу Александру Федоровну – если речь вдруг заходила о доме Романовых, – несчастной Аликс. Из чего – с неизбежностью – следовало, что бабушка, о если не принадлежала к царствующей династии, то непременно провела молодость в высшем петербургском свете, будучи представленной ко двору и накоротке знавшей его обитателей.
Все это было категорически не так – она родилась в маленьком провинциальном южнорусском городишке и никогда – до замужества – а оно состоялось уже в ту пору, когда ни Романовых, ни двора, ни петербургского высшего общества, ни самого Санкт-Петербурга не было и в помине, его не покидала.
Правда, родилась она в семье местной технической интеллигенции, впрочем, тогда говорилось много проще: семейство принадлежало к мещанскому сословию – прадед был инженером-путейцем – и жило, видимо, неплохо. И бабушка, и пять ее сестер окончили местную гимназию, смиренно ожидали замужества, которое – ко всеобщему удовольствию – ни одну из них не миновало.
Истоком же бабушкиных светских замашек и даже некоторых претензий на великосветскость, была директриса местной гимназии, дама, действительно, некогда принадлежавшая к высшему обществу и даже настоящая княгиня, избравшая модный – когда-то – путь, хождения в народ. Следуя традиции, она начала карьеру простой учительницей, а завершала – в преклонном возрасте – главою небольшой женской гимназии в маленьком провинциальном городке. Народнические идеи, видимо, с годами выветрились из ее души и не владели более разумом. Зато воспоминания о прекрасной, сказочной – на фоне пыльной провинциальной скуки – петербургской юности, напротив, проступили ярко. Теперь она щедро делилась ими с воспитанницами, порождая в юных душах сонм фантазий, облеченных в конкретные образы и сцены, красочно живописуемые престарелой наставницей.
Настал февраль, а затем и октябрь семнадцатого, но в жизни скромной семьи инженера-путейца мало что изменилось – поезда ходили и при большевиках, и во время коротких налетов Добровольческой армии. Все шло своим чередом, включая замужества дочерей и рождение внуков. Той, которой суждено было стать его бабушкой, повезло более других – ею увлекся молодой чекист с забавной крохотной фигуркой мальчика-подростка и столь же смешной фамилией Тишкин. Увлекся серьезно, вскоре просил ее руки и получил согласие.
Смешными у деда-чекиста были только рост и фамилия – во всем остальном, это был человек крайне серьезный и крайне последовательный. В двадцать семь лет он возглавил ЧК маленького городка, в тридцать семь – был крупным чином НКВД и жил с семьей в Москве в огромной по тем временам квартире в доме на проспекте Мира. К пятидесяти маленький чекист Тишкин стал генералом госбезопасности и уже до самой своей смерти в шестьдесят седьмом году бессменно возглавлял одно из управлений на Лубянке, снискавшее довольно мрачную славу.
Много позже, изучая новейшую отечественную историю в школе, а затем и в институте, он тщетно силился понять, как умудрился дед пережить и даже благополучно пересидеть многочисленные лубянские чистки. Складывалось впечатление, что каждая новая сокрушительная волна разоблачений и массовых их репрессий его, напротив, подбрасывала вверх к новым должностям, званиям и кабинетам, с каждым разом все более и более величественным, поражавшим всего своими размерами – маленький Тишкин, видимо, исподволь все же компенсировал свои комплексы и таким способом. Про другие – ходили особо мрачные слухи.
Однако ж, спросить об этом деда он не посмел бы никогда, будь тот и жив, когда подобные вопросы впервые возникли у внука. Впрочем, надо сказать откровенно, особо они его никогда не занимали.
Дед умер, когда ему исполнилось восемь лет, и маленькому Диме показалось, что в этот момент вся семья дружно опустилась с цыпочек, на которых передвигалась предыдущее время. Впервые став на полную стопу.
Впрочем, пока был жив дед, это – опять же – никого особенно не тяготило.
Бабушка умудрялась украшать суровый большевистский быт, диктуемый мужем, при помощи прислуги – горничной и кухарки, заливной осетриной, кулебякой с визигой, и запеченным боком барана. В доме была мебель, карельской березы, вывезенная в сорок пятом из оккупированной Германии, кружевное постельное белье и скатерти того же происхождения, вкупе с картинами известных – как выяснилось позже – мастеров, фарфором и прочей домашней утварью, отлитой преимущественно из благородных металлов.
В отсутствие деда – а он бывал дома редко, предпочитая последние годы, большую дачу в Валентиновке – бабуля не оставляла и своих музыкальных и литературных экзерсисов, охотно посвящая оставленного на попечение внука в тайны петербургского света, известные от русской княгини-народницы, расстрелянной, к слову, в двадцатом, за связь с белоофицерским подпольем. Вероятно – кстати – не без ведома чекиста Тишкина.
Но об этом бабушка вспоминать не любила.
– Все дело в бабушке, именно в ней, – так решил он, рассеянно обозревая окрестности Парижа, мелькавшие за окнами машины. – Загадочные столичные графья, князья были ее неутоленной страстью, ничего удивительного, что ее же любимый Вертинский навеял кладбищенские мотивы. Удивительно другое – как это все ее аристократические заморочки не стоили деду карьеры, а то и головы. Но с дедом вообще много чего удивительного.
Кладбище, – сказал Манэ, сделав ударение на втором слоге. Прозвучало торжественно и немного таинственно. Манэ уже аккуратно парковал машину возле неброских кладбищенских ворот, осененных тенью пышных крон. – Там внутри есть русская церковь. Вас проводить? – Видно было, что ему совсем не хочется бродить по кладбищу, пусть и овеянному славой. К тому же на улице было жарко.
– Нет, спасибо. Я поброжу недолго, оставайтесь здесь. – Ему действительно не нужны были провожатые, он был абсолютно уверен, что прогулка не займет много времени. В конце концов, это был всего лишь каприз, навеянный минутными воспоминаниями детства. Так размышляя, он покинул машину.
Стояло лето одна тысяча девятьсот девяносто восьмого года.
Его звали Дмитрием Поляковым, от роду было ему тридцать девять лет.
В недавнем прошлом был он женат, но теперь состоял в разводе, весьма успешно занимался бизнесом и жил постоянно в Москве.
Двадцатый, страшный век пришел на планету, и шквал немыслимых испытаний обрушился на головы людей. Словно кто-то, впуская в дом новое тысячелетие, неплотно притворил дверь, в оставленную щель – сначала тонкой струйкой, а после полноводным потоком – хлынули страдания и беды.
Еще не грянули залпы на подступах к Зимнему дворцу морозным январским днем 1905-го, не свистели в воздухе нагайки казаков, а вздыбленные кони не казались ожившими творениями Анненкова.
Еще не стреляли в Сараево, и жив был несчастный эрцгерцог Фердинанд
Но уже в холодном и сыром, «чахоточном» воздухе Питера, под серым небом, низко лежащим на крышах домов, была разлита тревога и ожидание грядущих страшных перемен.
Лихорадочное сумасшедшее, замешанное на крови, веселье бушевало в городе.
В известных светских салонах, сияющих хрусталем и бриллиантами, в пристанищах богемы, пронизанных кокаиновым туманом, сумасшедшими спорами и безумными виршами, в грязных трактирах на темных рабочих окраинах – всюду веселились одинаково:, так, словно нынешняя ночь окаянная и последняя не только в жизни, но и на всей планете. А далее – темень, хаос, небытие окутают мир, и в нем ничего: ни вечной жизни, ни расплаты, ни Страшного Суда. И нет над ними более Великого Судии и ничего нет, кроме темных, холодных, пронизанных страхом и пороком ночей.
Смутные, страшные, одни отвратительнее другого, слухи, грязными тяжелыми волнами несла по городу молва, как безразличная ко всему темная холодная река катила волны в гранитных коридорах набережных. Но и они уже не потрясали умы, не заставляли трепетать сердца, ибо нечеловеческое, дьявольское веселье прочно поселилось в городе, рука об руку с тупой апатией узника, приговоренного к скорой смерти.
Так и жили с начала века.
А слякотной и промозглой декабрьской ночью встречали год 1917-й.
Был уже четвертый час пополуночи.
Сильно шумела молодежь в гостиной. Громче других разносился пьяный голос Стивы – младшего сына, Степушки, звавшего всех ехать в какой-то кабак на Васильевском. Он спешил быстрее покинуть дом, чтобы там, без родительских глаз, разгуляться уж так, как привык последние годы.
Пусть едет – ей и вправду было все равно – сын давно стал далеким, чужим молодым мужчиной, из той породы, что всегда вызывала гадливое отторжение.. Но с этим теперь ничего поделать было нельзя. В душе она желала, чтобы он поскорее покинул дом, женившись или поступив на военную службу.
Плохо было то, что они непременно утащат с собой Ирину – семнадцатилетнюю красавицу – младшую, последнюю, дочь, но даже и с этим бороться не было сил.
К тому же страшное подозрение вот уже несколько месяцев снедало душу. Глаза Ирины – и без того огромные – последнее время казались неестественно расширенными, словно безумными. Блестели фарфорово, как у дорогой, искусно исполненной куклы. Речи были туманны и невнятны. Она бывала лихорадочно активна, все порывалась что-то делать – писать стихи, сочинять музыку, немедленно ехать в госпиталь, и там ухаживать за самыми тяжелыми ранеными. Потом вдруг начинала бранить государя, правительство, доказывала неизбежность срочных революционных перемен.
Потом – надолго впадала в апатию, похожу на транс. Часами сидела, не меняя позы, не отводя невидящих глаз от какой-то одной случайно избранной точки.
Она все более утверждалась в мысли, что дочь сражена порочным недугом наркомании, и не знала способов, с этим бороться.
Все чаще ей доносили, что Ирина сопровождает брата во всех его похождениях, и теперь они оба возвращались домой под утро, почти не таясь, лишь слегка приглушая голоса, проходя мимо комнаты матери. А после, до самых сумерек оставались в постелях и выходили к чаю, когда зажигались под окнами газовые фонари, измотанные, помятые, будто и не спали вовсе.
Она почти не говорила с ними, если не считать обыденных фраз, без которых невозможно обойтись, живя под одной крышей, и совершенно не имела представления, как станут жить дальше.
В будущем мерещилось ей что-то ужасное настолько, что даже не могла себе представить этого более или менее определенно, и сердце в груди почти переставало биться, замирало, предчувствуя страшную кончину.
Ужасным было и то, что некому было рассказать о постигшем несчастии. Несколько лет назад она овдовела, и, кроме двоих детей, рядом не было ни одной близкой души. Делиться подобным с приятельницами не принято было в их кругу. И память о покойном муже не позволяла вынести позор из стен прославленного дома.
В молодости она была душевно близка с сестрой – Ольгой. Но та каким-то непостижимым образом, – потому что и увлечения, и верования и представления о жизни у них – казалось – были безумно схожи, – вдруг решительно отреклась от мирской жизни, со страшным скандалом покинула родительский дом и приняла постриг в небольшом монастыре на юге России. Они переписывались изредка, но все реже и реже, потому что каждой – жизнь другой казалась далекой и неинтересной – писать, стало быть, было не о чем. Сейчас ей было лишь известно, что сестра жива, по-прежнему монашествует далеко на юге. Но мысли, написать ей о теперешней беде не приходило в голову – Ольга стала совершенно чужим человеком. Д даже облик в памяти был размыт и переменчив. Иногда сестра вспоминалась ей одной, а иногда совершенно иначе. Перебирая в минуты особой тоски старые семейные фотографии, она с удивлением смотрела на молодую девушку с глубокими, тогда уже строгим, задумчивым взглядом и тяжелой косой, переброшенной через плечо.
Громко хлопнула дверь парадной – дети покинули дом. Ей не хотелось даже думать о том, куда они направились теперь.
Стараясь не шуметь, прислуга убирала посуду в гостиной, боясь потревожить сон хозяйки.
Была половина четвертого утра.
Наступил год одна тысяча девятьсот семнадцатый.
В девичестве ее звали княжной Ниной Долгорукой.
Теперь же ей шел пятьдесят третий год и она звалась баронессой фон Паллен.
День и впрямь выдался жарким.
Он ощутил это сполна, едва покинув прохладный салон автомобиля и ступив на раскаленный асфальт мостовой.
Однако уже через несколько минут зной перестал быть нестерпимым и даже просто раздражать – он шагнул за кладбищенские ворота, а там под сенью деревьев в тиши и покое дышалось иначе. Воздух был пропитан ароматом цветущих кустарников, молодой травы и свежей земли, особенно сильным в жарком мареве дня, но именно это и скрадывало жару.
Чем-то еще был насыщен этот воздух, и он не знал тому названия, но именно так всегда пахнет на кладбищах, причем именно на юге.
Много лет назад, когда живы были еще родственники в маленьком южном городке, бабушка наезжала к ним каждое лето. И непременно тащила его с собой. Там они обязательно ходили на кладбище, посещая многочисленные могилы умершей родни. На это уходил, как правило, целый день. Он хорошо помнил маленькое ухоженное кладбище с аккуратными дорожками, посыпанными гравием, и строгими скорбными пирамидальными тополями, обрамляющими главную аллею, и даже название его помнил до сих пор – кладбище называлось «Госпитальным». Сейчас знаменитое на весь мир русское кладбище в предместье французской столицы каким-то образом напомнило ему то, далекое, провинциальное, теперь, возможно, уже и стертое с лица земли какими-нибудь новостройками.
Еще он вспомнил, что однажды спросил у бабушки, почему кладбище называется госпитальным, и она объяснила: сначала здесь хоронили солдат, скончавшихся от ран в госпитале во время войны.
– Какой войны? С фашистами? – он пребывал в том возрасте, когда мальчишек весьма интересуют военные истории и войны вообще.
– Господи, конечно же нет, глупенький, – ответила бабушка, – Гражданской войны, с белыми. Пойдем, я покажу тебе монумент красным солдатам.
Они довольно долго пробирались в дальний конец кладбища, к самой ограде, здесь дорожки были запущены, кустарники и высокая трава отвоевывали себе куда больше пространства. Но бабушка была женщиной целенаправленной – в конце концов они выбрались на маленький пятачок, в центре которого высился небольшой обелиск из белого камня, увенчанный красной звездой. «Героическим бойцам Красной гвардии, павшим в борьбе с белогвардейскими мятежниками. Октябрь 1921 года» – такие слова были высечены на обелиске, а три белые мраморные плиты под ним испещрены именами солдат революции. Бронзовое тиснение кое-где облупилось, слова читались с трудом, но дежурные венки – правда, весьма пожухлые, оплетенные выцветшими в желтизну, некогда алыми лентами, подпирали обелиск со всех сторон. Из чего следовало, что память красных бойцов по-прежнему чтят.
Бабушка, однако, осталась недовольна и, осуждающе покачивая кружевным старорежимным зонтиком, грустно заметила:
– А ведь здесь похоронены и дедушкины товарищи: чекисты, убитые мятежниками.
Он – однако ж – почти не расслышал, потому что внимательно изучал какие-то странные бугорки, прилепившиеся к щербатой кладбищенской стене, густо поросшие высоким бурьяном, из-под которого проглядывалась гниющая листва.
Там что, мусор складывают?
Проблема мусора взволновала его не случайно, бабушка была великой аккуратисткой: засохшие цветы и черепки разбитой вазочки, собранные с могилы родственников, не выбросила за ограду, а педантично сложила в пластиковый пакетик, который поручила ему донести до помойки возле кладбищенских ворот. Пакетик сильно обременял, и сейчас он обрадовался возможности от него избавиться, но ошибся.
Более того, бабушка отчего-то рассердилась.
– Нет, не мусор. Что ты везде суешь свой нос! Там зарыты преступники. – Она схватила его за руку и почти поволокла назад, но он не обратил на это внимания – так был потрясен услышанным.
– Как зарыты? Без гробов? – Почему-то он именно так представил себе значение слова «зарыты». В другом случае она, наверное, сказала бы – похоронены.
– Господи Боже мой! Что ты несешь? Откуда я знаю, как они зарыты? – Они почти бежали по заросшей тропинке, пробираясь к центральной аллее, но он не унимался.
– Какие преступники, бандиты?
– Белогвардейцы, мятежники. Они убили дедушкиных друзей, я же говорила тебе, ты ничего не слушаешь. – Бабушка почти плакала, но в него словно вселился бес.
– А кто их зарыл?
– Да замолчи ты, прости, Господи, душу мою грешную! Это не ребенок, а наказание Господне! Откуда я знаю, кто их зарыл? Солдаты, наверное, или заключенные… Все, немедленно закрой свой рот, и чтобы я тебя больше не слышала! Мне сейчас будет плохо с сердцем!
Этого он боялся. Когда бабушке становилось плохо с сердцем, пугался даже дедушка. Говорили, что у нее стенокардия или грудная жаба. От одного этого названия хотелось плакать. Теперь он немедленно замолчал, и тема была закрыта.
А потом он просто все это забыл, чтобы тридцать с лишним лет спустя, вдруг вспомнить отчетливо и ярко, ступив на тенистые аллеи русского кладбища Сент Женевьев-де Буа под Парижем.
«Странная все же штука, наша память», – подумал он, но долго предаваться размышлениям пришлось, внимание оказалось приковано к могильным плитам и надписям на них. Он медленно читал их, шагая вдоль безлюдных аллей, и едва ли не слышал, как тихо шелестят страницы истории. Или вдруг оживали в памяти поэтические строчки, отзываясь на имя, высеченное на мраморе.. Душа же пребывала в состоянии удивительного покоя и умиротворения, которое редко испытывал в своей суетной жизни.
И не было ни печали, ни тоски.
Не скорбью веяло от старых плит, а тихой светлой грустью.
И это редкое состояние души, вместе с удивительным, ни на что не похожим ароматом, растворенным в горячем воздухе, было так приятно и даже восхитительно (хотя в обыденной жизни он был чужд какому бы то ни было пафосу и уж тем более чувствительной восторженности), что хотелось, чтобы это длилось вечно.
Он не замечал времени и все шел и шел вдоль величавых надгробий, не чувствуя усталости и не намереваясь возвращаться в машину, по крайней мере в ближайшие часы.
Был рабочий день, аллеи кладбища совершенно безлюдны, поэтому он сразу заметил на женщину, неподвижно стоящую возле одной из могил в самой старой части кладбища.
Он как раз направлялся туда и несколько замедлил шаг, размышляя, прилично ли будет пройти мимо.
Очевидно было, что это не праздная – как он – посетительница знаменитого кладбища – пришла поклониться какой-то родной могиле. Однако ж, путь его лежал как раз по этой аллее, и он решился, пройти рядом, стараясь, не потревожить ее своим присутствием.
Надо сказать, что в обычной жизни он не был столь щепетилен, напротив, многие – возможно и справедливо – упрекали его, как раз в отсутствии деликатности, излишней жесткости, и полном пренебрежении чужими интересами. Таковы, впрочем, были нравы его круга.
Но сейчас, под сенью старого кладбища, с ним творилось действительно нечто не совсем обычное, по крайней мере, состояние, которое он испытывал, было настолько непривычно и наполняло душу таким трепетным, незнакомым чувством, что он действительно, и совершенно искренне притом, боялся потревожить незнакомую женщину у чужой, неизвестной могилы. Потому старался ступать как можно аккуратнее, но, исподволь все же разглядывал хрупкую фигуру, к которой медленно приближался.
Он сразу про себя назвал ее хрупкой, и первое впечатление было как нельзя более верным – женщина была небольшого тоненькой и небольшого роста. Держалась она очень прямо, отчего напоминала балерину. Тому способствовали, наверное, еще и руки, по-балетному скрещенные на груди. Лица ее он не видел, но хорошо разглядел тяжелые темные волосы, низко собранные на затылке в большой пучок, который, казалось, тянул маленькую голову назад, отчего и голову она держала очень прямо, высоко подняв подбородок. Виделось в ее облике что-то ужасно несовременное, хотя строгий черный костюм, был вполне современного покроя, и узкая юбка высоко открывала стройные ноги, обутые в черные лодочки на очень высоком каблуке. К тому же он абсолютно был уверен, что женщина молода, хотя внешность француженок, даже при самом ближайшем рассмотрении зачастую оказывается обманчивой: такой фигурой вполне могла обладать его ровесница, и дама значительно старше. Но эта была молодой – лет двадцати – двадцати двух, не более, он готов был спорить на что угодно.
Он двигался по аллее как зачарованный, не смея отвести от незнакомки глаз, и это было еще одной странностью сегодняшнего состояния.
Дело в том, что женщина была совершенно не в его стиле: ему никогда не нравились субтильные, мелкие брюнетки – в своих пристрастиях был более проще и ближе принятым теперь традициям.
Он поравнялся с ней, ступая едва ли не на цыпочках, боясь перевести дух, но обостренное – как прочие чувства – обоняние различило тонкий запах духов, конечно, совершенно незнакомый и тоже какой-то несовременный. Терпкий и слегка горьковатый запах влажной листвы, какого-то экзотического растения.
Глаза – между тем – через плечо незнакомки, стремительно и словно воровато читали в надпись на скромном памятнике черного гранита: «Барон Степан Аркадьевич фон Паллен. 1896 – 1959. Упокой, Господи, душу раба твоего».
«Фон Паллен», – повторил он про себя, не замечая, почти остановился за спиной незнакомки.
Это имя ничего не говорило ему.
Но подумать об этом он не успел.
Женщина медленно повернулась к нему, и первое, что он увидел, почему-то была шляпка. Соломенная черная шляпка с широкими полями, отороченными паутинкой вуали, – именно потому она так необычно держала руки на груди – прижимала к себе шляпу.
Потом он взглянул ей в лицо и был поражен, хотя никак нельзя было сказать, что оно безупречно красиво.
Поражали глаза – огромные, совершенно немыслимого и не виданного никогда фиалкового цвета, они казались особенно яркими под густыми черными ресницами и гордыми, красиво очерченными бровями. К тому же она была довольно смуглой, и это еще больше подчеркивало фантастический эффект глаз.
– Вы русский? – обратилась она к нему низким хрипловатым голосом. Говорила без малейшего акцента, но то, как произнесла эти два слова, было так же необычно и странно, как ее глаза.
Ехать они решили на авто, которое недавно приобрел Стива, хотя это было и неразумно и рискованно.
Во-первых, их было много – и трудно было себе представить, что все смогут поместиться в небольшой салоне. а во-вторых, Стива еще очень плохо управлялся с новой игрушкой и дважды уже чуть не задавил пешеходов на мостовой, едва не столкнулся с извозчиком, к тому же был ь сильно пьян и даже идти мог с трудом.
Но в этом-то как раз и было все дело – пьяны в той или иной степени были все – и всем, как раз, хотелось неразумного и рискованного.
Каким-то невероятным образом они поместились на обитых блестящей малиновой кожей сиденьях автомобиля, Стива взгромоздился за руль, и машина помчалась по темным промозглым улицам.
Даже намека не было этой ночью на новогодний мороз, зима стороной обходила столицу империи, словно боясь замарать свои белые одежды.
Они поехали в «Самарканд», к цыганам, намереваясь по-настоящему начать праздновать там. Дома было ужасно скучно, невыносимо жаль maman, с ее грустными, как у лошади, глазами, и вечной потугой, сохранить хорошую мину при плохой игре. Их гости были ей ужасны, но она через силу улыбалась, стараясь быть любезной. Пьяный Стива пугал ее, и она смотрела на него с ужасом уездной гимназистки, но с любовью и таким страданием, что у Ирэн сжималось сердце. О себе ей думать и вовсе не хотелось, maman конечно же обо всем давно догадалась, но заговорить об этом не смела, именно не смела, словно это она была младшей дочерью Ирэн, а не наоборот.
Вообще отношение к maman у Ирэн было крайне противоречивым – она и любила, и жалела ее, рано увядшую, одинокую, безнадежно отставшую от жизни, но эти чувства терзали ее душу – причем иногда до слез – только когда maman не было рядом. Но стоило ей взглянуть в большие, добрые и безмерно глупые глаза maman, услышать ее тихий глуховатый «голос, которым она сбивчиво, невнятно и всегда совершенно некстати говорила что-то скучное – в груди Ирэн немедленно поднималась волна холодного бешенства. И если, сдержавшись, она не грубила откровенно, то демонстративно поступала так, чтобы больнее задеть maman.
Конечно, она могла быть куда более изобретательной и сделать так, что maman никогда не догадалась бы о ее модном пороке, но дело именно и заключалось в том, что она этого хотела. И, видя отчаяние матери, испытывала нечто похожее на мстительную радость.
При всем, при том Ирэн фон Паллен не была ни жестоким, ни даже просто злым существом.
Напротив, порой она казалась себе излишне сентиментальной, могла ночами напролет рыдать, представляя какую-нибудь душещипательную историю со своим участием. К примеру, трагический роман со скоротечной чахоткой в итоге. Или героическое подвижничество где-нибудь, на самом кровавом участке фронта. Или свой уход в революцию с неизбежной виселицей в финале.
Она обладала богатой фантазией, что было, видимо, все-таки следствием воспитания maman, могла часами придумывать новые истории про себя, проживая их, как если бы они происходили на самом деле.
В этих фантазиях она всегда была отважна и благородна, часто знаменита и обязательно кем-нибудь безумно любима.
В реальной жизни все было скучно, пошло и уже к восемнадцати годам изрядно ей надоело.
Баронесса Ирина фон Паллен была девушкой ослепительно красивой, хотя черты ее лица мало соответствовали представлениям об абсолютной красоте. Она была смугла, скуласта, нос был несколько крупноват, хотя и отмечен красивой горбинкой, к тому же с подростковых лет сохранила она какую-то болезненную худобу и некоторую истерическую резкость движений. Однако все недостатки меркли, когда распахивала она свои нечеловечески красивые глаза – огромные, густого фиолетового цвета, какой в природе встречается только у некоторых редких сортов цветов. Их иногда называли фиалковыми, но ошибались – листья фиалок были куда более бледны. Кроме того, глаза ее как бы переливались под густыми темными бровями, то сияли ярко, словно подсвеченные изнутри, то наливались чернотой. Тогда фиолет только угадывался в них, как в черных сапфирах угадывается яркая синева собратьев.
К тому же Ирэн фон Паллен была девушкой баснословно богатой.
Ее отец – барон фон Паллен, удачливый фабрикант и банкир, наследовавший в ранней молодости финансовую империю европейского масштаба, фамильное добро умножил многократно. И к моменту своей скоропостижной смерти оставил огромное состояние, заключенное в акциях процветающих предприятий, золотых приисков, крупных банков, недвижимости и земельных владений в России и серьезных банковских вложениях за ее пределами. О нескольких доходных домах в Санкт-Петербурге, собственном особняке на Литейном, имении в Крыму, конном заводе на Кубани и огромной коллекции живописи и драгоценностей говорить уже не приходилось. Наследовали все эти несметные богатства трое: вдова фон Паллена – баронесса Нина Дмитриевна, урожденная княжна Долгорукая, и двое их детей – сын Степан Аркадьевич и дочь Ирина Аркадьевна фон Паллены.
Надо ли говорить, Ирина Аркадьевна с раннего девичества отбоя от поклонников не знала, десятком из них – по крайней мере – была искренне и преданно любима. И более того: юнкер, принадлежащий к древней, славной фамилии, стрелялся из-за ее холодности, к счастью – не до смерти.
Однако все это было Ирине Аркадьевне скучно и не имело ничего общего с теми фантазиями, которыми она грезила по ночам.
В то же время о скверном характере молодой баронессы в столице империи ходили легенды.
Она была взбалмошна, капризна, истерична – и часто устраивала совершенно непотребные публичные сцены, либо надолго впадала в черную меланхолию, часами молчала, не реагируя на обращенные к ней слова, и вдруг начинала бурно рыдать или говорила что-то странное, невнятное, напоминающее мистический бред медиумов, глядя перед собой огромными невидящими глазами.
Единственный человек, не вызывающий в ней – причем в первые же минуты знакомства – смертельной скуки и желания беспрестанно дерзить и говорить холодные унизительные гадости, был старший брат Стива, репутация которого в свете была, к слову, многим хуже, нежели ее собственная.
В ранней юности, едва начав осознавать себя женщиной, – а это случилось с ней рано – на тринадцатом году жизни, – она отчаянно влюбилась в брата, и, подкарауливая его, пьяного, когда под утро – таясь живого еще папеньки – тот пробирался к себе, с упоением первой страсти подглядывала за ним везде, куда могла незаметно пробраться.
Однажды он поймал ее за этим занятием, и после этого происходило между ними много такого, что наверняка свело бы добродетельную маменьку в могилу, узнай она о том ненароком.
Однако Стива был изрядным трусом и не позволил им зайти слишком далеко, хотя, с детским восторгом предаваясь новым ощущениям, она все время требовала большего. Он изрядно просветил ее в искусстве плотской любви, сумел разбудить в детском теле женщину. Но и только. Тогда – Ирэн перестала искать его ласк, и со свойственной решительностью отдалась, по сути, первому встречному – учителю латыни, приглашенному в крымское имение на лето. К тому времени ей едва исполнилось четырнадцать лет.
С той поры брат перестал существовать для Ирэн, как мужчина Она без труда находила себе новых партнеров, потрясая тех неожиданным темпераментом и отменным владением приемами сексуального наслаждения, при полном отсутствии каких-либо чувств и яростном нежелании вести разговоры о любви. Она занималась любовью с упоением и более не желала ничего об этом знать и думать.
Брата же – теперь любила настоящей сестринской любовью, прощая ему многочисленные пороки, грубость, подлость, зачастую, адресованную сестре.
Ей всегда были интересны его затеи, как дурны они ни были, и, надо сказать, что, будучи личностью довольно ограниченной и исключительно самовлюбленной, Стива честно признавал: лучшего советчика и сообщника в его начинаниях, не посылала ему судьба.
В ресторане было шумно, пьяно, весело и страшно накурено – хрустальные люстры, как целомудренные палантины – дамские плечи, плотно окутывали сизые клубы дыма, а плечи и декольте дам, напротив, были открыты сверх меры, облиты потоками бриллиантов, сапфиров, жемчуга и прочих драгоценностей, мерцавших ярче хрустальных подвесок люстр.
Уже мало кто слушал надрывные перепевы цыган, все громко говорили, почти кричали, стараясь быть услышанными в сплошном гуле человеческих голосов, музыки, звона бокалов и посуды.
Было много знакомых лиц. Кто-то – так же, как они – приехал только что, встретив Новый год дома. Кто-то провел всю праздничную ночь в ресторане. Все были пьяны, лихорадочно – как и все последнее время – веселы. Все жаждали новых, острых ощущений и еще чего-то, что, сгустившись, висело в прокуренном пространстве, напоенном ароматом вин, еды и разгоряченных человеческих тел.
Возможно, имя всему этому было – порок, но сейчас никто об этом не думал.
Они не задержались в ресторане, а, соединившись с еще одной компанией, решили ехать на Васильевский, в гости к кому-нибудь из признанных кумиров богемы, там – в большинстве – проживающих.
К Ворону! – пьяно закричал кто-то и тут же осекся, словно сам испугался своей дерзости.
Но было поздно – призыв был услышан.
К Ворону!
Сердце Ирэн дрогнуло и сжалось. Такое случалось с ней редко – несмотря на все истерики и меланхолию, она была смелой и даже отчаянной женщиной.
Сейчас она испугалась, но это было не мудрено. Под псевдонимом Ворон скрывался странный поэт, ставший вдруг удивительно модным, Стихи его были дурны, дышали мрачной злобой и унынием, в них ничего нельзя было толком понять, но тогда многие писали так. Однако, между строк у этого жили какие-то особенно пугающие тени, призраки и видения, неловкие рифмы были как-то особенно жутки, и часто, откладывая книжку журнала, она ощущала приступ беспричинного ужаса, холодным туманом наплывавшего из темных углов.
Слухи о нем ходили еще более зловещие. Одни говорили – к примеру – что поэзия, лишь мимолетный каприз страшного человека – то ли разбойника, то ли боевика-революционера, руки которого по локоть обагрены человеческой кровью. Другие утверждали, что псевдоним скрывает уже очень пожилого человека, посвятившего себя изучению оккультных наук и немало в том преуспевшего. Говорили: он долго скитался по свету, достигнув самых отдаленных и загадочных мест – был с экспедицией на Тибете и в африканских джунглях, где обучился кровавым магическим ритуалам. Словом, говорили много разного, но непременно туманного и пугающего, как и сами стихи Ворона. В чем, впрочем, не было ничего из ряда во н выходящего. Имперская столица тогда кишела странными и страшными слухами и бурлила ими, как чаша, переполненная до края напитком опасным: пьянящим и обманчивым.
Слухов было много, но верить большинству – конечно же – было нельзя.
Но как бы там ни было, имя Ворона пугало и манило многих.
– К Ворону! – с энтузиазмом поддержал предложение и Стива. – Поедем, mon ange, честью клянусь, ты не пожалеешь.
– Разве вы знакомы? – спросила она брата, зябко переступая ногами, обутыми в тонкие атласные туфельки, расшитые бисером, по грязной снежной кашице, – с неба беспрестанно сыпала мелкая ледяная изморозь – нечто среднее между дождем и снегом и тротуар покрылся мокрой холодной грязью.
– О-о-о! Знакомы ли мы! Да мы приятели! Нет, что это я вру – он друг мне! Вот так именно – друг! И близкий! Удивительно даже, что ты ничего не знала об этом, mon ange. Право, странно слышать от тебя этот вопрос. Ха! Знакомы ли мы! – Пьяный Стива говорил громко и возбужденно.
Но Ирэн слишком хорошо знала брата, чтобы поверить ему. Совершенно определенно – Стива врал. Возможно, когда-нибудь, мельком, он и видел таинственного поэта, но уж точно не был приятелем и тем более другом. Однако то, что Стива так просто, в обычной своей развязной манере говорил об этом человеке, несколько успокоило Ирэн. Волнение улеглось, и ей теперь было просто любопытно взглянуть на того, о ком говорили так много и так странно.
Сейчас она была почти трезва – опьянение шампанским прошло вместе с лихорадочным радостным возбуждением, ее пеленала вязкая сонливость, голова становилась все более тяжелой, готова была вот-вот разболеться всерьез. Она хорошо знала, что выйти из этого состояния может только одним способом – вдохнув солидную порцию кокаина – тогда прояснится сознание, придут фантастические идеи, все как одна радужные и воздушные, как чистый снег, летящий из прозрачной синевы, тело станет легким, гибким, звонким – потребует неистовых ласк, которые она наверняка обретет этой сумасшедшей, пьяной новогодней ночью.
Но за кокой – уж точно – надо было ехать на Васильевский.
Мысли о Вороне отступили у нее на второй план. Авто, отчаянно сигналя звонким фальшивым клаксоном, рискованно виляя корпусом на поворотах, неслось по ночному городу, безмолвному и, казалось, безразличному ко всему, что происходило нынешней ночью в глухих каменных лабиринтах.
– Что, говоришь, здесь было?
– Сначала психушка, а до нее – монастырь, потом опять хотели монастырь, но денег не нашли. Теперь – пустует, уже года два, может, и больше. Хорошее место, Мага, дело говорю.
– Повтори еще раз, но так, чтобы понятно было всем. Кто из нас не русский, я что-то не пойму, ты, Граф, или я? Ты что-нибудь понял, Аха?
– Был монастырь, из-за горы и нынче видит пешеход столпы обрушенных ворот…
– Это что такое?
– Это не что, Мага, а кто. Это Лермонтов, великий русский поэт. Ты в школе учился?
– Учился, не умничай, литератор. Так что здесь было? Кто-нибудь из вас будет говорить?
– Только не бей, Мага, только не бей, я все скажу. – Тот, кого назвали Графом, изобразил крайний испуг, в панике замахал руками, и сам, первый, громко рассмеялся своей шутке.
Двое других ее не оценили.
Мага, высокий широкоплечий чеченец, смуглый, с яркими зелеными глазами, отмеченный какой-то свирепой красотой то ли истинного горца, из какой-нибудь исторической драмы, то ли героя второго плана из современного боевика. Он не был старшим среди них ни по возрасту, ни по рангу, но привычка принимать ответственные решения, выработанная и отшлифованная прошлой жизнью, давала себя знать. Он невольно переходил на командный тон, не встречая, впрочем, особого сопротивления со стороны компаньонов.
Тот, кого звали Графом, возражать бы просто не посмел. На самом деле он был мелким бандитом, каковым, впрочем, считал себя сам. Настоящие бандиты, вероятно, считали его жуликом, средне руки, всегда готовым подсобить, если дело казалось не слишком опасным, чреватым большим сроком или более серьезными последствиями.
Он имел за плечами несколько лет, проведенных в заключении за разные мелкие преступления, и сейчас промышлял тем же.
Громкая кличка прилипла к нему, как водится, из-за фамилии. И то – относительно недавно. Звали его Василием Орловым. Представляясь как-то заезжему столичному предпринимателю, Васька вдруг совершенно не похоже на себя, с достоинством коротко произнес: «Орлов!» Предприниматель, хоть и был к тому моменту в сильном подпитии, отреагировал адекватно: «Граф?» Принимающая сторона, имевшая в столичных инвестициях сильную нужду, с готовностью отозвалась дружным хохотом. Впрочем, шутка, похоже, действительно удалась. После – Ваську Орленка иначе, чем Графом, уже не звали.
Он был доволен.
Третий в группе, был, действительно, старшим, единственным – уполномоченным, принимать решения. Но он был человеком творческим. В прошлой, довоенной жизни – было дело – писал стихи и философские эссе, образование получил в престижном московском институте. Война сильно изменила его, но и теперь он мог позволить интеллигентскую роскошь, не следить за соблюдением формальностей и, легко уступив видимую часть руководства, отстраненно цитировать Лермонтова, которого, на самом деле, любил.
Никто из двоих чеченцев не засмеялся шутке Графа, хотя причина у каждого была своя.
Дня Маги это была несмешная шутка, ибо был убежден – бить человека дело вполне серьезное, чему ж тут смеяться?
Ахмет – предпочитал Графа просто не замечать. Презирал его трусость, которая постоянно и очевидно для всех боролась с жадностью, и наоборот.
Но Граф был местным – обоим до поры приходилось его терпеть.
Впрочем, требовалось от него, да и от них, сейчас немного – нужно было найти подходящее место для промежуточной базы основного отряда в непосредственной близости от границы Ичкерии, но на территории России. Готовилась крупная, серьезная операция с прорывом на российскую территорию, проведением мощных террористических актов и захватом заложников.
Джип Графа Орлова был настолько приметным, известным в округе каждому бандиту и милиционеру, что лучшей машины для передвижения было не найти, кроме того, он родился в этих краях, именно в этих – ныне приграничных – и знал их отменно.
Сейчас он привез их к непонятному строению, вернее целой системе ветхих построек, обнесенных сильно разрушенной стеной, совершенно одиноких в раскаленной, пыльной степи, раскинувшейся от края до края. Так – по крайней мере – казалось, стоило отъехать от околицы ближайшей станицы.






