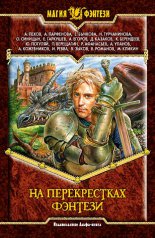Дублинцы (сборник) Джойс Джеймс

– Он родом из Уэстмита. Мы его тут частенько видим во время каникул. Мне сдается, он очень интересуется тобой.
– А, так вы с ним знакомы?
– Да. Сейчас у него что-то с коленом, он слег, а то я написал бы ему и пригласил. Может быть, в какой-то из дней мы сами прокатимся его навестить… Он, знаешь ли, необычайно начитанный человек.
– Да, – отвечал Стивен.
Для развлечения Стивена были мобилизованы военные оркестры, теннисные турниры, матчи в крикет на природе и местные выставки цветов. Во время таких событий он замечал, что перед его крестным отцом весьма открыто заискивали, а с мисс Хауард обращались с крайней почтительностью, и он начал подозревать, что за этим кроются какие-то деньги. Развлечения не особенно веселили юношу; он держался настолько незаметно, что часто его оставляли без внимания и ни с кем не знакомили. Порой какой-нибудь офицер окидывал неучтиво пристальным взглядом его неказистые белые башмаки, но в таких случаях Стивен всегда вперял свой взгляд прямо в лицо врагу. После недолгой дуэли взглядов юноша обычно достигал перемирия. Он обнаружил, к своему удивлению, что мисс Хауард исполняла свои светские обязанности с полнейшей охотой. Он был неприятно поражен, услышав однажды из ее уст шутливый каламбур – каламбур, который, не будучи слишком остроумным, тем не менее вызвал вежливые смешки двух чопорных лейтенантов. В силу солидного возраста и всеобщего почтения, мистер Фулэм мог не отказывать себе в роскоши отчитать публично кого-нибудь, когда к тому представлялся случай. [Когда] Однажды какой-то офицер рассказал с юмором историю, соль которой состояла в высмеивании деревенских представлений. [Мистер Фулэм сказал:
– Многие вещи могут быть неведомы для наших крестьян]
История была такова. Как-то вечером этот офицер с одною знакомой были застигнуты проливным дождем в глуши, на дороге в Киллукан, и им пришлось искать убежища в крестьянском домишке. Там сидел у огня старик, покуривая грязную глиняную носогрейку, которую он зажимал в углу рта перевернутою вниз. Поскольку вечер был зябкий, старик пригласил вошедших устраиваться ближе к огню, сказав, что из-за своего ревматизма он не может подняться и принять их как должно. Знакомая офицера, молодая и ученая дама, заметила над очагом какой-то рисунок, грубо сделанный мелом, и спросила, что он изображает. Крестьянин ответил:
– Внучонок мой Джонни намалевал о ту пору как цирк здеся наежжал в город. Увидал по стенкам картинки и давай-кося клянчить у мамки четыре пенса вишь ему слонов поглядеть. Ну попасть-то туды попал да только черта кривова тама энти слоны были. Ну он стало и намалевал.
Дама рассмеялась, а старик, поморгав на огонь красными глазами, продолжал посасывать трубочку ровными затяжками, шамкая сам с собой:
– А слыхать энти слоны-то грят дело обнакновенное, у них-де и разуменье ровно как у хрисьян… Однова видывал сам картинку как ездиют на них черные арапы верхами да так-то околачивают так-то охаживают дрючками што ахти мне. Пра-слово те с робятенком боле хлопот как[6] с энтими даром што аграмадины.
Молодая дама, которую это необычайно забавляло, принялась рассказывать мужику про доисторических животных. Выслушав и помолчав, старик медленно произнес:
– Пра-слово, ну и должно страхолюдные тварины на том на последнем конце света.
На взгляд Стивена, офицер отлично рассказал историю, и, когда она кончилась, он смеялся вместе со всеми. Мистер Фулэм оказался, однако, иного мнения; он стал весьма назидательно высказываться против заключавшейся здесь морали.
– Смеяться над крестьянином просто. Ему неведомо множество вещей, которые считаются в мире важными. Но мы не должны в то же время забывать, капитан Старки, что крестьянин, очень возможно, [является] ближе к идеалу истинно христианской жизни, чем многие из нас, осуждающих его.
– Я не осуждаю его, – ответил капитан Старки, – но меня это развеселило.
– Наше ирландское крестьянство, – продолжал мистер Фулэм с убежденным напором, – это становой хребет нации.
Становой иль нет, однако главное наслаждение Стивену доставляли его постоянные наблюдения за крестьянами. Физически это были образцы почти монгольского типа – грузные, угловатые, с узко прорезанными глазами. Всякий раз, когда он шел сзади какого-нибудь крестьянина, Стивен всегда[7] обращал внимание на его скулы, выступающие так резко, что, казалось, они раскалывали воздух; крестьяне же, в свою очередь, умели, видимо, распознавать черты горожанина, поскольку разглядывали юношу словно диковинного зверя. Однажды Дэна послали в город для покупки какого-то лекарства в аптеке; Стивен поехал с ним. Кабриолет остановился на главной улице у аптеки, и Дэн протянул рецепт уличному мальчишке-оборванцу, сказав, чтобы тот передал его аптекарю. Оборванец показал предварительно рецепт приятелю, оборванному не менее чем он сам, и оба вошли в аптеку. Выйдя обратно, они остались у дверей, привалившись к ним и переводя взгляд попеременно со Стивена на хвост кобылы и с хвоста кобылы на Стивена. Глубоко погрузившись в созерцание, оба не заметили, как прямо перед ними вдруг очутился горбатый нищий, который надвигался на них, сжимая палку в руке:
– Так это вы мне вчера кричали вдогонку, вы!
Два мальчугана, съежившиеся в дверях, испуганно глядя на него, отвечали:
– Нет, сэр.
– Я знаю, это вы были!
Вплотную приблизив к их лицам свою злобную физиономию, нищий начал угрожающе махать палкой.
– Зарубите себе, что я вам говорю. Видите эту палку?
– Да, сэр.
– Так вот, если будете еще мне кричать, я вас этой палкой распотрошу. Я вам отобью все печенки.
Он принялся разъяснять подробней перепуганным детям:
– Слыхали? Я вас этой палкой распотрошу. Отобью вам все нутро, все печенки.
Инцидент вызвал тупое восхищение нескольких зевак, которые расступились перед нищим, когда он заковылял дальше по тротуару. Дэн, наблюдавший сцену из кабриолета, спустился с козел и, попросив Стивена присмотреть за лошадью, направился в ближний, весьма грязного вида трактир. Стивен остался в экипаже, вспоминая физиономию нищего. Никогда прежде ему не случалось видеть в человеческом лице столько злобы. Несколько раз он наблюдал за лицами инспекторов в школе, когда те наказывали учеников широкой линейкой в коже, но эти лица казались ему не столько злобными, сколько глупыми, распаленными исполнением служебного долга. Образ пронзительных глазок нищего задел в юноше чуткую струну ужаса, и, чтобы унять острую ее дрожь, он стал насвистывать.
Через несколько минут из аптеки появился толстый и ярко-рыжий юноша с двумя аккуратными пакетиками. Стивен узнал Нэша, а Нэш узнал Стивена – засвидетельствовав это тем, что мучительно переменился в лице. Стивен мог бы насладиться сполна замешательством своего старого недруга, однако, презрев такой путь, он вместо этого протянул ему руку. Нэш был здесь помощником фармацевта, и когда он узнал, что Стивен гостит у мистера Фулэма, в его обращении появилась сдержанная почтительность. Стивен, однако, вернул его быстро к непринужденности, и когда Дэн вернулся из затрапезного заведения, двое уже оживленно болтали. Нэш заявил, что Маллингар – чертова дыра, последнее из всех мест, что сотворил Бог, и спросил Стивена, как тот его может переносить.
– Я об одном тут мечтаю – вернуться в Дублин, больше я ничего не хочу.
– А как ты тут развлекаешься? – спросил Стивен.
– Развлекаешься! Ты тут не можешь. Тут нету ничего.
– Но иногда ведь у вас концерты? В день моего приезда я видел какие-то афиши насчет концерта.
– А, с этим все уже. Патер Лохан наложил тяжелую лапу – как же, приходской пастырь.
– Почему это он?
– Ты лучше его спроси. Он говорит, его прихожане не желают куплетов и канканов. Если они хотят приличный концерт, они могут его устроить в школе. Ну, он их так приструнил, я тебе доложу.
– А, вон тут что!
– Они тут его до смерти боятся. Если он вечером заслышит, что где-то в каком-то доме поздно танцуют, стучит в окно, – и раз! – свеча мигом гаснет.
– Ну и дела!
– Факт. И знаешь, у него есть коллекция женских шляпок.
– Шляпок!
– Вот-вот. Вечерком, когда девочки выходят гулять с солдатами, он тоже выходит и, если поймает какую-нибудь, срывает шляпку с нее и уносит домой к себе, а тем, кто потом приходит, просит отдать, уж он им прописывает пилюлю!
– Какой славный малый!.. Слушай, нам пора уже. Я думаю, еще увидимся.
– Заходи завтра, ладно? У меня короткий день будет. И знаешь, кстати, я тебя познакомлю тут с моим другом – очень приличный парень – в газете служит, в «Икземинер». Тебе он понравится.
– Отлично. До завтра!
– Пока! Приходи часа в два.
По дороге домой Стивен начал задавать Дэну вопросы, а тот притворялся, будто не слышит их; если же Стивен проявлял настойчивость, он отделывался самыми краткими ответами. Было ясно как день, что он не желает обсуждать своего духовного наставника, и Стивену пришлось отступить.
За ужином в этот день мистер Фулэм был настроен общительно, и он начал явственно направлять нить беседы к Стивену. Его метод «втягивать» собеседника был не самым тактичным методом, но Стивен, видя осуществляемую стратегию, ждал, пока к нему обратятся прямо. К ужину был приглашен сосед, некий мистер Хеффернан. Мистер Хеффернан далеко не разделял воззрений хозяина, и потому в этот вечер разгорелись оживленные споры. Сын мистера Хеффернана изучал ирландский язык, ибо он считал, что ирландцам следует говорить на своем родном языке, а не на языке своих завоевателей.
– Но в Америке, где такая свобода, какой Ирландия вообще вряд ли достигнет когда-нибудь, люди совсем не возражают против английского языка, – сказал мистер Фулэм.
– Американцы другое дело. У них нет языка, который они могли б возродить.
– Что до меня, то я не возражаю против моих завоевателей.
– Потому что вы при них занимаете хорошее положение. Вы не труженик. Вы пожинаете плоды работы националистов.
– Пожалуй, вы мне начнете сейчас говорить, что все люди равны, – заметил иронически мистер Фулэм.
– Что же, в этом есть смысл.
– Скорей бессмыслица, дорогой сэр. Наши соотечественники не ведают ничего о Реформации, как они ее называют, и я надеюсь, [это] они пребудут в том же неведении о французской революции.
Мистер Хеффернан вернулся к исходной теме:
– Но им бы заведомо не повредило узнать кой-что о своей собственной стране – о ее традициях, истории, языке!
– Для тех, у кого масса досуга, это может быть и неплохо. Но я, как вам известно, противник всяческих подрывных движений. Наш жребий бесповоротно с Англией.
– Юное поколение с вами не согласно. Мой сын, Пэт, сейчас обучается в Клонлиффе, и как он мне рассказывал, там все семинаристы, а им завтра быть нашими священниками, имеют такие настроения.
– Католическая Церковь, дорогой сэр, никогда не будет подстрекать к мятежу. Но здесь вот с нами один из юного поколения. Пускай он выскажется.
– Я совершенно равнодушен к принципам национализма, – сказал Стивен. – У меня достаточная личная свобода.
– И вы не чувствуете никакого долга перед родиной, никакой любви к ней? – вопросил мистер Хеффернан.
– Честно говоря, нет.
– Но в таком случае вы живете как животное, лишенное разума! – воскликнул мистер Хеффернан.
– Мой собственный разум, – отвечал Стивен, – для меня более интересен, чем вся страна.
– Вы думаете, пожалуй, что ваш разум важней Ирландии!
– Именно так я думаю.
– У вашего крестника странные идеи, мистер Фулэм. Позвольте спросить, это иезуиты вас научили этому?
– Иезуиты научили меня другому – читать и писать.
– Но и религии также?
– Естественно. «Какая польза человеку, если он приобретет целый мир, а душу свою потеряет?»[8]
– Никакой пользы, безусловно. Это совершенно так. Но человечество предъявляет требования к нам. У нас есть долг по отношению к ближнему. Мы восприняли заповедь любви.
– Да-да, я это слышу каждое Рождество, – молвил Стивен. Мистер Фулэм рассмеялся на это, но мистер Хеффернан был уязвлен.
– Возможно, я прочел меньше, чем вы, мистер Фулэм, и даже меньше, чем вы, молодой человек, но я верю, что благороднейшее чувство любви у человека, после любви к Богу, это любовь к родине.
– Иисус был другого мнения, чем вы, мистер Хеффернан, – сказал Стивен.
– Вы произносите очень дерзкие речи, молодой человек, – произнес мистер Хеффернан тоном неодобрения.
– Я не боюсь высказываться открыто, – отвечал Стивен, – даже по поводу приходских священников.
– Вы еще слишком молоды, чтобы поминать Имя Святое с такой легкостью.
– Я не богохульствую. Я сказал то, что хотел сказать. Идеал, который Иисус открывает человечеству, – это идеал отрешенности, чистоты и одиночества; идеал, который предлагаете вы, – это идеал мщения, страстей и поглощенности мирскими делами.
– Мне кажется, Стивен прав, – произнесла мисс Хауард.
– Я хорошо вижу, – сказал мистер Фулэм, – к чему ведут эти все движения.
– Но ведь невозможно, чтобы мы все вели жизнь отшельников! – воскликнул в отчаянии мистер Хеффернан.
– Мы можем примирить между собой оба образа жизни, если изберем путь добрых католиков, исполняя сначала наш долг пред Богом, а затем обязанности нашего положения в жизни сей, – сказал мистер Фулэм, с удовлетворением напирая на последнюю часть фразы.
– Вы можете быть патриотом, мистер Хеффернан, – сказал Стивен, – не обвиняя при этом в безбожии тех, у кого другие взгляды.
– Но я вовсе не обвинял…
– Хорошо-хорошо, – благодушно произнес мистер Фулэм, – мы все понимаем друг друга.
Эта небольшая перепалка доставила удовольствие Стивену; для него было приятным упражнением направить артиллерию ортодоксии на строй ортодоксов и поглядеть, как он держится под огнем. Мистер Хеффернан казался ему типичным ирландцем-провинциалом: категоричный и боязливый, сентиментальный и злобствующий, идеалист в речах и реалист в поведении. Труднее было понять мистера Фулэма. Его восхваления ирландского крестьянина полны были ярого патернализма, за истовой приверженностью к Церкви крылась приверженность к феодальным привилегиям и природная покорность той силе, в которой он видел источник этих привилегий. Он любил внедрять свои аристократические взгляды в живом стиле:
– Послушайте, мистер Такой-то, вы ведь по ярмарочным дням закупаете в городе скотинку?
– Да.
– А потом заходите[9] бега и там ставите на лошадок, какие вам приглянутся?
– Ваша правда.
– И вы гордитесь, что смыслите кой-что в скачках и в беговой породе?
– Должен признаться.
– Так как же вы тогда говорите, что у людей нет аристократической породы, если у животных она, сами знаете, имеется?
Гордость мистера Фулэма была гордостью бюргера под тяжким дорогим балдахином, который он соорудил [воздвиг] и любовно содержал. Он питал страсть к феодальному порядку вещей и не желал лучшей участи, чем быть раздавленным им, – извечная тяга человека поклоняющегося, бросается ли он под колесницу Джаггернаута, или со слезами умиления молит Бога искоренить в нем страсти, или же сладко обмирает под властной рукой любовницы. Для человека нижестоящего и с чувствительною душой его милость обернулась бы нестерпимой пыткой ума, но при этом у подателя милости не было бы ни вида самодовольного фарисея, ни фарисейского языка. Его взгляд на человеческие отношения был бы, пожалуй, прогрессивным в те эпохи, когда земля считалась ладьеобразной, и живи он тогда, он мог бы заслужить репутацию самого [мягкосердого] просвещенного из рабовладельцев. Глядя, как старый джентльмен с важностью протягивает мистеру Хеффернану табакерку и тот, запуская туда крупные свои пальцы, волей-неволей умиротворяется, Стивен думал: [к]
– Мой крестный отец – папский посланник в Уэстмите.
Нэш поджидал его у дверей аптеки, и они вместе направились по главной улице к редакции «Икземинера». В окне, поверх коричневой грязной шторы, [была] торчала [мордочка] голова белого фокстерьера, умные глаза коего были единственным признаком жизни в редакции. Послали за мистером Гарви и вскоре получили от него сообщение, чтобы два его визитера следовали в «Гревильский герб». Мистер Гарви обнаружился сидящим в баре; шляпа его была сдвинута с раскрасневшегося лба далеко на затылок. Он был занят тем, что «обхаживал» барменшу, однако при входе посетителей встал и пожал им руки. Затем, по его настоянию, они все уселись пропустить стаканчик. Барменша вновь подверглась «обхаживанию» Гарви, а также и Нэша, однако все оставалось в рамках. Она была девушкой с мягкой манерой обращения и весьма соблазнительной фигурой. Протирая стаканы, она занималась легкой беседой с молодыми людьми, кокетничая и сплетничая; казалось, вся жизнь городка знакома ей как свои пять пальцев. Один-два раза она упрекнула мистера Гарви в ветрености, спросив Стивена, не стыдно ли этакое женатому человеку. Подтвердив ее мнение, Стивен принялся считать пуговки на ее корсаже. Барменша сказала, что Стивен разумный и симпатичный юноша, не какой-нибудь ловелас, и очень мило улыбнулась ему, ловко орудуя салфеткой. Через некоторое время юноши покинули бар, но не прежде чем коснулись пальчиков барменши и приподняли перед нею шляпы.
Мистер Гарви призвал свистом терьера из редакции, и они отправились на прогулку. Он носил тяжелые башмаки и продвигался в них грузно и решительно, стуча по мостовой посохом. Дорога и реальность душного дня расположили его к рассудительности, и он принялся подавать своим спутникам здравые советы старшего.
– В конечном счете, чтоб парню остепениться, вернее женитьбы не придумаешь. Покамест не получил это место, в «Икземинере», я тут погуливал с дружками, попивал малость… Ну, ты знаешь, – адресовался он к Нэшу. – Нэ[ш][10] кивнул.
– А теперь у меня дом хороший, – продолжал мистер Гарви, – и… вечерком уже ты идешь в свой дом… ну, а захочешь выпить… что же, можешь и выпить. Совет мой каждому молодому парню, кто это может себе устроить, – женись молодым.
– Что-то есть в этом, – сказал Нэш, – конечно, когда слегка уже погулял.
– Само собой, – сказал мистер Гарви. – Кстати, надеюсь, ты ко мне как-нибудь зайдешь вечерком, и друга приводи тоже. Вы придете, мистер Дедал? Хозяйка рада будет; она, знаете, немного на пианино играет.
Стивен промямлил благодарственные слова, решив про себя, что он скорей вытерпит тяжкие физические страдания, чем нанесет визит мистеру Гарви.
Гарви начал рассказывать журналистские истории. Услышав от Нэша, что Стивен имеет склонность писать, он сказал:
– Даю ценное указание: стенография.
Он поведал много примеров, которые все иллюстрировали его бойкость и удачливость в своем ремесле, и сообщил, что однажды он «тиснул» заметку в лондонской утренней газете и получил за нее недурной гонорар тут же с обратной почтой.
– Эти парни в Англии, они, знаете, умеют наладить дело. Да и платят дай Бог.
День стоял знойный, и весь городок как будто подремывал, разомлев, но когда они подошли к мосту через канал, то заметили метрах в сорока целую толпу, которая собралась на берегу. Мальчишка из мясной лавки рассказывал обступившим его рабочим:
– Я ее первый увидал. Примечаю – чего-то там зеленое, длинное среди значица ряски ну и пошел Джо Коклана позвать. Мы с ним обое ладим вытащить, ну больно тяжело. Ну што тогда я смекаю значица нам бы ежели где багром разжиться. Ну што тогда я да Джо идем к Слэйтеру во двор на зады…
Рядом с самой кромкой воды на берегу виднелся какой-то предмет; часть его была накрыта бурым мешком. То было тело женщины: она лежала лицом к земле, подле черных густых волос натекла лужица воды. Тело было выгнуто вверх, ноги раскинуты, но на [слово оторвано] кто-то натянул [слово оторвано] ночную рубашку. Женщина прошлой ночью сбежала из лечебницы для душевнобольных, и Стивен слышал, как многие бранят санитарок.
– Лучше б ‘циентам абеспечивали уход, чем ухлестывать за каждым там докторишкой.
– Уж их такое абзаведенье.
Пес мистера Гарви стал обнюхивать тело, однако хозяин дал ему увесистого пинка, и собака сжалась в дугу, визжа. На некоторое время воцарилось молчание; не двигаясь с мест, все продолжали смотреть на тело, пока не раздался чей-то голос: «Вон доктор!» По тропке быстро спускался плотный хорошо одетый человек, не обращая внимания на приветствия; через несколько минут Стивен услышал, как он сказал, что женщина мертва, и дал указания найти телегу для перевозки тела. Трое молодых людей продолжали путь, однако Стивена пришлось сначала подождать и окликнуть. Он задержался, глядя в воду канала у ног ее тела и всматриваясь в клочок бумаги, на котором было напечатано: «Лампа. Журнал…» – остальное было оторвано, и вокруг плавали в воде еще несколько обрывков.
День уже близился к закату, когда молодые люди расстались. Стивен попрощался с приятелями, обещая повидаться вскоре опять, и пошел по тропинке, которая уходила в поля. Почва под ногами была коварной, и Стивен то и дело соскальзывал в воду, выступавшую на торфяниках. Ему удалось, однако, обнаружить широкую тропу, шедшую выше болота и столь же надежную, как проезжая дорога. Солнце снижалось, и на глубоком золоте закатных небес прочерчивались склоненные силуэты редких сборщиков торфа. Тропа вывела его к задворкам усадьбы мистера Фулэма; он перелез через ограду, пересек рощицу и достиг места назначения. На мягкой траве шаги его были совершенно бесшумны. При выходе из рощицы он резко остановился. Мисс Хауард стояла, прислонясь к высоким входным дверям, лицом к закату. Полыхающий закат покрывал ее платье ржавыми полосами и осыпал блестками ржавчины копну темных волос. Стивен направился к ней, но когда был уже в нескольких шагах
[Лакуна в сохранившейся рукописи: со с. 506 до с. 519 по нумерации Джойса]
XV
[…] все, кто с ним говорил, примешивали к ожиданию подчеркнуто вежливое недоверие. «Его [жесткие] непокорные каштановые волосы были зачесаны со лба назад, однако без особого тщания. [Лицо] Девушке он бы мог показаться привлекательным – а мог и не показаться: черты лица были правильны, и выражение смягчалось небольшим женственным ртом, почти обретая [определенно заметную] красоту. При беглом взгляде глаза не особенно выделялись на лице: они были небольшие и светло-голубые, пресекающие охоту к сближению. Хотя они были чисты и бесстрашны, его лицо вопреки этому было до некой степени лицом распутника.»
Ректор колледжа был личностью, изъятой из повседневного обращения и возникавшей в качестве председательствующего на встречах выпускников и на открытиях студенческих клубов. Зримыми заместителями его были декан и эконом. Эконом, думалось Стивену, вполне подходил к своему званию: тяжеловесный, краснолицый человек «с шапкой черных седеющих волос.» Он отправлял свою должность с большим чувством, и часто видели, как он дефилирует по вестибюлю, наблюдая за приходом и уходом студентов. Он требовал пунктуальности: опоздание раз-другой на одну или две минуты – из этого он не делал истории; хлопнет в ладоши и отпустит добродушный упрек. Но ежедневно на несколько минут – вот это уж делало его суровым: тут нарушался надлежащий порядок учебы. Стивен почти всегда опаздывал больше чем на четверть часа, и [потому], когда он являлся, эконом обычно уже сидел у себя в кабинете. Однако как-то раз он пришел в колледж раньше обычного. Перед ним по лестнице поднимался полный [юный] студент, очень усердный и робкий юноша, лицо у которого было цвета хлеба с вареньем. Эконом стоял в вестибюле, скрестив руки [у себя] на груди, и, завидев толстяка, многозначительно посмотрел на часы. Они показывали восемь минут двенадцатого.
– Слушайте, Молони, вы же знаете, что так не пойдет. Опоздали на восемь минут! Так нарушать учебный процесс – с этим мы не можем мириться. Впредь приходите на лекции точно вовремя.
Варенье на лице Молони совершенно закрыло хлеб; он промямлил что-то извиняющееся про неправильные часы и со всех ног бросился по лестнице в свою аудиторию. Стивен [немного] чуть помедлил, вешая пальто под торжественным взглядом тучного священника. Затем он неспешно повернул голову к отцу эконому и сказал:
– Чудесное утро сегодня, сэр.
Эконом тут же хлопнул в ладоши, потер их и снова хлопнул. Красота утра и уместность реплики поразили его одновременно, и он весело ответил:
– Прекрасное утро! Отличное бодрящее утро! – и снова принялся потирать ладони.
Однажды [он] Стивен явился в колледж с опозданием на три четверти часа и решил, что более благоприличной стратегией будет подождать до начала лекции по французскому. Свесившись через перила, он ожидал, когда прозвонит двенадцать; и в это время по вьющимся маршам лестницы стал медленно подниматься какой-то юноша. Не дойдя до площадки нескольких шагов, он остановился и повернул свое квадратное деревенское лицо к Стивену.
– Скажите, пожалуйста, я правильно иду в деканат? – спросил он с провинциальным выговором, ставя в слове «деканат» ударение на первом слоге.
Стивен объяснил, как пройти, и двое юношей разговорились. Новичка звали Мэдден, он приехал из графства Лимерик. Держался он не то чтобы неуверенно, но как-то слегка напуганно и был явно благодарен Стивену за его знаки внимания. После лекции по французскому они прошли вместе через Грин, и Стивен отвел нового знакомца в Национальную Библиотеку. У турникета Мэдден снял шляпу; когда он наклонился над стойкой, чтобы заполнить требование на книгу, Стивен отметил у него по-крестьянски сильные челюсти.
Деканом колледжа был профессор английского языка патер Батт. Его считали самым талантливым в колледже; он был философ и эрудит. Он прочел в клубе общества трезвости несколько докладов, где доказывал, что Шекспир был католиком; он также вел полемику с другим отцом-иезуитом, который на склоне лет стал приверженцем бэконовской теории в проблеме авторства шекспировских пьес. В руках патер Батт всегда держал ворох бумаг, а его сутана была обильно выпачкана мелом. Он напоминал по виду стареющую борзую, и казалось, что его голосовые связки, подобно облаченью, тоже в мелу. Он умел держаться убедительно с каждым и был особенно —
[Лакуна в сохранившейся рукописи: отсутствуют сс. 524, 525 по нумерации Джойса]
стиха суть главные условия, которым должны подчиняться слова, ритм – это эстетический результат чувств, ценностей и отношений слов, удовлетворяющих этим условиям. Красота стиха равно заключалась в том, что он скрывает свое строение и что он раскрывает его, но она заведомо не могла обеспечиваться только одним или другим. Поэтому манера чтенья стихов патера Батта, как и старательное чтение стихов какой-нибудь школьницей, для него были равно невыносимы. Читать стихи в соответствии с ритмом значит читать в соответствии с ударениями, то есть не в точном соответствии со стопами, но и не с полным невниманием к ним. Всю эту теорию он постарался изложить Морису, и Морис, когда он уяснил значения терминов и прилежно свел эти значения воедино, согласился, что теория Стивена правильна. Существовал лишь один возможный способ декламации первого катрена стихотворения Байрона:
- Днесь жизнь моя – оснний лист
- Цветов, плодв любви уж нет
- Лишь язвы гря, бури свист
- Остлись мне.
Братья применяли эту теорию ко всем стихам, какие могли припомнить, и результаты были великолепны. Вскоре Стивен взялся самостоятельно исследовать язык, отбирая и тем спасая для вечности слова и фразы, наиболее отвечающие его теории. «Он стал поэтом с заранее обдуманным преступным намерением.»
Его сразу же захватила кажущаяся экстравагантность прозы Фримена и Уильяма Морриса. Он прочел их произведения как тезаурус и собрал себе «житницу» из слов. Он часами читал этимологический словарь Скита, и его ум, всегда слишком готовый поддаться детскому чувству удивления, бывал часто загипнотизирован самой обычной беседой. Ему казалось, что все люди в странном неведении касательно ценности тех слов, которыми они так небрежно пользуются. И шаг за шагом, по мере того как эта недостойность жизни все более властно обступала его, он все сильней начинал любить идеализацию – более истинно человечную традицию. Это явление представлялось ему важным, и он постепенно видел, что люди объединились в заговор низости и Судьба с презрением сбавила для них свои цены. Он не желал такой скидки для себя и предпочитал служить ей на прежних условиях.
Был специальный семинар по английской литературной композиции, и именно здесь Стивен заслужил впервые известность. Английский реферат был для него единственной серьезной работой за всю неделю. Обычно его рефераты были очень длинными, и профессор, который писал передовицы для «Фрименс Джорнел», всегда оставлял их напоследок. Стиль изложения Стивена, [который] хотя он слишком тяготел к архаичному, даже к отжившему и часто впадал в риторику, отличала некая грубоватая оригинальность выражения. Он не давал себе особого труда чем-либо подкреплять продерзости, что утверждались или подразумевались в его рефератах. То были наспех сделанные защитные бастионы, меж тем как по-настоящему он был занят сооружением загадки собственной манеры письма. Ибо этот юноша был осведомлен еще об одном кризисе и хотел подготовить себя к потрясениям, что он принесет. Вследствие подобных маневров его начали считать крайне неуравновешенным [юношей] молодым человеком, проявляющим необычный для его сверстников интерес к теориям, приемлемым разве что на правах развлечений. Патер Батт, которому не преминули доложить о появлении этих необычных особенностей, однажды заговорил со Стивеном с целью его «прощупать». Патер Батт выразил великое восхищение рефератами Стивена, которые, по его словам, все до одного ему показал профессор литературной композиции. Он поощрил юношу, высказав мысль, что вскоре тот, пожалуй, смог бы что-нибудь написать для какой-нибудь дублинской газеты или журнала. Стивен воспринял это поощрение как знак наилучших, однако же заблуждающихся чувств и пустился в старательные объяснения своих теорий. Патер Батт выслушал и согласился со всем даже с большей готовностью, нежели ранее [Стивен] Морис. Стивен изложил свое учение со всею конкретностью, настаивая на важности того, что он называл литературной традицией. «Слова, говорил он, имеют определенную ценность в литературной традиции и определенную ценность на торжище – ценность девальвированную.» Слова суть просто вместилища человеческой мысли; в литературной традиции в них вкладываются более ценные мысли, чем на рынке. Патер Батт выслушивал это все, поминутно потирая подбородок рукой, выпачканной в мелу, кивал головой и «говорил, что Стивен, очевидно, понял важность традиции.» Для иллюстрации своей теории Стивен привел цитату из Ньюмена.
– В этой фразе Ньюмена, – сказал он, – слово используется в соответствии с литературной традицией; здесь оно имеет полную ценность. В обычном употреблении, то бишь на торжище, его ценность совершенно иная, там она снижена. «Надеюсь, я вас не ввожу в заблуждение».
– Что вы, вовсе нет!
– Нет-нет, я…
– Да-да, мистер Дедал, понимаю. Я понял, что вы имеете в виду… глагол «вводить»…
На следующее же утро патер Батт доставил своеобразный ответ на монолог Стивена. Стоял свежий, пощипывающий морозец, и когда Стивен, опоздавший на лекцию по латыни, завернул в физическую аудиторию, он увидел, что патер Батт, стоя на коленях, растапливает огромный камин. Он делал из бумаги аккуратные жгутики и со всем тщанием раскладывал их между палочек и кусков угля. При этом он все время негромким бормотанием комментировал свои действия; наконец в кульминационный момент он извлек из самых дальних карманов выпачканной мелом сутаны три грязных свечных огарка. Их он разместил в различных ямках – и с торжествующим видом взглянул на Стивена. Затем он поднес к выступающим концам бумажек спичку, и через несколько минут уголь занялся.
– Разжечь камин, мистер Дедал, – это искусство.
– Вижу, сэр. Очень полезное искусство.
– Вот именно, полезное искусство. Бывают полезные искусства и изящные искусства.
Сделавши это заявление, патер Батт поднялся с колен и ушел по своим делам, оставив Стивена блюсти разгорающийся огонь; и Стивен предавался раздумьям о быстро тающих огарках и о порицании, ощутимом в манере священника, до самого начала лекции по физике.
Задачу было невозможно решить с налета, но, по крайней мере, художественная часть ее не представляла особых трудностей. Разбирая на семинаре «Двенадцатую ночь», патер Батт пропустил обе песни шута без единого слова о них, и когда Стивен, решивший любой ценой привлечь к ним его внимание, с видом большой озабоченности спросил, надо ли их выучить наизусть, патер Батт ответил, что такой вопрос наверняка не будет в программе:
– Шут поет эти песни для герцога. В то время у аристократов было в обычае держать шутов, которые им пели… ради забавы.
К «Отелло» он отнесся более серьезно и обратил внимание аудитории на мораль пьесы: предметный урок касательно страсти ревности. Шекспир, сказал он, проник в самые глубины человеческой природы; его пьесы показывают нам мужчин и женщин под властью разных страстей, а также нравственные последствия этих страстей. Мы видим борьбу страстей человеческих, и подобное зрелище очищает наши собственные страсти. Драмы Шекспира имеют бесспорную нравственную силу, и «Отелло» – одна из величайших трагедий. Стивен приучил себя выслушивать все это с полной невозмутимостью, однако его позабавило, что в то же время ректор не дал разрешения двум жившим в общежитии студентам пойти «на спектакль «Отелло» в театре «Гэйети», заявив, что в пьесе слишком много грубых выражений.»
Монстр, обитавший в Стивене, пустился в последнее время буянить и был готов на кровопролитие по любому поводу. Едва ли не каждое происшествие распаляло его, и разум с большим трудом удерживал его в рамках. Но эпизод со вспышкой религиозности, быстро уходившей в область воспоминаний, выработал у него некоторое умение внешне владеть собой, и оно теперь оказывалось весьма полезным. Кроме того, Стивен довольно быстро понял, что он должен распутывать свои дела втайне, и сдержанность отнюдь не обременяла его. Его нежелание обсуждать сплетни и проявлять невежливое любопытство к другим подкрепляло выдвигаемое им на поверку обвинение и не было лишено приятного привкуса героизма. Уже и тогда, когда тот лихорадочный приступ святости снизошел на него, он был знаком с силами разочарования, однако, движимый благочестием, отстранился от них. Эти удары постыдно низвели его к себе самому с зхватывающих высот духовного рвения, и самое большее, что могли доставить ему духовные подвиги, было утешение. В этом утешении он крайне нуждался, ибо все соприкосновения с его новым окружением причиняли ему страдание. Он почти не разговаривал с товарищами и исполнял учебные дела без всякого комментария и всякого интереса. Каждое утро он вставал и спускался к завтраку. После завтрака он ехал в город на трамвае, где усаживался наверху на переднем сиденье и подставлял лицо ветру. Он сходил с трамвая у станции Эмьенс-стрит, вместо того чтобы ехать до Колонны, ибо ему хотелось быть участником утренней жизни города. Утренняя прогулка была приятна ему, и ни одно лицо не проследовало мимо него в свою коммерческую тюрьму без того, чтобы он не попытался впиться в него до самого движущего центра его уродства. Входя на Грин и видя на дальней стороне угрюмое здание колледжа, он всегда испытывал недовольное чувство.
В этих прогулках по городским путям и дорогам глаза и уши его были всегда готовы схватывать впечатления. Слова для своей сокровищницы он находил не только у Скита, он обретал их ненароком в лавках, в рекламах, на устах толкущегося кругом люда. Он продолжал их твердить про себя до тех пор, пока они не теряли для него всякий непосредственный смысл, превращаясь в волшебные вокабулы. Он был полон решимости бороться всеми силами тела и души против любых соглашений с тем, что теперь было в его глазах точно ад в аду – иначе выражаясь, с той областью, где все представало очевидным, – и недавний святой, что был прежде «скуп на слова,» повинуясь заповеди молчания, лишь с трудом был узнаваем в художнике, приучавшем себя к молчанию, дабы слова не отплатили ему той же монетой за его непочтенье. К нему являлись фразы, требуя своего объяснения. Он говорил себе: я должен ждать, когда ко мне придет Евхаристия; и потом принимался переводить фразу на язык обыденного смысла. День и ночь, стуча громко молотком, он строил себе дом молчания, где мог бы ожидать своей Евхаристии; день и ночь сбирал первые плоды и всяческие дары мира, громоздя их на свой алтарь, куда, о чем он взывал в молитве, снизошел бы огненный знак удовлетворения. В аудитории, в тиши Библиотеки, в студенческой компании он мог внезапно услышать повеление удалиться и остаться одному, голос, ударяющий прямо в барабанную перепонку, язык пламени, разом достигающий божественную жизнь мозга. Он подчинялся велению и бродил в одиночестве по улицам, поддерживая в себе пылкость надежды восклицаниями, пока не уверялся, что бродить далее бесполезно; и тогда он возвращался домой размеренною неутомимой походкой, без конца сочетая меж собой бессмысленные слова и фразы с размеренною неутомимой серьезностью.
Конец первого эпизода V[11]
XVI
В Святейшей Коллегии во время избрания наместника Христова их преосвященства едва ли блюдут свое уединение неукоснительней, нежели это делал Стивен в то время. Он написал немало стихов и, за отсутствием лучших планов, стихи позволяли ему совмещать в одном лице кающегося и исповедника. В стихах он старался схватить свои самые ускользающие настроения и складывал строки не по словам, а по буквам. Он прочитал у Блейка и Рембо о значениях букв и даже переставлял и комбинировал пять гласных, строя из них вопли для выражения примитивных эмоций. Ни одному из прежних пылов своих не отдавался он так всецело, как этому; «монах теперь казался ему не более чем полухудожником. Он убеждал себя, что для художника необходимо непрестанно трудиться на ниве своего искусства, если он хочет выразить со всей полнотой даже простейшее понятие, и верил, что за каждый миг вдохновения нужно платить вперед. Он не был убежден в справедливости афоризма [Poeta nascitur, non fit] «Поэтами рождаются, а не становятся», но, по крайней мере, был целиком уверен в» справедливости суждения [Poema fit, non nascitur] «стихи создаются, а не рождаются». Буржуазное представление о поэте Байроне в неглиже, изливающем из себя стихи как городской фонтан изливает воду, казалось ему типичным для самых расхожих мнений по эстетическим вопросам и, ополчаясь на него, он поражал его в корень, с «торжественностью заявляя Морису: «Изоляция – первый принцип художественной экономии».»
Стивен никоим образом не погружался в искусство в порыве юношеского дилетантизма, но пытался впиться в смысловое средоточие всего сущего. Он перегибался назад, в прошлое человечества, и ловил там проблески возникающего искусства, как могло бы мелькнуть виденье плезиозавра, возникающего из океана слизистого ила. Ему почти слышались эти первородные вопли страха, радости, удивления, что предшествуют всякой песне, дикие ритмы гребцов на веслах, почти виделись грубые каракули и фигурки божков тех людей, наследниками которых будут Леонардо и Микеланджело. И сквозь весь этот хаос сказаний и легенд, фактов и предположений он стремился провести некую упорядочивающую линию, стремился свести эти бездны прошлого к некоему графическому порядку. Трактаты, что указывались ему, он находил пустячными, ничего не стоящими; «Лаокоон» Лессинга его раздражал. Он удивлялся, как может мир считать ценными достижениями настолько [фантас] надуманные обобщения. Мог ли художник продвинуться к большей несомненности, если он верил, что древнее искусство было пластическим, а современное искусство – изобразительным, причем в данном контексте под древним понималось искусство между Балканами и Мореей, а под современным – повсюду от Кавказа и до Атлантики, исключая область священную и неприкосновенную. Его снедало глубочайшее презрение к тем критикам, для которых термины «греческий» и «классический» были взаимно заменимы; и невоздержный гнев так переполнял его, что [всю неделю в субботу], когда патер Батт дал темой очередного реферата «Отелло», на следующий понедельник Стивен представил лобовое и весьма пространное разоблачение «шедевра»! Студенты покатывались со смеху, а Стивен, с презрением оглядывая веселящиеся физиономии, думал о рептилиях, наделенных способностью самопогружения.
Никто не слушал его теорий; никого не интересовало искусство. «Молодые люди в колледже» считали искусство пороком континента, и за их словами стояло, собственно: «Если нам следует иметь искусство, разве недостаточно тем в Священном Писании?» – ибо художник для них был тот, кто пишет картины. Считалось дурным признаком, если молодой человек проявлял интерес к чему-либо, кроме своих экзаменов или будущего «местишка». Уметь поговорить об искусстве было неплохо, но на поверку оно было сплошь «гниль», и притом наверняка безнравственно, они же знали (или, по крайней мере, слыхивали) насчет мастерских. Они не желали подобных дел у себя в стране. Разглагольствованья о красоте, о ритмах, об эстетике – они знали, что кроется за этими милыми словесами. Однажды к Стивену подошел крупный, деревенского вида студент и спросил:
– «Скажи-ка, а ты часом не художник?
Стивен, не говоря ни слова, оглядел умственно непробиваемого юношу.
– А то если художник, так чо у тебя волосы-то не длинные?»
Несколько свидетелей сцены рассмеялись, а Стивен попытался вообразить, для какого ученого поприща отец юноши предназначал отпрыска.
В пику своему окруженью, Стивен продолжал научные изыскания, с тем большим пылом, что ему мнилось, будто бы на них наложили запрет. Частью неискоренимого эгоизма, который поздней ему предстояло назвать искупителем, было то, что все деяния и помыслы своего микрокосма он мыслил сходящимися к себе самому. Является ли отроческий разум средневековым, что он так прозорлив к тайным пружинам? Полевые виды спорта (или то, что аналогично им в мире умственном) суть, вероятно, самое действенное лечение, и англосаксонские воспитатели предпочитают скорей систему грубой закалки. Но для этого фантастического идеалиста, готового одним махом ускользнуть от сопящего виденья в бутсах, эти игры в войну были равно смехотворны и неравны, на поле, выбранном с невыгодой для него. За быстро твердеющим щитом, уязвимый давал ответ: Пусть-ка эта свора злобностей, всхрапывая и спотыкаясь, пожалует в мои горы за добычей. У него имелась своя земля, и его блещущие оленьи рога метали презренье им.
И в самом деле, он чувствовал, как в крови его занимается утро; он сознавал, что в Европе уже начинает распространяться какое-то движение. Эта последняя фраза ему определенно нравилась, ибо она, казалось, развертывает ковром для поступи островитян весь обозримый мир. Ничто не могло убедить его, что мир таков, каким его представляют студенты патера Батта. Он не испытывал ни нужды в осмотрительности, которую именовали необходимейшей, ни пиетета к кодексам, которые именовали основаниями жизни. Он был загадочной фигурой посреди дрожащего общества, в котором у него сложилась некая репутация. Его товарищи не представляли, как далеко можно заходить, следуя за ним, а профессора делали вид, будто полагают, что его серьезность служит достаточной гарантией против попыток неповиновения на практике. Он же, со своей стороны, найдя целомудрие большим неудобством, спокойно и без шума расстался с ним и предавался развлечениям в компании нескольких однокашников из числа тех, кому (как ходили слухи) разгульная жизнь не была неведома. У ректора Бельведера был брат, в то время один из студентов колледжа, и однажды вечером на галерке «Гэйети» (ибо Стивен стал завсегдатаем «райка») другой паренек из Бельведера, который тоже учился в колледже, сообщил на ухо Стивену скандальные сведения:
– Слушай, Дедал…
– Ну?
– Интересно, что бы сказал Макналли, если бы встретил своего брата – знаешь этого парня в колледже?
– Знаю…
– На днях я вижу его в Стивенс-Грин с девкой. Мне тут же подумалось, если б Макналли его увидел…
Сплетник сделал паузу, а затем, испугавшись чрезмерных выводов, с видом знатока серьезно добавил:
– Правда, она из себя была… ничего.
Каждый вечер после чая Стивен выходил из дома и направлялся в город вместе с Морисом. Старший курил сигареты, младший сосал лимонные леденцы, и при содействии этих животных благ они коротали долгие прогулки за философской дискуссией. Морис отличался большим вниманием и как-то вечером сообщил Стивену, что он ведет дневник их бесед. Стивен попросил посмотреть дневник, но Морис сказал, что для этого еще хватит времени по окончании первого курса. Оба юноши нисколько не сомневались в себе; они смотрели на жизнь чистыми любопытными глазами (Морис пользовался, естественно, зрением Стивена, когда собственного еще не хватало) и согласно питали такое чувство, что достичь здравого понимания так называемых тайн вполне возможно, если только иметь довольно терпения. В этих ежевечерних странствиях их рассуждения достигали высот, и младший из двух смело оказывал помощь старшему в строительстве целой науки эстетики. Они говорили друг с другом в самом решительном тоне, и Стивен находил Мориса весьма полезным, чтобы выдвигать возражения. У них вошло в привычку, дойдя до ворот Библиотеки, задерживаться за окончанием какой-нибудь нити разговора, и это нередко так затягивалось, что уже не имело смысла, как решал Стивен, заходить и усаживаться за чтение; они обращали лица свои к Клонтарфу и тем же манером отправлялись обратно. Не без известного колебания, Стивен показал Морису первенцев своей поэзии, и Морис спросил, кто же она. Стивен уставил перед собой слегка блуждающий взгляд, прежде чем отвечать, и должен был ответить, в конце концов, что он не знает, кто она.
К сей неизвестной стихи были обращаемы теперь регулярно, и казалось, будто тот дурной сон любви, который Стивен счел нужным увековечить в этих стихах, отныне, в эту пору «сырого сиреневого тумана, доподлинно простерся над миром. Он покинул свою Мадонну,» отказался от своего слова и неумолимо отбросил весь свой мирок, – и конечно уж, не было удивительно, что его изоляция растравляла у него исступленные вспышки юношеской страсти и пароксизмы одиночества? То свойство ума, что проявляется таким образом, называют (в случае неисправимости) декадентством, однако, если мы взглянем на [жизнь] мир шире, мы неизбежно увидим здесь процесс, ведущий через разложение к жизни. Случались моменты, однако, когда такой процесс казался невыносимым, жизнь на любых общепринятых основаниях – невыносимым оскорблением, и в эти моменты он не молил ни о чем и ни на что не жаловался, но сладко угасающим сознанием чувствовал, что если к нему придет конец, он настигнет его в объятиях неизвестной:
- Заря встает, тревога гложет грудь.
- Как все бело, и голо, и постыло!
- Кольцо объятий поспеши сомкнуть!
- Волной волос укрыла б!
- Жизнь – сон, всего лишь сон. Прочли уже часы,
- Пропели антифон.
- От солнца лживого, от призрачной красы
- Уходим к мертвым в дом.
Мало-помалу появления Стивена в колледже делались все менее регулярными. Каждый день он выходил из дома в обычное время и отправлялся в центр на трамвае. Однако он сходил всегда на станции Эмьенс-стрит и, идя дальше пешком, частенько предпочитал понаблюдать какие-нибудь обычнейшие проявления городской жизни вместо того, чтобы погружаться в гнетущую жизнь колледжа. Так он часто бродил по семь и по восемь часов кряду, не ощущая ни малейшей усталости. Сырая дублинская зима, казалось, гармонировала с его внутренним чувством неготовности, и малейшие женские заигрыванья заставляли его следовать виляющими неведомыми путями нисколько не с большим рвением, чем следовал он по еще менее подходящим путям за проворным движеньем той, что ускользала, а не заигрывала. Что же такое была эта Одна: объятия любви, лишенные губительности любви, смех, разносящийся поутру в горах, час, когда он мог бы повстречать непередаваемое? И если бы только его сердце вздрогнуло хоть на миг в неком предчувствии этого, он бы вскричал со всей юношеской страстью: «Это так! Это так! Жизнь такова, какою мыслится мне». Он презрительно оттолкнул со своей дороги заплесневелые прописи иезуитов и поклялся, что никогда не будет под их господством. Он презрительно оттолкнул со своей дороги и мир более высокой культуры, в котором не было ни учености, ни искусства, ни достойного обхождения, – мир банальных интриг и банальных побед. И прежде всего он презрительно оттолкнул со своей дороги компанию потасканных юнцов – и поклялся, что никогда не даст им втянуть себя в комплот обмана. Чудесные слова! чудесные клятвы! выкрикиваемые смело и страстно наперекор обстоятельствам. Ибо не так уж нечасто, когда экстаз прерывался на время, Дублин внезапною рукой брал его за плечо, и «холод от этого вызова по повестке резко сжимал сердце. Однажды он шел домой через Фэрвью. У развилки дороги на заболоченной полосе берега валялась большая собака. Время от времени она задирала морду в наполненный испарениями воздух и издавала долгий печальный вой.» Люди на тротуарах останавливались, прислушивались. [и] Стивен был среди них, пока не почувствовал первые капли дождя, а потом продолжал свой путь под хмурым надзором небес, слыша время от времени за спиной этот странный плач.
Было естественно, что чем больше стремился юноша к изоляции, тем больше его окружение пыталось помешать ему в этом. Хотя он был всего лишь на первом курсе, его считали личностью, а многие даже думали, что хоть его теории отдают горячкой, смысл-то в них есть. Стивен редко приходил на лекции, ничего не готовил и не появлялся на зачетах, однако не только никто не прохаживался по поводу таких вольностей, но многие допускали, что он, видимо, тип настоящего художника и в духе нравов этого малоизвестного племени занимается самообразованием. Не надо думать, что популярный Ирландский университет был лишен умственного ядра. За пределами сомкнутых рядов поборников национального возрождения тут и там встречались студенты, у которых были свои идеи, и их сотоварищи проявляли к ним относительную терпимость. К примеру, был серьезный молодой феминист по имени Макканн, быстрый в движениях и прямой в речах, носивший бородку и охотничий костюм и бывший верным читателем «Ривью оф ривьюз». Студенты не могли взять в толк, что за идеи влекут его, и считали, что достаточной наградой за оригинальность ему служит кличка «Бриджи». Был также записной оратор – необычайно сговорчивый молодой человек, выступавший на всех собраниях. Крэнли тоже был личностью, а Мэдден вскоре был признан «рупором» патриотической партии. Стивен же, можно сказать, занимал положение вельможи с причудами: весьма немногие слыхивали о писателях, которых он, как передавали, читал, а слышавшие считали их сплошь безумцами. Но вместе с тем его поведение со всеми было столь непреклонным, что его соглашались признать оставшимся в здравом уме и без ущерба преодолевшим все искушения. К нему начали проявлять внимание, зазывать в гости и делать, обращаясь к нему, серьезную мину. Его теории были всего лишь теориями, и, коль скоро за ним покуда не числилось никаких нарушений закона, он был почтительно приглашен сделать доклад в Литературно-историческом обществе колледжа. Дата была назначена на конец марта, и тема была объявлена как «Драма и жизнь». Невзирая на риск убийственной отповеди, многие пытались разговорить молодого оригинала, но Стивен хранил надменное молчание. Однажды, когда он возвращался с вечеринки, репортер одной из дублинских газет, который был в тот вечер представлен юному дарованию, подошел к нему и, обменявшись какими-то репликами, пустил пробный шар:
– Я тут читал этого писателя… как его бишь вы называли… Метерлинка на днях… знаете?
– Да…
– Я читал… По-моему, называлось «Самозванец»… Очень… любопытная пьеса…
Стивен не желал беседовать о Метерлинке с этою личностью, однако ему не хотелось и причинить обиду молчанием, какого равно заслуживали и слова, и тон, и намерение; так что он принялся спешно отыскивать в уме ни к чему не обязывающую банальность, пригодную для уплаты долга взаимности. Наконец он сказал:
– Поставить ее на сцене было бы нелегко.
Журналист был вполне удовлетворен таким ответом, как если бы именно это впечатление и вызвала у него пьеса Метерлинка. Он с убежденностью подтвердил:
– О да!.. почти невозможно…
Когда так задевали самое дорогое сердцу, Стивен чувствовал глубокую рану. Здесь надо сразу и напрямик сказать, что в это время Стивен испытывал определенное влияние, самое прочное в своей жизни. Зрелище мира, которое доставлял ему его разум, со всеми низостями и заблуждениями, рядом с тем зрелищем мира, что доставлял ему сидящий внутри него монстр, достигший сейчас относительно героической стадии, нередко наполняло его существо внезапным отчаянием, смягчить которое удавалось только меланхолическим виршеплетством. Он было совсем уж решил считать оба эти мира чуждыми друг другу – будь сей предельный пессимизм тайным или явным, – но тут, чрез медиума добытых с трудом переводов, он повстречался с духом Генрика Ибсена. Этот дух стал ему понятен «мгновенно.» То же мгновенное понимание явилось у него несколько лет назад, когда он прочел в английской биографии Руссо рассказ, в тоне крайнего замешательства и извинения, о том как юный философ, в ту самую пору, когда он вставал на борьбу за Истину и Свободу, стащил ложки у своей любовницы и допустил, чтобы в краже обвинили служанку. Сейчас было снова как с [извращенным] порочным философом: Ибсен не нуждался ни в адвокатах, ни в критиках: умы старого скандинавского поэта и смятенного юного кельта встретились и совпали в один сияющий миг. Прежде всего Стивена пленила очевиднейшая высота искусства: он был уже недалек от тех дней, когда он стал провозглашать Ибсена – руководясь довольно скудным, конечно, знанием предмета – первым из драматургов мира. В переводах индийских, греческих или китайских драм он видел только его предвестия или предварительные пробы, а в классической французской и романтической английской драме – предвестия более смутные и пробы менее удачные. Однако не одни высота и блеск пленили его, не этому он воздавал ликующую хвалу в радостном порыве духа. За бесстрастною манерой художника чувствовался подлинный дух самого Ибсена: [Ибсен с его глубоким самодовольством, Ибсен с его надменным, утратившим все иллюзии мужеством, Ибсен с его скрупулезной и своевольной энергией.] дух искренней, мальчишеской смелости, гордости, лишенной иллюзий, скрупулезной и своевольной[12]. Пускай мир разгадывает себя каким ему угодно манером, пускай гипотетический его Создатель оправдывает Себя любыми процессами, какие сочтет за благо, но достоинство человека нельзя было утвердить ни на иоту сильней, нежели этим ответом. Здесь, а не в Шекспире и не в Гёте пребывал наследник первого поэта европейцев, здесь, как с тем же успехом лишь у Данте, человеческая личность возымела соединение с художественной манерой, которая сама была почти что естественным явлением; а дух времени готовней сближал с норвежцем, нежели с флорентинцем.
Молодые люди в колледже не имели ни малейшего представления о том, кто такой Ибсен, но из того, что они смогли подхватить там и сям, они подозревали, что он, по всей видимости, один из тех безбожных писателей, которых секретарь Папы заносит в Индекс. Услышать в своем колледже такое имя из чьих-то уст было явно в новинку, но коль скоро наставники не подавали знака к осуждению, они заключили, что лучше всего переждать. Между тем это все произвело на них некоторое впечатление; многие стали поговаривать, что Ибсен, хотя и безнравственен, однако большой писатель, а один из профессоров, как передавали, сказал, что когда он прошлым летом проводил в Берлине свои каникулы, там много говорили о пьесе Ибсена, шедшей в одном из театров. Вместо того чтобы писать курсовую работу, Стивен начал изучать датский язык, и это раздули до сообщений, будто бы он глубокий специалист в датском. Юноша был достаточно лукав, чтобы извлечь выгоду из слухов, опровергать которые он труда себе не давал. Он улыбался при мысли, что эти люди побаиваются его в глубине души как иноверца, и дивился, на каком же уровне должны быть их верования. Патер Батт беседовал с ним помногу, и Стивен с большой охотой выступал «провозвестником» нового порядка. В беседе он никогда не горячился и спорил так, будто бы ход спора заботил его не слишком, в то же время ни на секунду не упуская нити. Иезуиты и их паства могли бы сказать себе: юнцы, независимые с виду, нам знакомы и сговорчивые патриоты знакомы тоже, но что ты за птица? С учетом всех невыгод их положенья, они отлично ему подыгрывали, и Стивен не мог понять, зачем они себя утруждают, приноравливаясь к нему.
– Да-да, – сказал однажды ему патер Батт после одной из подобных сцен, – понимаю… я понял вашу мысль… Ее можно, разумеется, отнести и к драмам Тургенева?
Стивен читал некоторые переводы романов и рассказов Тургенева и был ими восхищен. Поэтому он спросил живо:
– Вы имеете в виду его романы?
– Да, романы… – поспешил подтвердить патер Батт, – его романы, конечно… но ведь они не что иное, как драмы… разве не так, мистер Дедал?
Стивен частенько посещал один дом в Доннибруке, в котором царил дух либерального патриотизма и усердных занятий. В семействе было несколько дочерей на выданье, и едва кто-нибудь из студентов подавал в этом отношении надежду, его неизбежно ожидало приглашение в дом. Молодой феминист Макканн был здесь постоянным гостем, а Мэдден наведывался время от времени. Отец семейства, мужчина уже в летах, в будни по вечерам играл в шахматы со взрослыми сыновьями, а по воскресеньям устраивал вечеринки с играми и музыкой. Музыку обеспечивал Стивен. В гостиной стояло старое пианино, и обычно, когда игры надоедали гостям, одна из дочерей подходила с улыбкой к Стивену и «просила спеть какую-нибудь из его прекрасных песен. Клавиши инструмента были стерты и порой не давали звука, но тембр был мягким и сочным; Стивен усаживался и исполнял свои прекрасные песни пред вежливой, утомившейся и чуждой музыке публикой.» [13] Песни, во всяком случае для него, были и впрямь прекрасны – старинные народные песни Англии, изысканные песни елизаветинцев. По части «морали» они бывали порою слегка сомнительны, и слух Стивена тотчас улавливал нотку неодобренья, когда ему хлопали после них. Любознательные дочери находили эти песни очень оригинальными, но мистер Дэниэл говорил, что Стивену следует петь оперные арии, если он хочет, чтобы его голос оценили как должно. Хотя Стивен не чувствовал никакой взаимной симпатии между собой и этим кружком, ему в нем было легко и просто, и, в полном согласии с их призывами, он там «был как дома», когда сидел на диване, слушая разговоры и пересчитывая пальцами комки конского волоса в обивке. «Молодые люди и хозяйские дочери предавались невинным развлечениям под надзором мистера Дэниэла, но всякий раз как в их играх задевались художественные материи, эгоистически настроенный Стивен относил это на счет своего присутствия. Он видел, как наползает серьезность на умные черты молодого человека, которому выпало задать какой-нибудь вопрос одной из хозяйских дочерей:
– Так, кажется, моя очередь… Что ж… дайте подумать… (и тут он делался так серьезен, как только может молодой человек, до этого хохотавший пять минут кряду)… – кто ваш любимый поэт, Энни?
Воцарялось молчание: Энни думала. Энни с молодым человеком слушали один курс.
– …Немецкий?
– …Да.
Энни снова думала, а общество ожидало, когда его просветят.
– Думаю… Гёте.
Макканн зачастую устраивал шарады,» в которых отводил себе самые неистовые роли. Шарады были с большим юмором, и все охотно принимали участие, не исключая и Стивена. Обдуманный и спокойный стиль Стивена был полной противоположностью бурной манере действия Макканна, и поэтому их часто «спаривали» вместе. Эти шарады слегка утомляли Стивена, однако Макканн чрезвычайно заботился об их устройстве, будучи убежден, что развлечения необходимы для телесного благополучия человечества. Северный акцент молодого феминиста неизменно возбуждал смех, а его украшенное эспаньолкой лицо было весьма способно делать нахальные мины. В колледже Макканн из-за его «идей» так и не стал до конца своим, но здесь он был явно причастен к внутренней жизни семейства[14]. В этом доме было в обычае чуть не сразу переходить с молодыми гостями на обращение «по имени,» и хотя Стивен не удостоился такой чести, Макканна никогда не именовали иначе как «Фил». Стивен прозвал его «Душка Данди», по бессмысленной чисто звуковой ассоциации его отрывистого имени и «отрывистых манер с одной» строчкой из этой песни:
Макай, простофиля, макай в чарку нос.
Когда собравшиеся настраивались на серьезный лад, мистера Дэниэла просили что-нибудь продекламировать. Мистер Дэниэл был прежде директором театра в Вексфорде и ему часто приходилось «выступать на митингах и собраниях» по всей стране. В почтительной тишине он читал патриотические стихи, произнося их с резкими интонациями. Читали стихи также и дочери. Во время этих декламаций Стивен всегда, не отрываясь, глядел на картину с изображением Святого Сердца, что висела прямо над головой читающего. Сестры Дэниэл выглядели не столь импозантно, как их отец, а их наряды были [слово вымарано] демонстративно национальны. «Иисус же на рыночной литографии как-то демонстративно» выставлял напоказ свое сердце: и обычно эта перекличка пустых потуг завораживала сознание Стивена до некоего приятного отупения. Часто представлялась шарада на парламентскую тему. Несколько лет назад мистер Дэниэл был депутатом от своего графства, и поэтому его избирали представлять спикера палаты. Макканн изображал всегда члена оппозиции и резал без обиняков. Какой-нибудь депутат протестовал, и так разыгрывалась пародия на парламентские дебаты:
– Господин спикер, я должен попросить…
– К порядку! К порядку!
– Вы знаете, что это ложь!
– Вам следует взять эти слова обратно, сэр!
– Как я уже говорил до того, как сей достопочтенный джентльмен меня перебил, мы должны…
– Я не возьму этих слов обратно!
– Я вынужден попросить достопочтенных депутатов соблюдать порядок.
– Я не возьму своих слов обратно!
– К порядку! К порядку!