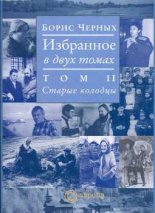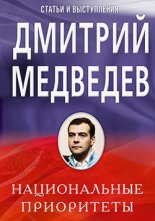Нарратология Шмид Вольф

Предисловие к первому изданию
Нарратология – это «теория повествования». В отличие от традиционных типологий, относящихся исключительно к жанрам романа или рассказа и ограничивающихся областью художественной литературы, нарратология, сложившаяся на Западе в русле структурализма в 1960-е годы, стремится к открытию общих структур всевозможных «нарративов», т. е. повествовательных произведений любого жанра и любой функциональности.
Категории современной нарратологии сформировались под значительным влиянием русских теоретиков и школ, в частности представителей русского формализма (В. Шкловский, Б. Томашевский), таких ученых 1920-х годов, как В. Пропп, М. Бахтин, В. Волошинов, а также теоретиков московско-тартуской школы (Ю. Лотман, Б. Успенский)[1]. Несмотря на это, нарратология как особая общегуманитарная дисциплина в России в настоящее время только формируется. В связи с этим автор преследует в предложенной работе две цели. С одной стороны, книга призвана ознакомить русских читателей с выдающимися теоретическими позициями западной нарратологии. С другой стороны, автор уделяет особое внимание влиянию славянских теоретиков на формирование актуальных нарратологических позиций и старается выявить теоретический потенциал тех славянских концепций, которые еще недостаточно известны на Западе.
Однако настоящая книга имеет не столько историко-теоретический характер, сколько систематический. Исторические обзоры некоторых ключевых понятий служат в первую очередь описанию соответствующих явлений в структуре нарративов. При этом автор, разумеется, не претендует на полный охват существующих нарративных приемов и нарратологических категорий. Он сосредоточивается в основном на явлениях и аспектах 1) «перспективологии» (коммуникативная структура нарратива, повествовательные инстанции, точка зрения, соотношение текста нарратора и текста персонажа) и 2) сюжетологии (нарративные трансформации, роль вневременных связей в нарративном тексте). Таким образом, настоящая книга представляет собой систематическое введение в основные проблемы нарратологии.
Не будучи носителем языка, автор нуждался в компетентных советниках и редакторах. Автор благодарен своей жене Ирине, без помощи которой книга не была бы написана. Владимир Маркович и Валерий Тюпа давали ценные советы при обсуждении терминологических вопросов. Неоценимую помощь в работе над книгой оказал Лазарь Флейшман, отредактировавший весь текст. Автор благодарен своим сотрудникам Евгении Михахеллес и Евгению Одессеру за помощь в редактировании и тщательное вычитывание корректуры. Ответственность за сохранившиеся ошибки и стилистические неловкости остается, однако, за автором.
Основная часть настоящей книги была написана в течение двух семестров, на которые автор получил освобождение от преподавания благодаря гранту DFG (Германское исследовательское сообщество) и Гамбургского университета.
Автор пользуется также случаем выразить благодарность немецкому фонду «ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius» за финансовую поддержку в осуществлении настоящего издания.
Предисловие ко второму изданию
Предыдущее первое издание «Нарратологии» в короткое время исчезло с прилавков книжных магазинов. А так как она во многих российских вузах стала уже учебным пособием, автор решил подготовить второе издание. Издательство живо поддержало эту идею.
Второе издание выходит в несколько измененном виде: в текст внесены уточнения, дополнения и исправления, содержащиеся уже в немецкой версии книги[2]. Уточнения и дополнения относятся прежде всего к главе I, где более подробно разработаны аспекты нарративности, события и событийности. Понятийный аппарат остался во всей книге неизмененным, за исключением понятия «события» в смысле аморфного нарративного материала. Это понятие заменено понятием «происшествия», чем снята отмеченная критиками амбивалентность слова «события», которое в первом издании обозначало, с одной стороны, неожиданные, значимые изменения ситуации, а с другой, – весь нарративный материал.
Разумеется, и во втором издании прежде всего учитывается русская теория повествования и приводятся примеры из русской литературы.
Автор благодарит свою сотрудницу Светлану Боген за помощь в редактировании текста, прежде всего его новых частей.
Автор выражает благодарность Гамбургскому университету за финансовую поддержку в осуществлении представленного второго издания.
Глава I. Признаки художественного повествования
1. Нарративность
Классическое и структуралистское понятия нарративности
Объектом нарратологии являются нарративные произведения. Что означает слово «нарративный»?
Нарративность характеризуют в литературоведении два различных понятия. Первое из них образовалось в классической теории повествования, прежде всего в теории немецкого происхождения, которая тогда еще называлась не нарратологией[3], a Erzhlforschung или Erzhltheorie (теория повествования). В этой традиции к нарративному или повествовательному разряду произведения причислялись по признакам коммуникативной структуры. Повествование, противопоставлявшееся непосредственному драматическому исполнению, связывалось с присутствием в тексте голоса опосредующей инстанции, называемой «повествователем» или «рассказчиком». Ввиду колебания русской терминологии между двумя понятиями, производными от названий жанров, впредь я буду называть эту опосредующую инстанцию чисто техническим термином нарратор, уже не подразумевающим никакой жанровой специфичности и не связанным с определенным типом наррации. В классической теории повествования основным признаком повествовательного произведения является присутствие такого посредника между автором и повествуемым миром. Суть повествования сводилась классической теорией к преломлению повествуемой действительности через призму восприятия нарратора. Так, один из основоположников современной теории повествования, немецкая исследовательница Кэте Фридеманн[4], противопоставляет повествовательный модус драматической передаче действительности:
«Действительным» в драматическом смысле является событие, которое имеет место теперь… «Действительным» же в смысле эпическом является, в первую очередь, не повествуемое событие, а само повествование [Фридеманн 1910: 25].
Тем самым она опровергает взгляды немецкого романиста и теоретика Фридриха Шпильгагена [1883; 1898], который, под предлогом объективности, требовал от эпического автора полного отказа от включения повествующей инстанции, т. е. требовал, по словам Фридеманн, создания «драматической иллюзии»:
(Нарратор, der Erzhler) представляет собой принятое кантовской философией гносеологическое предположение, что мы постигаем мир не таким, каким он существует сам по себе, а таким, каким он прошел через посредство некоего созерцающего ума [Фридеманн 1910: 26].
Еще и в настоящее время находятся теоретики, определяющие специфичность повествования присутствием нарратора. Известный австрийский исследователь Франц Штанцель открывает свою книгу «Теория повествования» [1979], в которой он подводит итог предыдущих работ [1955; 1964] и связывает их с текущей теоретической дискуссией, определением «опосредованности» (Mittelbarkeit) как жанрового признака повествовательных текстов. Вслед за Штанцелем в новейшем русском «Введении в литературоведение» [Тамарченко 1999а: 280] определяющим признаком повествования выдвигается «опосредованность».
Второе понятие о нарративности, которое легло в основу настоящей работы, сформировалось в структуралистской нарратологии. Согласно этой концепции решающим в повествовании является не столько признак структуры коммуникации, сколько признак структуры самого повествуеого. Термин «нарративный», противопоставляемый термину «дескриптивный», или «описательный», указывает не на присутствие опосредующей инстанции изложения, а на определенную структуру излагаемого материала. Тексты, называемые нарративными в структуралистском смысле слова, обладая на уровне изображаемого мира темпоральной структурой, излагают некое изменение состояния.
Классическое определение не только ограничивает нарративность словесным творчеством, но и включает в область повествовательности все словесные произведения, в том числе описательные очерки и путешествия, если только в них слышится голос посредника. По этому определению из области повествования исключаются лирические, драматические тексты, кинофильм и другие жанры, в которых очевидного посредника, как правило, не имеется.
Между тем определение структуралистское включает в область нарратологии произведения всех видов (не только словесные), передающие тем или иным образом изменение состояния, и исключает все описательные произведения. С точки зрения структурализма к нарративам относятся не только роман, повесть и рассказ, но также и пьеса, кинофильм, балет, пантомима, картина, скульптура и т. д., поскольку изображаемое в них обладает временной структурой и содержит некое изменение ситуации[5].
Какая из названных двух концепций нарративности более убедительна? Практический опыт анализа текстов убеждает нас в том, что и та и другая концепции не вполне удовлетворительны. Первая, традиционная, – слишком ограниченна, а вторая, структуралистская, недостаточно дифференцированна[6]. Поэтому здесь предлагается смешанная концепция (ср. [Шмид 2003а, 20036]).
В рамках этой смешанной концепции можно различить два разных значения термина «нарративный», узкое и широкое. Широкое понятие нарративности подразумевает, согласно структуралистскому пониманию, изменение состояния. Узкое понятие нарративности сочетает структуралистскую концепцию с классической – подразумевается не только изменение состояния, но и передача этого изменения посредством некоей повествующей инстанции.
Но обратимся сначала к понятию «изменение состояния», ключевому как для широкого, так и для узкого понимания нарративности. Термин состояния следует здесь понимать как набор свойств, относящихся к тому или иному персонажу или внешнему положению в тот или иной момент времени. Если изображаемые свойства относятся к душевному миру того или иного персонажа, то мы имеем дело с внутренним состоянием, если же они относятся к явлениям изображаемого мира – с внешним состоянием. (Состояние, однако, может определяться одновременно как внутренними свойствами персонажа, так и внешними свойствами мира.) Если причиной изменения состояния является персонаж, то мы говорим о поступке и действующий персонаж обозначается укоренившимся понятием агент, если же персонаж становится пассивным объектом изменения, то такое изменение называется происшествием и персонаж обозначается как пациент [Чэтман 1978: 32; Принс1987:39].
Минимальное условие нарративности заключается в том, что происходит по крайней мере одно изменение одного состояния. Нарративность имеется независимо от того, изображается ли изменение эксплицитно. Достаточно, если изменение дается в имплицитной форме, например путем сопоставления двух контрастирующих состояний.
Изменение ситуации, как условие нарративности, подразумевает следующие структурные черты:
1. наличие темпоральной структуры с двумя, по крайней мере, состояниями – исходным и конечным;
2. эквивалентность исходного и конечного состояний, т. е. одновременное сходство и контраст между ними;
3. отнесенность изменения состояния к одному и тому же действующему или поддейственному субъекту («агенту» или «пациенту») или к одному и тому же элементу внешней ситуации[7].
Многие теоретики постулируют как условие нарративности, кроме временной связи, также и отношение между состояниями, мотивированное в каком-либо другом плане. Одним из первых, занявших такую позицию, был Б. В. Томашевский [1925: 136], приписывавший «фабульным произведениям», в отличие от «описательных», не только временную связь, но и причинную.
Требование добавочной (т. е. не только темпоральной) мотивировки нарративной связности в той или иной форме не раз появлялось в теоретической литературе[8]. Тем не менее, определение минимальных условий нарративности должно обходиться без добавочного, в особенности каузального, фактора[9]. В нарративах причинные связи выражены эксплицитно и определенно только в сравнительно редких случаях. Чаще всего причина изменения – лакуна в тексте. Даже если читатель находит в тексте однозначные симптомы для ее восполнения, сама конкретизация причинно-следственных отношений между состояниями будет его задачей. Но многие произведения допускают не только одно толкование изменения состояния.
Мартинес и Шеффель [1999: 111—118], различающие три типа мотивировки – «каузальную», «финальную» (встречающуюся в мифологических текстах) и – по Томашевскому [1925] – «эстетическую» или «композиционную» мотивировку (в отличие от предыдущих, относящуюся не к содержанию, но к форме текста), приходят к такому выводу: даже если в тексте каузальные связи не выражены эксплицитно, они тем не менее существуют, хотя бы в виде лакуны, нуждаясь в конкретизации читателем. Однако такие мотивировки-лакуны могут заполняться, так же как и «места неопределенности» (Unbestimmtheitsstellen, по Ингардену [1931]) могут конкретизироваться разными способами, не обязательно по логике каузальной связи. Нарративы держат читателя нередко в неизвестности относительно причинных связей между изображаемыми состояниями, в неизвестности, принципиально подлежащей интерпретации.
Читатель склонен устанавливать причинные связи между чередующимися элементами (по ложному выводу post hoc ergo propter hoc «после того, значит из-за того»)[10]. Но связи, внесенные читателем, на самом деле могут не подтверждаться логикой текста. Во всяком случае, в минимальную дефиницию нарративности каузальность и другие виды мотивировки включать не обязательно. Нарративным текст является уже тогда, когда в нем имеются только временные связи, удовлетворяющие вышеуказанному требованию трех структурных черт[11].
Нарративные тексты в указанном смысле излагают – в этом сходится большинство структуралистских дефиниций – некую историю (story, histoire, Geschichte)[12]. Термин «история», для которого в «Словаре нарратологии» [Принс 1987, 91] дано не меньше пяти значений, в данном контексте обозначает содержание нарратива, в отличие от излагающего его дискурса.
Но здесь возникают вопросы: каково отношение между изменением ситуации и историей? Сколько изменений состояния требует последовательность, чтобы стать историей? Количественно определять различие между историей и изменением состояния невозможно – история может состоять лишь из одного изменения. Различие существует на структурном уровне – изменения состояния являются частью истории. История содержит наряду с изображаемыми изменениями, т. е. динамическими элементами, элементы статические, например состояния сами по себе, исходные и конечные, агентов и пациентов, и обстановку (setting). Таким образом, репрезентация истории, по необходимости, соединяет нарративный и описательный модусы.
Нарративные и описательные тексты
Описательность противоположна нарративности в широком смысле. В описательных текстах излагаются статические состояния, рисуются картины, даются портреты, подытоживаются повторяющиеся, циклические процессы, изображается социальная среда или классифицируются естественные или социальные явления по типам, классам и т. п. Описательные тексты изображают, как правило, лишь одно состояние. Об описании говорить целесообразно, однако, и тогда, когда изображено несколько состояний, не связанных ни сходством, ни контрастом или не относящихся к одному и тому же персонажу или элементу обстановки.
Несмотря на указанное теоретическое различие между нарративностью и описательностью границы между нарративными и описательными текстами не всегда четки. Как мы видели, каждый нарратив по необходимости содержит описательные элементы, придающие произведению определенную статичность. Изображение ситуаций, действующих лиц и самих действий без введения описательного материала не обходится. С другой стороны, в описательные произведения могут – в целях наглядной иллюстрации данной ситуации – входить динамические элементы, нарративные структуры.
Среди нарративных, по классическому определению, жанров сильным тяготением к описательности отличается очерк. Примером не-нарративного, в структуралистском смысле, описания и классифицирования может служить очерк Д. В. Григоровича «Петербургские шарманщики», включенный Н. А. Некрасовым в сборник «Физиология Петербурга». Классифицирующий характер этого очерка явствует уже из названий глав: «Разряды шарманщиков», «Итальянские шарманщики», «Русские и немецкие шарманщики», «Уличный гаэр», «Публика шарманщиков». Не все тексты в этом сборнике являются описательными. В некоторых произведениях появляются нарративные структуры, по крайней мере в зачаточном виде, как только в текст вводится временное измерение и более раннее состояние сравнивается с более поздним.
Решающим для описательного или нарративного характера текста является не количество содержащихся в нем статических или динамических элементов, а их итоговая функция. Но функциональность произведения может быть смешанной. В большинстве случаев доминирует та или иная основная функция. Эта доминантность подлежит интерпретации и воспринимается читателями не всегда одинаковым образом. Если текст содержит лишь два состояния, то можно его воспринимать и как описательный, и как нарративный (последнее подразумевает, что между состояниями имеется некая эквивалентность). Читатель, воспринимающий такой текст как нарративный, сосредоточивается на различиях в сходном, находя в них некое изменение. Тот же, кто читает текст как дескриптивный, сосредоточивается на общем в различиях, рассматривая различие состояний как различие оттенков одного и того же явления.
Томашевский, у которого для определения «фабулы», как мы видели, необходима не только временная, но и причинная связь элементов, к «бесфабульному повествованию» относит и путешествие, «если оно повествует только о виденном, а не о личных приключениях путешествующего» [1925: 136]. Но и без прямой тематизации внутреннего состояния путешествующего изменение ситуации может быть изображено, путешествие может приобрести нарративный характер и в самом отборе увиденного может быть выражено внутреннее изменение видящего. Здесь имеет место имплицитная нарративность, излагающая различные состояния и изменение воспринимающего субъекта исключительно при помощи индициальных, или симптоматических, знаков, скрывающихся в приемах описания.
Образование нарративных структур на основе описания можно наблюдать, например, в текстах Андрея Битова. Если в рассказах сборника «Дни человека» жизнь запечатлевается в моментальных снимках, самих по себе малособытийных, то в текстах чисто описательных на первый взгляд и объединенных в сборнике «Семь путешествий» повествуется о воспитании чувств и понятий, о созревании души, очерчиваются пунктиром ментальные события [Шмид 1991а].
Вообще, можно полагать, что описательные тексты имеют тенденцию к нарративности по мере выявленности в них опосредующей инстанции. Разумеется, это нарративность, характеризующая не описываемое, а описывающего и его акт описания. Повествуемая в этом случае история является историей не диегетической (т. е. относящейся к повествуемому миру), а экзегетической (т. е. относящейся к акту повествования или описания), историей повествования (Erzhlgeschichte, Шмид 1982), излагающей изменения в сознании опосредующей инстанции.
Повествовательные и миметические нарративные тексты
До сих пор мы занимались вопросами, одинаково значимыми как для широкого, так и для узкого понимания нарративности. Вернемся еще раз к нашей дефиниции: текст является нарративным в широком смысле, если он излагает изменение состояния, и нарративным в узком смысле, если изменение состояния имплицитно или эксплицитно изображается повествующей инстанцией. Таким образом, получается подразделение нарративных текстов на нарративные тексты 1) с нарратором и 2) без такой опосредующей инстанции. Первый разряд, к которому относятся роман, рассказ, повесть и т. д., я предлагаю назвать «повествовательные нарративные тексты», а второй – «миметические нарративные тексты». К ним относятся пьеса, кинофильм, балет, пантомима, нарративная картина и т. д. Предметом нарратологии является как первый так и второй вид нарративов.
Как было упомянуто выше, предлагаемая в настоящей книге теория основывается на структуралистской концепции нарративности. Тем не менее, она приложима к различным текстам, соответствующим как классическому, так и структуралистскому понятию нарративности, т. е. объектом исследования станут словесные тексты, излагающие историю и в той или иной мере обладающие опосредующей инстанцией нарратора. В следующей схеме[13] указаны предметы нарратологии в структуралистском смысле (полужирная и двойная рамки) и множество текстов, на котором сосредоточена настоящая книга (двойная рамка)[14]:
Событийность и ее условия
Анализ нарративов не может довольствоваться одним лишь понятием «изменение состояния». Контраст между двумя последовательными во времени ситуациями одного и того же субъекта – это определение минималистское, охватывающее огромное количество тривиальных изменений в любом произведении. Даже короткие рассказы излагают тысячи подобных изменений, не говоря уже о романах, таких как «Война и мир». Необходимы категории, позволяющие различать изменения по их релевантности для повествуемой истории. Такую категорию мы находим в понятии «событие» (англ. event, нем. Ereignis)[15]. Во всех трех языках термин «событие» обозначает нечто внеочередное, неожиданное, нетривиальное. Понятие события и в настоящей работе употребляется в смысле «свершившегося неслыханного события», как Гёте характеризует содержание новеллы[16], или в смысле лотмановских дефиниций, предусматривающих, например, «перемещение персонажа через границу семантического поля» [Лотман 1970: 282][17], «значимое уклонение от нормы» [Лотман 1970: 282—283] или «пересечение запрещающей границы» [Лотман 1970: 288; 1973а: 86][18].
Пересекаемая граница может быть как топографической, так и прагматической, этической, психологической или познавательной. Таким образом, событие заключается в некоем отклонении от законного, нормативного в данном мире, в нарушении одного из тех правил, соблюдение которых сохраняет порядок и устройство этого мира.
Определение сюжета, предложенное Лотманом, подразумевает двухместность ситуаций, в которых находится субъект события, их эквивалентность, в частности, их оппозицию. С таким представлением принципиально совместима известная трехместная модель Артура Данто [1965], по которой основное условие всякой наррации заключается в оппозиции положений определенного субъекта (х), развертываемой в два различных момента (t-1, t-3):
(l) x is F at t-l
(2) H happens to x at t-2
(3) x is G at t-3
Каждое событие является изменением состояния, но отнюдь не каждое изменение состояния является событием. Для того, чтобы изменение состояния могло считаться полноценным событием в собственном смысле этого слова, оно должно удовлетворять определенным требованиям.
Основное условие события – это его реальность или фактичность, разумеется, в рамках фиктивного мира произведения. Изменение должно действительно произойти в фиктивном мире. Для события недостаточно, чтобы субъект действия только желал изменения, о нем мечтал, его воображал, видел во сне или в галлюцинации. В таких случаях событийным может быть только сам акт желания, мечтания, воображения, сновидения, галлюцинации и т. п.
С фактичностью связано другое основное условие событийности: результативность. Изменение, образующее событие, должно быть совершено до конца наррации (результативный способ действия). Нельзя говорить о событии, если изменение только начато (инхоативный способ действия), если субъект только пытается его осуществить (конативный способ действия) или если изменение находится только в состоянии осуществления (дуративный способ).
Фактичность и результативность представляют собой необходимые условия события. Без них изменение претендовать на статус события не может. Но и при выполнении этих двух условий нарративные оппозиции еще не могут порождать события. Полноценное событие подразумевает и целый ряд других условий.
Ниже предлагается набор пяти критериев, которые даются в иерархическом порядке согласно их релевантности. Событием могут считаться только те изменения, которые соответствуют первым двум критериям, по крайней мере, в известной степени. Указанные пять критериев подлежат градации. Это значит: события могут быть более или менее «событийными».
На вопрос, сколько событийности необходимо, чтобы изменение состояния могло стать событием, или, наоборот, как мало событийности достаточно, нельзя отвечать в общем виде. Ответ зависит от разных контекстуальных факторов:
1. от представления о событии, формируемого в данную эпоху, в данном литературном жанре, в данном литературном направлении;
2. от событийностной модели, выдвигаемой самим произведением;
3. от смысловой позиции и герменевтической компетенции данного читателя.
Прежде чем рассмотреть пять установленных нами критериев, определяющих степень событийности, назовем еще раз аналитические категории, которыми мы руководствуемся:
1. изменение состояния;
2. событие, т. е. реальное (в фиктивном мире) и результативное изменение состояния, удовлетворяющее определенным условиям;
3. событийность, т. е. подлежащее градации свойство изменения состояния.
Скажем заранее, что пять критериев полностью осуществлены только в нарративах домодернистских эпох. Апогей событийности мы обнаруживаем в произведениях реализма, прежде всего у Достоевского и Толстого. Но у реалистов эти критерии были сами собою разумеющимися и остались поэтому незамеченными. Для того чтобы получить критерии максимальной событийности, мы обратимся, как это ни парадоксально, не к реализму, а к постреалистическому нарративу Чехова, где событийность имеется только в редуцированном и проблематичном виде.
У Достоевского и Толстого событие заключается во внутренней, ментальной перемене и воплощается в том когнитивном, душевном или нравственном «сдвиге» [Шаталов 1974; Левитан 1976], который обозначается такими понятиями, как «прозрение» [Цилевич 1976: 56; Левитан 1976; Шаталов 1980: 67], «просветление» или «озарение» [Шаталов 1974]. Реалистическое понятие о событии получило образцовое осуществление в «воскресении» Раскольникова, во внезапном познании Левиным и Безуховым смысла жизни, в конечном осознании братьями Карамазовыми собственной виновности. В такой модели герой способен к глубокому, существенному самоизменению, к преодолению своих характерологических и нравственных границ.
Полноценная реалистическая событийность в творчестве Чехова подвергается значительному редуцированию. Повествование у Чехова во многих его вещах целиком направлено на осуществление ментального события, будь то постижение тайн жизни, познание социальных закономерностей, эмоциональное перенастраивание или же пересмотр нравственно-практических решений. Но Чехов не изображает завершенные ментальные события, он проблематизирует их и возможность их осуществления [Шмид 19916].
1. Первый критерий степени событийности – это релевантность изменения. Событийность повышается по мере того, как то или иное изменение начинает рассматриваться как существенное, разумеется, в масштабах данного фиктивного мира. Тривиальные (по меркам данного фиктивного мира) изменения события не образуют. Отнесение того или иного изменения к категории события зависит, с одной стороны, от общей картины мира в данном типе культуры, а с другой, от внутритекстовой аксиологии, вернее, от аксиологии переживающего данное изменение субъекта, но прежде всего от оценки со стороны читателя. Относительность релевантности демонстрируется Чеховым в рассказе с многообещающим для нарратолога заглавием «Событие». Все событие здесь заключается в том, что домашняя кошка приносит приплод и что большой черный пес Неро всех котят пожирает. Для шестилетнего Вани и четырехлетней Нины уже тот факт, что кошка «ощенилась», – событие величайшего значения. Между тем как взрослые не только спокойно терпят «злодейство» Неро, но и смеются, удивляясь аппетиту громадной собаки, дети «плачут и долго думают об обиженной кошке и жестоком, наглом, ненаказанном Неро»[19].
Не только персонажи данного нарративного мира могут оценивать релевантность того или другого изменения состояния по-разному, но и со стороны нарратора и подразумеваемых инстанций, таких как абстрактный автор и абстрактный читатель (о них см. ниже), оценки могут не совпадать. Мало того, реальные читатели могут руководствоваться индивидуальными представлениями о значимости того или другого изменения, которые не соответствуют взглядам вымышленных и абстрактных инстанций.
2. Вторым критерием является непредсказуемость. Событийность изменения повышается по мере его неожиданности. Полноценное событие подразумевает некоторую парадоксальность. Парадокс – это противоречие «доксе», т. е. общему мнению, ожиданию[20]. В повествовании как «докса» выступает та последовательность действий, которая в нарративном мире ожидаема, причем речь идет об ожидании не читателя, а протагонистов. Эту «доксу» и нарушает событие. Непредсказуемость может восприниматься читателем и протагонистами по-разному. Неожиданное для протагонистов изменение состояния может быть для опытного читателя вполне закономерной чертой данного жанра, т. е. оно может соответствовать «скрипту» (т. е. сценарию), которым руководствуется читатель[21]. Поэтому следует четко различать между скриптом читателя по отношению к действию произведения и ожидания протагонистов по отношению к их дальнейшей жизни.
Закономерное, предсказуемое изменение не является событийным[22], даже если оно существенно для того или иного персонажа. Если невеста выходит замуж, это, как правило, является событием только для самих новобрачных и их семей, но в нарративном мире исполнение ожидаемого событийным не является. Если, однако, невеста дает жениху отставку, как это случается в рассказе Чехова «Невеста», событие происходит для всех[23].
Релевантность и непредсказуемость являются основными критериями событийности. Более или менее второстепенными можно считать следующие признаки.
3. Консекутивностъ. Событийность изменения зависит от того, какие последствия в мышлении и действиях субъекта она влечет за собой. Консекутивное прозрение и перемена взглядов героя сказываются тем или иным образом на его жизни.
4. Необратимость. Событийность повышается по мере того, как понижается вероятность обратимости изменения и аннулирования нового состояния. В случае «прозрения» герой должен достичь такой духовной и нравственной позиции, которая исключает возвращение к более ранним точкам зрения. Пример необратимых событий дает Достоевский в цепи прозрений и озарений, характеризующих ход действия в «Братьях Карамазовых» [Шмид 20056].
5. Неповторяемостъ. Изменение должно быть однократным. Повторяющиеся изменения события не рождают, даже если возвращения к более ранним состояниям не происходит. Это демонстрируется Чеховым цепью бракосочетаний и связанных с ними радикальных мировоззренческих сдвигов Оли Племянниковой, героини рассказа «Душечка». Изображение повторяемости приближает наррацию к описанию. Недаром описательные жанры имеют естественную тенденцию к изображению повторяющихся происшествий и действий.
Предлагаемый набор критериев носит, разумеется, максималистский характер, что правильно отмечается В. И. Тюпой [2001а: 21][24]. Не все изменения того или иного повествовательного произведения удовлетворяют указанным пяти критериям в равной мере. Но, как уже было сказано, событийность – это свойство, подлежащее градации, т. е. изображаемые в нарративном произведении изменения могут быть событийными в большей или меньшей степени.
Каким целям служит анализ событийности? Формы и границы событийности – это явление, в высокой степени свидетельствующее о свойствах культуры и доксы той или другой эпохи. Таким образом, редукция событийности у Чехова является показателем постреалистической ментальности. Поэтому предлагаемый набор признаков событийности дает, помимо прочего, фундаментальные параметры для исследования истории культуры и мышления.
2. Фикциональность
Мимесис и вымысел
Чем отличается повествование в художественном произведении от повествования в житейском контексте, например от повседневного рассказывания, от сообщения последних известий по телевизору, от протокола, составленного полицией, или от репортажа спортивного комментатора?
Один из основных признаков повествовательного художественного текста – это его фикциональность, т. е. то обстоятельство, что изображаемый в тексте мир является фиктивным, вымышленным. В то время как термин «фикциональный» характеризует специфику текста, понятие «фиктивный» (или «вымышленный») относится к онтологическому статусу изображаемого в фикциональном тексте.
Роман, например, является фикциональным, изображаемый в нем мир – фиктивным[25]. Фикциональные тексты сами по себе являются, как правило, не фиктивными, а реальными[26]. Если противоположное по отношению к фиктивности понятие – реальность, то антонимом фикциональности является фактуальность [Женетт 1990][27].
Термин «фиктивный», производный от лат. fingere («образовывать», «изображать», «представлять себе», «вымышлять», «создавать видимость»), обозначает объекты, которые, будучи вымышленными, выдаются за действительные, притязают на реальность. Понятие фиктивности содержит, таким образом, момент обмана, симуляции, который слышится и в обыденном словоупотреблении («фиктивный счет», «фиктивный брак»), где слово «фиктивный» обозначает что-то «поддельное», «фальшивое», «мнимое», имея те же коннотации, что и слова «финт» и «финтить», производные от итальянского finta и, в конечном счете, от латинского fingere. Литературный вымысел ifictio), однако, – это симуляция без отрицательного характера, выдумка, в которой отсутствует момент ложности и обмана. Поэтому следует связывать фиктивность не столько с понятием видимости или симуляции, к чему склонны теоретики, сводящие ее к структуре «как будто» (als ob)[28], сколько с концепцией изображения автономной, внутрилитературной действительности.
Такая концепция близка к понятию «мимесис», как его употребляет Аристотель в «Поэтике». Аристотелевское понятие не следует сводить к значению imitatio, «подражание» чему-то уже существующему, как оно воспринималось в эпохи Ренессанса, классицизма и реализма. Такие семантические оттенки, без сомнения, еще можно обнаружить в употреблении Аристотелем этого понятия, унаследованного от Платона [ср. Сербом 1966: 176]. Но в целом «Поэтика» проникнута духом понимания мимесиса как изображения некоей действительности, не заданной вне мимесиса, а только сконструированной им самим[29]. В трагедии, по Аристотелю, «мимесис действия () – это повествуемая история )», определяемая им как «составление происшествий» ( – или , – ; 1450а: 5, 15)[30]. Из рассуждений Аристотеля явствует, что достоинство мимесиса заключается не в его фактическом сходстве с некоей действительностью, а в таком «составлении происшествий», которое способно вызвать желаемое воздействие на реципиента. В случае трагедии (самом ценном виде мимесиса) оно заключается в том, чтобы «путем сострадания и страха привести к очищению от таких аффектов» [1449b: 27—28].
Теория Аристотеля, преодолевающая платоновскую концепцию третичности мимесиса как подражания подражанию[31], не только признает за мимесисом, понимаемым как «делание» () [ср. Хамбургер 1957: 7—8], как конструкция [ср. Цукеркандль 1958: 233], первичность [ср. Эльс 1957: 322], но также и обосновывает его познавательную функцию [ср. Бойд 1968: 24], а тем самым его ценность. В отличие от историка, повествующего о том, что произошло – что, например, сказал и сделал Алкивиад, – поэт, по мнению Аристотеля, «говорит не о том, что было, но о том, что могло бы быть в соответствии с вероятностью или необходимостью» [1451а: 36—38]. Итак, предметом поэзии является не «действительно происшедшее» ( ), а «возможное» ( ). Поэтому «поэзия философичнее и серьезнее истории» [1451b: 5—6].
Вымысел, понимаемый в аристотелевском смысле как мимесис, – это художественная конструкция возможной действительности. Изображая не существовавшие происшествия, а происшествия возможные, фикция как конструкция имеет характер мыслительной модели.
В последние десятилетия теория фикциональности была предметом горячих дискуссий между представителями разных направлений, таких как онтология, семантика, теория высказывания, теория речевых актов, прагматика и др.[32] Спор возник прежде всего вокруг вопроса о том, следует ли рассматривать специфический статус литературы со стороны онтологии изображаемых предметов или же со стороны прагматики изображающего дискурса. Этой альтернативе в современной науке соответствуют два направления [ср. Рюлинг 1996]. С точки зрения литературоведения и философской эстетики специфика литературы трактуется как онтологическая проблема фиктивности изображаемых предметов. Под знаменем же «лингвистического поворота» в гуманитарных науках и под руководством аналитической философии все более распространяется подход, связывающий проблему специфичности литературы не с фиктивностью предметов, а с фикциональностью дискурса о них[33]. Особенной популярностью в наши дни пользуется теория «речевых актов» (speech acts) американского философа Джона Серля. По Серлю [1975], автор фикционального текста производит высказывания, которые имеют форму утверждения, но, не отвечая условиям утверждения, являются лишь «мнимыми» (pretended) утверждениями. Создание видимости «иллокутивных речевых актов»[34], которые автором на самом деле всерьез не совершаются, – в этом, по Серлю, существо фикциональности.
Одно из многочисленных возражений против теории Серля касается обсуждаемого им намерения автора создать видимость. Серль различает два значения слова pretend («создавать видимость»), первое из которых связано с обманом, второе же – с поведением «как будто» (as if), где ни малейшего намерения обмануть нет. Он утверждает, что деятельность автора характеризуется исключительно вторым значением. Следует, однако, задуматься, адекватно ли описана миметическая деятельность автора при помощи фигуры «как будто», всегда подразумевающей некое притворство, нечто неаутентичное.
Так, возражая Барбаре Смит [1978: 30], Доррит Кон [1989: 5—6] задается вопросом, создает ли Л. Толстой в рассказе «Смерть Ивана Ильича» действительно «видимость, что он пишет биографию [is pretending to be writing a biography]». По словам Кон, Толстой вообще никакой видимости не создает: «он делает что-то, а именно сообщает своему читателю фикциональный рассказ <…> о смерти вымышленного персонажа»[35].
Другой аргумент, ставящий под сомнение теорию мнимых иллокутивных актов, направлен против утверждения Серля о том, что вопрос о фикциональности произведения решает не кто иной, как автор[36]: «то, что делает текст фикциональным произведением, – это иллокутивное отношение автора к тексту, и это отношение зависит от сложных иллокутивных намерений автора» [1975: 325]. Ж. Женетт [1989: 384] на это отвечает: «…на наше великое счастье и вопреки правилам иллокуции, случается и так, что именно „читатели решают, принадлежит (текст) к литературе или нет”».
Эта полемика показывает, что спорным является также вопрос о том, какая инстанция принимает решение о фикциональности. Согласно Кэте Хамбургер [1957: 21—72; 1968: 56—111], это решает сам текст. Фикциональность для нее – объективное свойство текста, проявляющееся в отдеьных «симптомах». По Серлю же, определяющим является исключительно «намерение» (intention) автора. По мнению другой группы теоретиков, фикциональность является свойством относительным и прагматическим. Рассматривается ли данный текст как фикциональный или как фактуальный – это, по их мнению, результат фактического приписывания функции со стороны реципиентов, обусловленного их историческим и социальным контекстом и принятыми в этом контексте представлениями о действительном.
Признаки фикциональных текстов
Если вопрос о фикциональности решает сам текст, то фикциональный текст должен быть отмечен какими-либо объективными признаками. Такую позицию К. Хамбургер занимает в ряде работ [1951; 1953; 1955; 1957], где она утверждает своеобразие «фикционального, или миметического, жанра», к которому отнесены повествование от третьего лица, драматургия и кино и из которого исключается не только лирика, но также и повествование от первого лица. Фикциональный жанр отличается, по ее мнению, от противопоставляемого ему «лирического или экзистенциального жанра»[37] целым набором объективных признаков. Самые важные из них:
1. Потеря грамматической функции обозначения прошлого в использовании «эпического претерита» (т. е. прошедшего нарративного), обнаруживающаяся в сочетании прошедшего времени глагола с дейктическими наречиями времени (типа «Morgen war Weihnachten» – «Завтра [было] Рождество»)[38], и в связи с этим вообще детемпорализация грамматических времен;
2. Соотнесенность повествуемого не с реальной Ich-Origo[39], т. е. с реальным субъектом высказывания, а с некоей фиктивной «ориго», т. е. с одним или несколькими из изображаемых персонажей;
3. Безоговорочное употребление глаголов, выражающих внутренние процессы (типа «Наполеон думал…»).
Тезисы Хамбургер с самого начала натолкнулись на критику. Дискуссия вращалась прежде всего вокруг вопроса о прошедшем нарративном[40]. Главное возражение против аргументов Хамбургер состояло в том, что все указанные симптомы, все аргументы, приведенные в пользу детемпорализации прошедшего нарративного и атемпоральности фикциональных текстов, можно свести к явлениям, связанным с взаимопересечением точек зрения нарратора и персонажа. Сочетание глагола в прошедшем времени с дейктическим наречием будущего времени является специфической грамматической структурой, свойственной несобственно-прямой речи в немецком языке. В предложении «Morgen war Weihnachten» употребление прошедшего «было» соотносится с точкой зрения нарратора, повествующего о (фиктивном) прошлом, между тем как дейктическое наречие времени «завтра» связано с точкой зрения персонажа, для которого в данный момент повествуемого действия Рождество будет на следующий день. Примеры, приведенные Хамбургер, не случайно касаются исключительно несобственно-прямой речи. Однако этот прием нарраториальной передачи текста персонажа не ограничивается повествованием от третьего лица, как постулирует Хамбургер [1968: 249—250], а встречается закономерно и в повествовании от первого лица (см. ниже, гл. V).
Многие теоретики вообще отрицают присутствие каких-либо объективных симптомов вымысла в фикциональном тексте. Для Серля [1975: 327], например, «не существует таких особых текстуальных свойств, которые позволяли бы идентифицировать данный текст как фикциональное произведение». Третья же группа теоретиков, придерживающихся, в принципе, мнения об относительном, прагматическом характере фикциональности, исходит из существования определенных «ориентировочных сигналов» [Вайнрих 1975: 525] или «метакоммуникативных» и «контекстуальных» сигналов вымысла [Мартинес и Шеффель 1999: 15]. К первым, т. е. ориентировочным, сигналам Вайнрих причисляет характерное для фикциональных текстов намеренное умалчивание определенных обстоятельств места и времени и «отрицательное введение», которое встречается, например, в «разрушающем ориентировку» первом предложении романа М. Фриша «Штиллер»: «Я не Штиллер». Метакоммуникативными сигналами служат так называемые «паратексты» [Женетт 1987; ср. также Меннингхоф 1996], т. е. всякого рода сопровождающие тексты, такие как заглавия и подзаголовки, предисловия, посвящения и т. п. В них, как правило, указывается более или менее прямо на фикциональность произведения. Контекстуальный сигнал представляет собой, например, публикация данного произведения в определенной серии или в определенном издательстве. Далее следует учитывать метафикционалъные сигналы, встречающиеся в виде тематизации в тексте его возникновения, своеобразия, желаемого восприятия и т. д. [ср. Мартинес и Шеффель 1999:16—17).
Инсценировка чужого сознания как черта фикциональных текстов
Невзирая на то, что попытка К. Хамбургер поставить фикциональность на твердую почву объективных текстуальных признаков в наши дни рассматривается в общем как не удавшаяся[41], ее «Логика литературы» читается как глубокое введение в проблему фикциональности литературы. Упор в этой книге сделан на то, что фикциональная литература (в которую нужно включить и повествование от первого лица), изображая персонажи как субъекты в их субъективности, предоставляет читателю непосредственный доступ к их внутренней жизни. Хотя обнаруживаемые «симптомы» и не могут считаться признаками, в строгом смысле отличающими виды повествования друг от друга, поскольку их можно встретить и в нефикциональных текстах, они все же являются чертами, свойственными фикциональным текстам в значительно большей мере, чем текстам фактуальным. Безоговорочное употребление глаголов внутренних процессов («Наполеон думал, что…»), разумеется, может встретиться и в фактуальных текстах, причем подразумевается чистое предположение со стороны автора или наличие источника его знания. Но в фактуальном контексте оно не так закономерно, не так естественно, не так наивно, как, например, у Л. Толстого в «Войне и мире». В цитируемом ниже фрагменте всеведущий нарратор без всякой оговорки и мотивировки передает самые тайные движения в душе Наполеона во время Бородинского сражения в форме несобственно-прямого монолога:
Наполеон испытывал тяжелое чувство, подобное тому, которое испытывает всегда счастливый игрок, безумно кидавший свои деньги, всегда выигрывавший и вдруг, именно тогда, когда он рассчитал все случайности игры, чувствующий, что чем более обдуман его ход, тем вернее он проигрывает. <…> В прежних сражениях своих он обдумывал только случайности успеха, теперь же бесчисленное количество несчастных случайностей представлялось ему, и он ожидал их всех. Да, это было как во сне, когда человеку представляется наступающий на него злодей, и человек во сне размахнулся и ударил своего злодея с страшным усилием, которое, он знает, должно уничтожить его, и чувствует, что рука его, бессильная и мягкая, падает, как тряпка, и ужас неотразимой погибели обхватывает беспомощного человека (Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. Т. 11. С. 244—246).
В фактуальном, историографическом тексте такая инсценировка внутренней жизни политического деятеля была бы немыслима и недопустима. Источников, которые позволили бы историку осмелиться на соответствующие выводы, просто не существует. Всеведение автора является привилегией и признаком фикциональности. На самом деле оно является не знанием, а свободным вымыслом [ср. Женетт 1990: 393; Кон 1995:109].
Фикциональная литература позволяет нам ознакомиться с внутренней жизнью другого человека, получить надежную картину самых тайных, интимных движений чужой души, что в реальной жизни, где мы должны обходиться приметами и их ненадежной интерпретацией, в конечном счете даже в отношении к друзьям и спутникам жизни, исключено[42]. Инсценировка чужого сознания – это безусловно одна из причин антропологического значения фикционального повествования. Читатель может покинуть свой мир, выйти из своего «я», жить чужой жизнью, перемещаться в чужую субъективность, разыгрывать чужое восприятие мира, чужой образ мышления и поведения. Даже откровенный разговор, в котором человек изливает душу, или интимные записи не дают столько «другости». Вхождение во внутренний мир фиктивного чужого позволяет читателю получать представление о самом себе, о своей идентичности[43]. Возможность такой интимной и аутентичной «другости», разыгрывания чужой субъективности возникает лишь благодаря вымыслу автора, его знанию мира, силе его воображения.
В этом смысле упор Хамбургер на изображение внутреннего мира героев как на объективный признак фикциональности вполне соответствует концепции Аристотеля о мимесисе как «деланьи» () действующих лиц.
Фиктивный мир
Упомянутые дискуссии о фикциональности еще не привели к созданию общепринятой теории, но, при всей противоречивости теоретических подходов и моделей, складывается все же некоторое практическое согласие по поводу основных черт литературной фикциональности. В дальнейшем приводится модель, основывающаяся на общих чертах многочисленных позиций.
Быть фиктивным – значит быть только изображаемым. Литературный вымысел – изображение мира, не претендующее на прямое отношение изображаемого к какому бы то ни было реальному, внелитературному миру. Фикция заключается в «деланьи», в конструкции вымышленного, возможного мира. Для мимесиса создатель изображаемого мира может черпать элементы из разных миров[44]. Тематические единицы, используемые им как элементы фиктивного мира, могут быть знакомы по реальному миру, встречаться в разных дискурсах данной культуры, происходить из чужих или из древних культур или существовать в воображении. Независимо от того, происходят ли тематические единицы из реального, культурного или воображаемого миров, входя в фикциональное произведение, они непременно превращаются в фиктивные единицы.
Референциальные обозначающие в фикциональном тексте не указывают на определенные внетекстовые реальные референты, а относятся только к внутритекстовым референтам изображаемого мира. Другими словами, «вынесение» (Hinausversetzung, по [Ингардену 1931]) внутритекстовых референтов за границы текста, принятое в фактуальных текстах, в фикциональной литературе не происходит[45]. Таким образом получается «парадоксальная псевдореферентная функция или денотация без денотата» [Женетт 1991: 364]. Однако нарушение прямой связи текста и внетекстового мира ничуть не значит, что фиктивный мир для читателя лишен значения или является менее релевантным, чем реальный. Наоборот, фиктивный мир может приобрести высшую значимость. С внутритекстовыми референтами, например, персонажами или действиями, читатель может обращаться как с реальными, индивидуальными, конкретными величинами[46], даже если он отдает себе отчет в их фиктивности. Какой читатель останется безучастным к гибели Анны Карениной, кто останется равнодушным к борьбе Левина за веру или к обвинению бога Иваном Карамазовым?
Что же именно является фиктивным в фикциональном произведении? Ответ гласит: изображаемый мир целиком и все его части – ситуации, персонажи, действия.
Вымышленные единицы отличаются от реальных не каким-либо тематическим или формальным признаком, а только тем незаметным, невидимым свойством, что они не существуют или не существовали в реальности. Тезис о не-существовании в реальном мире, пожалуй, не вызывает сомнения в случае явно вымышленных персонажей, таких как, например, Наташа Ростова или Пьер Безухов. А как быть с историческими личностями, такими как Наполеон или Кутузов, если они фигуры романа? Это только квазиисторические фигуры. Наполеон Толстого не является ни отражением, ни отображением реальной исторической личности, а изображением, мимесисом Наполеона, т. е. конструкцией возможного Наполеона. Большая часть того, что повествуется в романе об этом Наполеоне (ср. цитированные выше размышления героя во время Бородинского сражения), не может быть засвидетельствована документами и немыслима в историографическом тексте. В романе «Война и мир» Наполеон и Кутузов не менее фиктивны, чем Наташа Ростова и Пьер Безухов (для фиктивности, разумеется, градации не существует).
Фиктивность персонажей не подлежит сомнению, когда они наделены чертами, пусть самыми незначительными, которые явно вымышлены и не могут быть подтверждены каким бы то ни было историческим источником. Но даже если бы автор исторического романа последовательно придерживался засвидетельствованных историками фактов (что исключало бы всякое изображение внутреннего мира), то все его герои, как бы они ни были похожи на исторические личности, все же неизбежно являлись бы вымышленными фигурами. Уже тот факт, что эти квазиисторические фигуры живут в том же мире, что и явно вымышленные, превращает первых в фиктивные персонажи. Того Наполеона и того Кутузова, которые могли бы встретиться с Наташей Ростовой и Пьером Безуховым, в реальном мире не существовало.
Фиктивность персонажей делает фиктивными и ситуации, в которых они находятся, и действия, в которых они принимают участие. Фиктивным является и пространство романа. Это очевидно в случае Скотопригоньевска, места действия «Братьев Карамазовых», которого нет ни на одной карте России. Но фиктивными являются и те места, которым соответствует конкретный эквивалент в реальности. Ту Москву, например, в которой живут герои романа «Война и мир», то Бородино, под которым погибает Андрей Болконский, нельзя найти ни на какой исторической карте России. Ни Москва, ни Бородино, ни какое-либо другое место действия романа «Война и мир» не обозначают точки на пространственной оси реальной системы временно-пространственных координат. В реальной системе координат мы находим только такие Москву и Бородино, где ни Наташа Ростова, ни Андрей Болконский никогда не бывали.
Столь же фиктивно и изображаемое время романа. Это очевидно в произведениях утопического или антиутопического характера. Наглядным примером фиктивного времени долго служил роман Дж. Оруэлла «1984». Но когда наступил этот год, фиктивность времени романа показалась чуть менее очевидной.
Таким образом, в фикциональном произведении фиктивными являются все тематические компоненты повествуемого мира – персонажи, места, времена, действия, речи, мысли, конфликты и т. д. Вопреки распространенной в теории фикциональности концепции смешанной онтологии исторических фигур в фиктивном мире (mixed-bag conception), т. е. мнению, что в фикциональных текстах наряду с фиктивными элементами могут фигурировать и реальные люди, места или времена[47], мы здесь исходим из того, что фиктивные миры предполагают онтологическую гомогенность[48].
Повествуемый мир – тот мир, который создается повествовательным актом нарратора. Но изображаемый мир, созданный автором, не исчерпывается повествуемым миром. В него входят также нарратор, его адресат и само повествование. Нарратор, им подразумеваемый слушатель или читатель и повествовательный акт являются в фикциональном произведении изображаемыми и, следовательно, фиктивными[49]. Повествовательное произведение – это произведение, в котором не только повествуется (нарратором) история, но также изображается (автором) повествовательный акт. Таким образом, получается характерная для повествовательного искусства двойная структура коммуникативной системы, состоящей из авторской и нарраторской коммуникаций, причем нарраторская коммуникация входит в авторскую как составная часть изображаемого мира[50].
3. Эстетичность
Чтобы охарактеризовать художественное повествование, необходимо прибегнуть к признаку фикциональности. Но одного этого признака недостаточно. Фикциональность и художественность – понятия не совпадающие. Есть фикциональные повествовательные тексты, которые не относятся к области художественной литературы. Таковы истории, служащие примерами в научной или дидактической работе, текстовые задачи в учебнике по математике, рекламные ролики и т. п. Художественное повествование обладает еще одним признаком – эстетичностью, вернее, эстетической функцией всего произведения, в котором оно фигурирует как составная часть изображаемого мира. Не намереваясь углубляться в пропасти литературной эстетики, ограничусь некоторыми замечаниями о том, каким образом эстетическая функция произведения влияет на повествование и его восприятие.
Наряду с теоретическими и практическими функциями литературное произведение выполняет также функцию эстетическую. В наборе функций, предопределенных фактурой произведения, эстетическая функция, в принципе, занимает первое место. Это, однако, не исключает, что в некоторые периоды для некоторых реципиентов действительно преобладают теоретические или практические функции. На практике внеэстетические функции часто вытесняют задуманную автором или предназначенную фактурой эстетическую функцию, как и, наоборот, задуманный автором или предназначенный фактурой для внеэстетического (теоретического, идеологического или религиозного) действия текст может некоторыми читателями и в некоторые эпохи восприниматься как текст с преобладающей эстетической функцией (ср. [Мукаржовский 1932; 1938а; 1942]; ср. также [Хватик 1981: 133—141].
Эстетическое восприятие текста подразумевает напряжение разных воспринимающих сил, как познавательных, так и чувственных, и оно не ограничивается ни тематической информацией текста, ни средствами ее выражения. Это – восприятие целостное, восприятие структуры, включающей взаимодействия содержательных и формальных элементов. В эстетической установке на текст действует презумпция семантичности всех его элементов, как тематических, так и формальных (ср. [Лотман 1964; 1970; 1972]). Таким образом, тематические единицы приобретают вторичный смысл, а элементы формальные, сами по себе не имеющие какого бы то ни было референциального значения, наделяются смысловой функцией. С одной стороны, они способствуют порождению эстетического содержания, подчеркивая соотношения между тематическими единицами, высвобождая в этих единицах семантические потенциалы, надстраивая на них новые сцепления в сложном семантическом рисунке произведения. С другой стороны, формальные элементы, совсем прозрачные, как бы невидимые во внеэстетической установке, становятся объектами восприятия, соединяясь с тематическими структурами и образуя с ними сложные «гештальткачества» (ср. [Шмид 1977]).
Какое значение имеет эстетичность для нарративной структуры и нарратологии? Для того чтобы эстетическая функция действительно преобладала, повествование должно отличаться чертами, вызывающими у читателя эстетическую установку. Это, разумеется, не значит, что нарратор должен повествовать «красиво». Носителем эстетического намерения является, как правило, не нарратор, а изображающий и его, и повествовательный акт автор. А для того чтобы произведение вызвало у читателя эстетическую установку, автор должен организовать повествование таким образом, чтобы оно не было носителем лишь тематической информации, чтобы содержательной стала сама манера повествования. Преобладание эстетической функции требует, чтобы тематические и формальные элементы друг друга мотивировали и оправдывали, способствуя в познавательном и чувственном взаимодействии образованию сложного эстетического содержания.
Фикциональность и эстетичность – это два самостоятельных, независимых друг от друга отличительных признака художественного повествования. Но они сходным образом влияют на восприятие произведения. Как фикциональность, так и эстетичность обусловливают изоляцию произведения, снятие внешней референтности, ослабление непосредственного соотнесения с реальностью. В порядке компенсации оба эти свойства вызывают концентрацию внимания на самом произведении, на его структуре, на внутренней референтности. Под знаком фикциональности и эстетичности отношение вымышленного Наполеона к исторической личности с тем же именем, отношение внутрироманного мира к некоему историческому менталитету (соответствующему, впрочем, в романе «Война и мир» скорее 1860-м годам, когда роман писался, чем реальным наполеоновским временам) становится менее релевантным. Вместо внешних отношений текста к действительности в центре внимания находятся внутритекстовые отношения: с одной стороны, отношения между тематическими элементами, такими как персонажи, действия, ситуации, с другой стороны, между тематическими и формальными элементами.
Под действием фикциональности и эстетичности художественное повествование, однако, связи с внелитературной действительностью не теряет. Изменение отношения художественного произведения к действительности под влиянием эстетической функции чешский структуралист Ян Мукаржовский рассматривает на примере «поэтического обозначения» (poetick pojmenovn):
Ослабление непосредственного отношения поэтического обозначения к действительности компенсируется тем, что художественное произведение как обозначение глобальное [pojmenovn globln] завязывает отношения со всем жизненным опытом субъекта, как творящего, так и воспринимающего, в его совокупности [Мукаржовский 1938а: 60][51].
Как раз в силу того, что фикциональность и эстетичность ослабляют непосредственное отношение произведения к действительности и направляют внимание воспринимающего на внутреннюю референтность и на художественное построение повествования, они способствуют, в конечном счете, оживлению целостного отношения человека к действительности.
Глава II. Повествовательные инстанции
1. Модель коммуникативных уровней
Повествовательное произведение отличается, как мы видели, сложной коммуникативной структурой, состоящей из авторской и нарраторской коммуникаций. К этим двум конститутивным в повествовательном произведении уровням добавляется факультативный третий, добавляется в том случае, если повествуемые персонажи, в свою очередь, выступают как повествующие инстанции.
На каждом из описанных трех уровней коммуникации мы различаем две стороны, сторону отправителя и сторону получателя. Употребляя термин «получатель», мы должны учесть немаловажное обстоятельство, в известных коммуникативных моделях нередко упускаемое из виду. Получатель разделяется на две инстанции, которые, даже если они материально или экстенсионально совпадают, следует различать с точки зрения функциональной или интенсиональной, – адресата и реципиента. Адресат – это предполагаемый или желаемый отправителем получатель, т. е. тот, кому отправитель направил свое сообщение, кого он имел в виду, а реципиент – фактический получатель, о котором отправитель может не знать. Необходимость такого различения очевидна – если письмо читается не адресатом, а тем, в чьи руки оно попадает случайно, может возникнуть скандал.
С начала 1970-х годов коммуникативные уровни и инстанции повествовательного произведения подвергались анализу в разных моделях. Здесь я возвращаюсь к своей модели [Шмид 1973: 20—30; 1974а], которая впоследствии применялась в анализах текстов, обсуждалась, модифицировалась и дорабатывалась в теоретических работах[52]. Одновременно с предложенной мною моделью была опубликована модель Дитера Яника [1973], которую я тогда не мог учесть[53]. Не были мне тогда доступны и работы польских ученых [Окопиень-Славиньска 1971, Бартошиньский 1971][54]. В дальнейшем эти труды я учитываю, так же как и отзывы научной критики на предложенную мною модель[55].
Объяснение сокращений и знаков:
ка = конкретный автор
: = создает
аа = абстрактный автор
фн = фиктивный наррататор
= направлено к
П1, П2 = персонажи
фч = фиктивный читатель (наррататор)
ач = абстрактный читатель
па = предполагаемый адресат произведения
ир = идеальный реципиент
кч = конкретный читатель
2. Абстрактный автор
Конкретные и абстрактные инстанции
Начнем с того уровня и с тех инстанций, которые имеются в каждом сообщении и поэтому не являются специфическими для повествовательного произведения. Это авторская коммуникация, к которой принадлежат автор и читатель. Эти инстанции выступают в каждом сообщении в двух разных видах, в конкретном и в абстрактном.
Конкретный автор – это реальная, историческая личность, создатель произведения. К самому произведению он не принадлежит, а существует независимо от него. Лев Толстой существовал бы, конечно же (хотя, наверное, не в нашем сознании), даже если бы он ни одной строки не написал. Конкретный читатель, реципиент, также существует вне читаемого им произведения и независимо от него. Собственно говоря, имеется в виду не один читатель, а бесконечное множество всех реальных людей, которые в любом месте и в любое время стали или становятся реципиентами данного произведения (модель внешней коммуникации: [Шмид 1973: 22]).
Несмотря на то что автор и читатель в их конкретном модусе в состав литературного произведения не входят, они в нем каким-то образом представлены. Любое сообщение содержит имплицитный образ отправителя и адресата. Когда мы слушаем, не видя ни говорящего, ни его собеседника, к кому-то обращенную речь неизвестного нам человека, мы автоматически на основе услышанного создаем для себя представление об отправителе и получателе речи. Вернее – не о получателе самом по себе, но о получателе, каким его предполагает отправитель, т. е. о предполагаемом адресате.