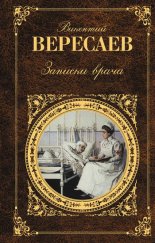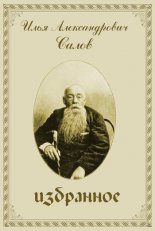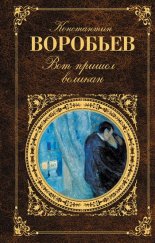Эликсир жизни Крыжановская-Рочестер Вера
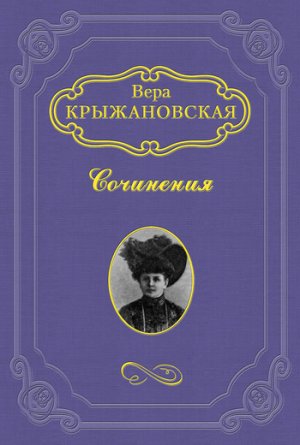
Я понял, что к научной истине приходят последовательно: ошибка за ошибкой. И я был признателен Бубрецову за то, что он уберег меня от публичного позора; коллеги ничего не узнали о злополучном открытии. Я получил урок: повторяемость результатов не есть гарантия правильности опыта. И еще: торопись без суеты. Когда торопишься, вспомни, сколько раз ты куда-нибудь спешил и что из этого выходило.
Дипломная работа занимала почти всё мое время и мысли. Иногда я так глубоко погружался в размышления, что не замечал ничего вокруг. Однажды рано утром, еще не совсем проснувшись, шел из общаги в лабораторию и думал о предстоящем эксперименте. Шагал прямо по шоссе, так как тротуара тут еще не было, кругом велась стройка. Погрузившись в мысли, не сразу обратил внимание на какие-то звуки позади. Хотел было отодвинуться не оборачиваясь, как вдруг ощутил сильнейший толчок в плечо, от чего вмиг пробудился от своих дум. Возмущенно развернулся, желая врезать грубияну как следует, и замер в изумлении. Меня толкал автобус! Водитель сигналил и крутил указательным пальцем у головы, а пассажиры дружно смеялись, видя мое намерение пободаться с автобусом.
Наука божественна, но храмы науки населены отнюдь не богами. Эту истину я понял на дипломе. Бубрецов предупредил, чтобы я ни в коем случае не распространялся на кафедре о результатах. После конфуза со злополучным открытием у меня и в мыслях такого не было. Как потом выяснилось, Бубрецов опасался не нового конфуза, а утечки информации. Результаты оказались достаточно важными. Их приняли в журнал «Доклады Академии».
Доцент А.Я.Потапов, выступая в качестве рецензента на защите, отметил, что диплом Никишина вполне может рассматриваться как фундамент кандидатской диссертации. Пожурил меня за не слишком аккуратное оформление, но похвалил за стремление докопаться до сути. При этом умудрился выронить диплом из рук. Диплом был не переплетен, так как я допечатывал последние фразы накануне ночью. Диплом, ударившись о голову сидящего профессора Юрьева, рассыпался по полу на отдельные листы. Все бросились под столы собирать. Профессор потер ушибленную лысину и воскликнул весело: «Да, очень весомый диплом!».
Биогавань. Речные рога
После окончания МБИ мне предложили в Москве аспирантуру. Но я не хотел жить в сумасшедшем мегаполисе. Объездив Подмосковье, остановился на Биогавани. Во-первых, тут было пять институтов биологического профиля, и, во-вторых, очень понравился сам академгородок. Он красиво стоял на холме, на берегу реки, а вокруг простирались поля и леса. Никакой гавани на самом-то деле не было, если не считать пристани, куда причаливали рыбацкие моторки.
Я спешно организовал переезд моей матери и брата из Крыма в Биогавань. В результате мы с Лидой и дочуркой поселились в Биогавани в маленькой двухкомнатной материнской квартирке. Было тесновато. Кроме того, между женщинами началась позиционная война в рамках классических отношений «сварливая свекровь – нахальная сноха». Сорок мужчин могут мирно жить в одной казарме, а две женщины на общей кухне начнут войну. Вообще нет большей ненависти в мире, чем ненависть соседей по квартире. Причем, чем крепче позиция, тем слабее нервы. Я подал заявление в профком на отдельное жилье. И, конечно, вопрос был решен типично по профкомовски: мне с Лидой выделили комнату в коммуналке.
Между прочим, известно, что в коммуналках рождаемость выше… В доме жило много таких же молодых семей. Все были нищие, но веселые. По вечерам часто собирались шумные компании. По утрам я разгребал мусор и грязную посуду. Процесс мытья посуды меня не угнетал. Наоборот, тупая размеренная деятельность над раковиной под шум воды из крана наводила на глубокомысленные размышления.
В один из летних вечеров компания ринулась на речку купаться. Вдвоем с Лидой мы идти не могли: кому-то надо было сидеть с дочкой. Я остался. Лидия вернулась за полночь, радостная, разгоряченная и необычно страстная. Через три дня повторилось то же самое. Я доверчиво полагал, что она просто ходит купаться. Женская верность – миф, в который наиболее охотно верят рогоносцы.
Как-то вечером раздался стук в окно (мы жили на 1-м этаже). «Ой! Это меня! Зовут на речку!», – крикнула мне Лида. Я выглянул и увидел под окном кучерявую голову соседа с 3-го этажа. Этот сосед был известный хохмач и бабник. Ситуация показалось мне скользкой. «Может, не пойдешь?», – спросил я Лиду. Она горячо возразила: «Пойду-пойду! Я мигом! Искупаюсь и вернусь». Вернулась снова за полночь; скромненько, смиренными шажками, вошла и стала тихо раздеваться, не включая свет. От нее несло духами и помадой; и еще изменой. Шлындра. Дешевка.
Когда через день всё повторилось, я взял рюкзак, покидал в него немногочисленные шмотки и пошел на выход. Дочка сладко спала в кроватке. «Ты куда?!», – демонстрируя удивление вскрикнула Лида. «У матери пока поживу», – буркнул я глухо. Лида заплакала. Я терпеливо дождался, пока ручьи высохнут, а всхлипы стихнут. «Значит, уходишь?», – уточнила она, перестав сморкаться в ночной халатик. «Значит, ухожу», – эхом отозвался я, грустно подумав: «Муж плохой – уходит достаток; жена плохая – уходит муж». Лида оправила халатик и кивнула: «Ладно, иди. Только давай сразу договоримся на счет алиментов». Я тут же сочинил афоризм, что алименты – это штраф с нас, мужчин, за легкомысленный секс с тяжелыми последствиями, но не решился озвучить вслух. «Мне нужно купить чешскую стенку. Оплатишь?», – продолжила Лидия свою мысль. «А куда ж я денусь», – согласился и ушел. Как говорится, ушла любовь, ушел и я.
Лида сделала попытку меня вернуть. Мы с ней даже сошлись на пару недель, но ничего не вышло. Оказывается, я не умею прощать. И еще. Я вдруг осознал, что Лида – не единственная на планете женщина, обладающая всеми прелестями слабого пола. У меня наметилась новая привязанность, к которой я потянулся, как сиротливый теленок к грудастой буренке.
Вскоре Лидия вышла замуж за соседа. Но не за кучерявого с 3-го этажа, а за другого – лысого, с 5-го. Кстати, очень положительный мужик.
Эффект Мыранова
В Биогавани я долго искал по институтам подходящую лабораторию. Особенно интересной показалась та, которая называлась лабораторией биоэнергетики. Я решил, что там занимаются молекулярными механизмами преобразования энергии в живой клетке. Жизнь это энергия. Есть энергия – есть жизнь. Мне хотелось узнать, как в клетке возникает жизненная энергия и как она расходуется.
Проблема была только в том, что заведующая этой лабораторией профессор Кондрашкина пользовалась в МБИ дурной славой. «Если хотите в чем-либо запутаться, поговорите с Кондрашкиной», – смеялся профессор Юрьев, не рекомендуя мне идти под начало этой властолюбивой дамы. Я не послушал его. А зря.
Кондрашкина, узнав что я из МБИ, поморщилась: «Уж больно там все умные, злоупотребляют физикой да математикой. А ведь биология – наука о живом, тут негоже циркулем махать». Она не очень-то хотела меня брать. Предпочитала молодежь с периферии. Возьмет вытащит в академгородок малограмотного мальчонку из какого-нибудь козлохердинского сельхозинститута – и он ее не просто слушается, он ее боготворит. Но на мое счастье (или несчастье) один из коллег Кондрашкиной, некто П.Г.Мыранов, заявил, что готов сделать из Никишина настоящего ученого. Она отдала меня под его начало и на время забыла о моем существовании.
Мой новый шеф Петр Геннадиевич Мыранов оказался не просто старшим научным сотрудником, кандидатом медицинских наук. Он был большая шишка: ученый секретарь академгородка и член горкома партии. Типичный «член», и этим всё сказано. Перебравшись с помощью партийных связей из далекого Ашхабада в академгородок, быстро продвигался по служебной лестнице. Везунчик, он был суетлив и трусоват. Успешная карьера позволила ему уверовать в свою значимость и могущественность. Не зря говорят, что если человек идет по жизни легко, значит, он попал на плохую дорогу. Баловень судьбы – ничтожество, которому не мешают ни люди, ни боги. Карьерист, начиная как трусливый заяц, постепенно становится опытным лисом, приобретающим всё более волчьи черты на более высоких должностях. Вообще карьеры пробиваются тремя способами: хитрыми головами, толстыми задами, сладкими словами.
В науке Мыранов разбирался ровно столько, чтобы среди неучей слыть знатоком или, если выразиться образно, среди импотентов бабником. Всегда стильный, в импортном элегантном костюме, при ярком галстуке, в белоснежной рубашке со сверкающими запонками, он производил неизгладимое впечатление на различные делегации и депутации. Хотя, по моему мнению, пижон в шикарном костюме, с серебряными запонками, в солидных очках в золотой оправе, есть всего лишь пижон, и никто более.
Он месяцами не вылезал с совещаний и заседаний. Кто хочет стать начальником, тот должен распрощаться со своей свободой. Таким образом, как вы поняли, Петр Геннадиевич был очень занятой человек. Однако нашел для меня пару часиков, чтобы сформулировать те великие научные проблемы, которыми я обязан буду заниматься под его чутким руководством. В ходе беседы мне показалось, что это не проблемы, а проблемки. Причем, сделанные шефом указания носили ультимативный характер. Мыранов, как любой начальник-выскочка, игнорировал в отношениях с коллегами три важные вещи: что он руководит людьми; что обязан управлять ими по совести; и что помыкать ими он будет не вечно.
Когда я вторично зашел в шикарный кабинет шефа, он достал из ящика стола пухлую папку, вытащил из нее длинную ленту бумаги, сложенную гармошкой, и показал несколько графиков. Как выяснилось, сколько-то лет назад он сам ставил опыты и обнаружил необычный эффект. В митохондриях (мельчайших внутриклеточных органеллах, ответственных за синтез богатого энергией аденозинтрифосфата – АТФ) Мыранов вроде бы нашел «ключевую энергетическую точку». И теперь он хотел, чтобы я, опираясь на его открытие, продолжил изучение этой «точки». Причем, предупредил, чтобы я, не дай бог, не проговорился кому-нибудь об этом. Изображая повадкой важную научную фигуру, строго-настрого запретил мне общаться с сотрудниками других лабораторий. Недвусмысленно дал понять, что любое неповиновение будет строго караться. Титулы превращают невежду в невежу. Невежество – подмастерье хамства.
Через месяц работы над «эффектом Мыранова» я понял, что это не эффект, а ошибка, грустный артефакт (слово «артефакт» используется в науке в двух смыслах: как синоним ошибки или археологической находки). Ошибка заключалась в неселективности рН-электрода. Мыранов думал, что электрод реагирует только на концентрацию протонов (рН), тогда как электрод чувствовал также ионы калия и натрия. Когда я объяснил это Мыранову, он не поверил и начал было хорохориться, но после дискуссии смирился и скис. Кстати, если ученый не сделал в науке ничего нового, он может утешиться тем, что никогда не будет опровергнут.
ЭВС
Поскольку своих идей у Мыранова больше не было, он спросил: как же теперь найти в митохондриях «главную энергетическую точку»? Я радостно раскрыл ему идею, что такими «точками» могли бы служить ферменты дыхательной цепи, способные переходить в электронно-возбужденные состояния (ЭВС). Если воздействовать мощным светом, например лазерным, то ферменты перейдут в ЭВС. При этом в дыхательной цепи возникнет перенос электронов, протонов и синтез АТФ. Мыранов удивился: «Причем тут ЭВС и зачем тут свет? В живой клетке никакого света нет, в ней абсолютно темно. Это ведь любому дураку ясно». «Дураку может и ясно, – не удержался я от выпада, – но вообще-то в живой клетке, а точнее – в ее митохондриях, происходит сжигание кислородом продуктов расщепления сахара. Этот процесс похож на сгорание бензина в двигателе автомобиля. Разница лишь в деталях. В митохондриях сгорание идет так, что энергия тратится не на расширение газа и толкание поршня, как в двигателе, а на перенос электронов, протонов и синтез АТФ. В митохондриях потери энергии в тепло составляют 70 %, но температура клеток человека не превышает 37 градусов, в то время как температура в камере сгорания двигателя достигает тысячи градусов. В любой химической реакции в молекулах происходит перераспределение энергии. Часто порции энергии столь велики, что молекулы переходят в ЭВС, как при облучении мощным светом. Когда энергия ЭВС не используется, а теряется, то наблюдаются излучение и разогрев. В живой клетке есть свечение, хотя оно в миллион раз слабее, чем пламя при сгорании бензина».
«Разве свечение митохондрий или клетки можно увидеть?», – в замешательстве спросил Мыранов. Я пояснил: «Свечение уже давно наблюдается Юрьевым и другими. Оно регистрируется в ультрафиолетовой, видимой и инфракрасной области. Его можно обнаружить с помощью детекторов – фотоэлектронных умножителей. Такое излучение сходно с тем, которое зачастую наблюдается в химических реакциях. Высвобождение энергии в реакциях не обязательно связано со сгоранием. Например, если слить вместе кислоту и щелочь, то возникнет сильнейший нагрев раствора. Здесь часть химической энергии при нейтрализации зарядов теряется в виде тепла. При этом можно наблюдать сильное свечение в инфракрасной области, а также слабое – в видимой и ультрафиолетовой».
Мыранов спросил: «Так, по Вашему, Викентий, получается, что по клетке энергия гуляет в виде света?» – «Нет. В виде света и тепла она только теряется. А передается она двумя способами: на большие расстояния – с помощью веществ, богатых химической энергией, а на маленькие – с помощью ЭВС». Мыранов с сомнением покрутил головой, повздыхал, но мой уверенный тон все-таки как будто убедил его. «Если всё это так, то тут открываются большие перспективы. Так и быть, начинайте опыты, а через 3 месяца доложите о результатах», – решил он.
В лаборатории я собрал установку, позволяющую проводить опыты по световой стимуляции митохондрий, а также детектировать люминесценцию, рН и кислород. Три месяца пролетели мгновенно. Я показал Мыранову результаты: под интенсивным синим светом в суспензии митохондрий возникало потребление кислорода. Стоило выключить освещение, и процесс тут же прекращался. Мыранов сначала не понял, о чем речь, но после разъяснений обрадовался и предоставил мне полную свободу. В течение двух лет я выяснил, что свет активирует в дыхательной цепи потребление кислорода, перенос электронов, изменение рН и синтез АТФ.
Крошка Цахес
Однажды на доске объявлений я увидел информацию о том, что сегодня некий заезжий доцент прочитает лекцию «Клеточный свет». Название было столь привлекательным, что я отставил все дела и пошел. Народу было битком. На трибуну вышел маленький плешивый человечек с пронзительными глазками и роскошной марксовской бородой. Доцент был прирожденный оратор. С первых же слов заинтриговал всех. Он рассказал о том, что обнаружил свет, исходящий из живых клеток. Ностальгически вспомнил, как давно в одиночку начал эту работу и как было трудно. Открыл всем глаза на то, что все ученые, работающие в это области, оказывается, питались исключительно его идеями и просто шли по его стопам, не более того. Почему-то мне вспомнился гофмановский крошка Цахес. Доцент рассказывал так, будто пел арию. Деменуэндо сменялось аллегро; стоккато переходило в легато; и под конец – мощное крещендо. Он владел ритмом. Умел делать многообещающие паузы. Мастерски держал слушателей в напряжении, волнении и ожидании почти два часа. Он говорил, говорил и говорил. Все внимали. Докладчик это болтун, которого никто не имеет права прерывать.
Чем длительней говорильня, тем сильнее чувство, что всё уже сделано. Но чем дольше он говорил, тем больше я ощущал какую-то неудовлетворенность. Когда наступило финальное крещендо, я начал осознавать причину беспокойства: за все два часа доцент не показал ни одного графика, ни одной таблицы, ни одного результата. Но вот, в самом конце, когда все затаили дыхание, крещендо достигло высшей точки, он показал два слайда. На первом была его собственная улыбающаяся физиономия. На втором был показан результат одного эксперимента, из которого следовало, что живые клетки способны поглощать свет и люминесцировать – излучать свет. Зал разразился шквалом аплодисментов. Шквал быстро перешел в овации. Кто-то, не удержавшись, крикнул «браво!» На него зашикали: все-таки подразумевалось, что мы не в театре.
Расходились все небольшими группами, возбужденные и радостные, как после хорошего пикника. Но я так и не врубился: с чего радость-то? То, что живые клетки могут поглощать свет, так это было известно давным-давно, когда докладчик еще не появился на белый свет. Простейший пример – зеленый лист, в котором солнечный свет преобразуется в энергию химических веществ. То, что излучают свет все, кому не лень (светлячки, медузы и др.), это тоже было установлено наукой задолго до доцента. От любого живого организма есть свечение, только очень слабое, не видимое глазом. Физический механизм люминесценции тоже известен. Жаль, что ни доцент, ни его слушатели ничего этого не знали.
Ультиматум
На основании полученных данных я подготовил две статьи для публикации. В конце каждой статьи выразил благодарность П.Г.Мыранову за поддержку. Перед тем, как отправить статьи в журнал, дал их шефу почитать. Назавтра он вызвал меня и, пристально глядя мне в переносицу, пробормотал: «В нашей лаборатории есть традиция: молодежь сама от себя статьи в журналы не посылает». – «Почему?» – «Потому что нет имени. Кто-то из известных ученых должен быть соавтором». – «По-моему, таких правил в науке нет. Ведь статью отправляют на рецензию специалистам; их положительные отзывы достаточны для публикации». – «А Вы уверены, что сумеете получить такие отзывы? У меня ведь в редакции журнала „Биофизик“ есть свои люди…», – грубо намекнул Мыранов. Я прямолинейно возмутился: «Разве это правильно, если в соавторах будет тот, кто не вложил в работу реального труда?». – «Викентий, Вы еще слишком молоды, чтобы судить о таких вещах. Короче, я запрещаю Вам посылать статьи в журнал. И буду вынужден предупредить руководство Института, чтобы Вам не подписывали акты экспертизы. Кроме того, на сколько я в курсе, Вы сейчас ожидаете квартирку в доме аспирантов. Так вот: ее не будет, пока Вы не примете правильного решения». Это был ультиматум. Ультиматум бездушного нахального чиновника. Чиновник не умеет ничего, но может всё.
Я безуспешно пытался отправить свои статьи в печать. В Институте не подписали акты, мотивируя отказ тем, что результаты не апробированы на семинаре (хотя обычно акты составляются формально). Я пошел к Кондрашкиной с просьбой провести семинар. После долгих проволочек семинар был, наконец, назначен. Мыранов на него не пришел. Зато явился доктор биологических наук А.Э.Биркштейн, из другой лаборатории. Оказалось, что Кондрашкина пригласила его в качестве эксперта.
Для доклада мне дали 15 минут. Я изложил суть проблемы, показал данные, сделал выводы. Коллеги стали спрашивать. Поскольку все они были биохимики, то многие вещи приходилось объяснять с нуля, буквально из курса общей физики. Кондрашкина задала парочку вопросов и, не дожидаясь ответов, недовольным тоном заявила: «Это всё какая-то ерунда», после чего предоставила слово эксперту.
Биркштейн разбил меня в пух и прах. Надо сказать, что из всех присутствующих он единственный был в теме не совсем профан. Его работы по белковой люминесценции, выполненные в 60-е годы совместно с Юрьевым, в СССР были пионерскими, хотя отставали от Запада. С годами наука ушла вперед, а старый Биркштейн топтался на месте, пытаясь кормиться на былой славе. Но слава его улетучилась. Слава подобна воздушному шару: вверх, ввысь, за облака… б-бум-м! Кто стар, а славы не обрел, тот вроде никогда и не рождался. Бедняга Биркштейн очень мучался этой мыслью. Страдал манией величия и комплексом гения. Держался солидным мэтром. Смотрелся монументально. У него был прекрасно поставленный бархатный голос. Всегда выступал бескомпромиссно и красиво. Проблема была только в том, что аргументы зачастую были поверхностны. Биркштейн плохо знал физику, хотя работал в той области биофизики, которая скорее относится к физике, чем к биологии.
Я начал было дискутировать с Биркштейном, но он был настолько уверен в своей правоте, что даже не снизошел до каких-либо разъяснений. Кондрашкина с удовлетворением резюмировала: «Столь сомнительную работу Никишина наш семинар рекомендовать для публикации не может».
Такого оборота я не ожидал. Что делать? Перейти в другую лабораторию? Во-первых, нигде нет вакансий, а, во-вторых, даже если вакансия найдется, придется уйти без собранного мной прибора. А может все-таки согласиться взять Мыранова в соавторы? Черт с ним. В конце концов, главное – опубликовать результаты. И работать дальше. Через несколько дней я принес Мыранову обе статьи, поставив его фамилию рядом со своей. Он ухмыльнулся, наложил визу и произнес: «Вот так-то лучше. Отправляйте в журнал».
Три богатыря: Гера, Ося и Илья
Поскольку на работе я был предоставлен сам себе, то первые пару лет активно бродил по лабораториям, легкомысленно нарушая мырановский запрет, но осваивая новые методы и аппаратуру. Однажды кто-то из биохимиков посоветовал мне пообщаться на счет энергетики митохондрий с физиком Осей Фишкиным.
Я спустился в подвал. Блуждая в полумраке по переходам, набрел на нужную комнату. Когда вошел, две пары глаз уставились на меня. Один глаз вдруг подмигнул, а его обладатель – черноволосый усатый мужчина – пригласил: «Заходи! Мне уже позвонили, что ты придешь». Он улыбнулся и протянул руку: «Привет! Я Ося. Садись. Извини, у нас тут не жарко». Он был невысокий, худощавый, кареглазый, горбоносый. Второй – маленький, ушастый, лысый, курносый – подвинул мне стул. Ося и Илья были старше меня, работали здесь давно и были друзьями. Меж собой они разговаривали на английском. Как пояснил мне Илья Мефский, это не из пижонства, а по научной необходимости, для тренировки – чтобы выучить английский.
Фишкин порасспросил меня о работе и около, а я осмотрел его аппаратуру и стал задавать вопросы. Он отвечал с удовольствием. Ося занимался синтезом АТФ. Он был на том моем разгромном семинаре, но я не обратил на Осю внимания, так как он тихо сидел в самом конце аудитории. «Ну, ты боец! Не спасовал перед Кондрашкиной! Твои результаты по активации светом дыхания и синтеза АТФ в митохондриях очень интересны. Не огорчайся, что биохимики плохо воспринимают это. Что касается Биркштейна, то он вообще человек непредсказуемый. Не горюй. Со временем у тебя всё получится», – подбодрил он меня.
Присмотревшись, я обнаружил, что в комнате есть еще третья пара глаз, в дальнем затененном углу. В старом разломанном кресле сидел толстяк. Он задумчиво уставился в потолок и, казалось, не замечал никого вокруг. Он был бледный, с длинными светлыми волосами, в потертых джинсах, рваных кедах и желтой женской куртке, накинутой поверх клетчатой рубахи, короче – типичный претендент на должность очередного непризнанного гения советской науки. Между прочим, гений – это трудяга, свихнувшийся на работе и померший от натуги.
Я подошел. Он привстал и представился сухо: «Георгий Беляев». Я ответил в тон ему: «Викентий Никишин». Рукопожатие у него было неожиданно крепкое. Приятели обращались к нему коротко «Гера» или в шутку «Герундий» – за пристрастие к английской грамматике. Он держался со мной и друзьями невнимательно, рассеянно. О чем-то размышлял, время от времени что-то быстро записывая шариковой ручкой в маленький блокнотик и ручкой же время от времени задумчиво ковыряя в ухе. В отличие от своих обаятельных товарищей, Гера мне не понравился.
Говорят, что первое впечатление самое верное. Но не всегда нужно полагаться на то, что говорят. Вскоре с Георгием мы стали закадычными друзьями, хотя он был намного старше. Нас притянуло друг к другу. Железо притягивается магнитом в той же степени как магнит железом. С другими двумя обитателями подвала я остался в поверхностно-приятельских отношениях, не более.
Бравый Герундий
Он презирал деньги, а они – его. И поэтому Георгий Беляев всю жизнь был нищим (нищий воистину презирает богатство не на словах, а на деле): одевался во что попало и питался чем придется. Но при этом ему было жутко интересно жить, ведь наукой он занимался так страстно, как будто это был вопрос жизни и смерти. В нем была одна характерная черта – чертовская упертость, в чем он меня превосходил. Кроме того, он успел многое повидать. Родившись в Киеве в семье летчика и эвакуировавшись с матерью во время войны в Таджикистан, провел там голодное детство. Танцевал гопака за кусок хлеба на городском рынке. В 16 лет удрал из дома и поступил в Одесское военно-морское училище. Ходил курсантом в кругосветку на огромном паруснике. Причем, был единственным среди курсантов, кто не переносил качку. Его на море мутило даже в штиль. Услышав команду боцмана «лево руля!», бледный Гера героически отзывался «есть лево руля!» и метал харч в левый рукав, а после команды «право руля!» бравый курсант отвечал «есть право руля!» и блевал в правый рукав (извиняюсь перед нежными читательницами за такие подробности, но факты есть факты). Это было одной из причин, почему после окончании училища Беляев служить не пошел, а поступил на физфак МГУ. С 5-го курса его выперли за аморалку: связавшись с негритянкой из УДН, танцевал с ней в пьяном виде нагишом ночью у памятника Ломоносову около главного корпуса МГУ, вследствие чего ему пришлось два года преподавать физику в школе на Камчатке. Потом вновь поступил в МГУ, но уже на биофак. По окончании биофака случайно попал в медицинскую лабораторию спортобщества «Динамо», где со своим вредоносным характером быстро надоел начальству, которое отправило его в длительную командировку, с глаз долой, в Биогавань – налаживать научные методы допинг-контроля для спортивной медицины, к которой Гера, увы, не имел никакого уважения. Увлекшись методами как таковыми, забыл про допинг-контроль и с треском вылетел из «Динамо». Из жалости его приютила М.М.Кондрашкина, впоследствии пожалевшая о своем сострадательном порыве, но сначала не чаявшая души в найденном самородке, который начал свою деятельность в Институте с совершения грандиозного открытия (а так поступают все дилетанты-энтузиасты). Суть открытия состояла в том, что многие митохондриальные ферменты якобы способны заменять друг друга. Это было нахальным вызовом всей классической биохимии, согласно которой ферменты очень специфичны. Например, сукцинатдегидрогеназа окисляет только сукцинат, но не глутамат, то есть, как образно говорят биохимики, окисляемый субстрат входит в свой фермент как ключ в замок. Беляев обнаружил будто один «ключ» подходит ко многим «замкам». На семинаре он показал коллегам свои данные, неопровержимо говорящие в пользу схемы «один ключ – много замков». В ходе дискуссии сумел логикой и напором убедить всех в своей правоте. Это был триумф. Но тут случилось нечто: когда семинар закончился и народ повалил на свежий воздух, один из дремавших профессоров очнулся и спросил: «Георгий, а скажите, пожалуйста, субстраты какой фирмы Вы использовали в опытах?». На что Герундий удивленно произнес: «Я брал субстраты Ереванского фермзавода, но – какая разница?». А чуть позже выяснилось, что разница большая: когда Гера взял для опытов импортный субстрат, то никакой «неспецифики» у ферментов он не увидел, вследствие чего с ужасом осознал, что «открытие» было страшной ошибкой, обусловленной присутствием примесей в препаратах Ереванского завода. На что Герундий в сердцах воскликнул «проклятые халтурщики армяне!». И честно проинформировал коллег о закрытии открытия. Коллеги долго-долго смеялись. А Гера с той поры стал тщательным и осторожным. Не случайно ученые являются одновременно и самым прогрессивным, и самыми консервативным сообществом; прогрессивность выражается в виде многочисленных открытий, а консервативность – в виде почти такого же количества закрытий.
С утра до вечера в темной комнате Герундий пялился в микроскоп, восхищаясь красотой микромира и созерцая сказочную жизнь, что творится в лейкоцитах и других клетках, особенно в их органеллах – митохондриях, плохо видимых, ибо микроскоп был плохонький и не позволял разглядеть те частицы, размер которых был меньше микрона. На что я посоветовал: «Герундий, возьми лампочку помощнее». Но когда он сделал это, то оказалось – еще хуже: сильный свет, выходящий из окуляра микроскопа, ослеплял. И тут Гера сообразил, что нужно не усилить освещение, а наоборот ослабить. Достиг он этого весьма остроумно: взял копейку и положил ее на зеркальце под конденсором (получилось классическое темнопольное освещение), в результате чего стали видны мельчайшие частицы, вплоть до 0,1 микрона. Коллеги-биохимики усомнились: разве в световой микроскоп можно видеть частицы, размером меньше длины световой волны (0,4–0,7 микрон)? Они не знали, что ограничение светового микроскопа состоит не столько в размерах частиц, сколько в том, что нельзя различить частицы, находящиеся друг от друга на расстоянии меньше длины световой волны, но ежели расстояние больше, то обнаружить можно даже мельчайшие частицы, хотя, конечно, они имеют искаженный вид из-за аберраций микроскопа. Поскольку Гера был очень наблюдательным, то он увидел многое, чего коллеги не могли или не хотели видеть.
В Беляеве была одна опасная черта: он пренебрежительно пренебрегал опасностью. Тот, кто пытается избегать опасностей, подобен трусливому зайцу, а тот, кто смело шагает им навстречу, становится любимцем богов. Но нельзя этой благосклонностью злоупотреблять. А Гера не знал меры. Он был слишком смел. Смелость – это мужество минус благоразумие. Тропинка благоразумия – удел посредственности; дорога к безумию – судьба гения…
В Гере таилась страсть пробовать себя на излом. Например, как-то раз он на спор проплыл 12 км по реке при температуре 10 градусов. Где-то на шестом километре у него от холода случился почечный приступ. Но он не вылез на берег, доплыл до конца. А спор-то был всего на бутылку пива. Он вообще любил рискнуть. Говорил: «Кто не рискует, тот не танцует. Кто не рискует, тот сидит и тоскует». Например, мог залезть без страховки на какую-нибудь верхотуру – мост или башню – просто так, чтобы плюнуть вниз. Мог сесть за руль мотоцикла в нетрезвом виде. Не боялся ввязаться в дурацкую драку с хулиганами. Гера был склонен к самоуверенности, переоценке своих сил и неоправданному геройству. И однажды от этого случилась беда: у него погиб сын.
Мальчику было 9 лет. Это был жизнерадостный пацаненок, веселый и сообразительный. Но в нем была та же наследственная черта: недооценка опасности. Он носился на велосипеде по шоссе и столкнулся лоб в лоб с автомобилем. Через три дня он скончался. Когда его хоронили, отец и мать молча замерли над безжизненным тельцем. Они были в ступоре от нахлынувшего, но еще не осознанного, горя. Солнечный летний день был равнодушен. Мы, несколько Гериных приятелей, опустили гробик в глинистую яму и забросали комьями земли и дерна.
Самое ужасное заключалось в том, что в гибели сына был виноват, прежде всего, отец: не научил мальчика кататься как следует и не объяснил, что по шоссе ездить нельзя. Более того, сыну было трудно справиться с управлением, поскольку это был огромный взрослый велосипед, не подростковый. Я встретил Геру с этим велосипедом на улице буквально за пару дней до несчастья. Герундий шел радостный, катя велосипед одной рукой. «Наконец-то купил?», – спросил я, так как знал о мечте его сынишки. Беляев отрицательно мотнул головой: «Нет, не купил, денег нет. Вот пришлось взять напрокат, а то пацан буквально задолбал „папа, купи, купи!“». «А не слишком ли велика ему эта бандура?», – с сомнением спросил я. «Ничего, просунет ногу под раму и будет ездить. Пару раз куда-нибудь влепится – быстро научится», – легкомысленно ответил Гера.
Вскоре после первой беды к Гере пришли новые. Уж если беда приходит, то со всех четырех сторон. Заболела дочь: эпилепсия. Отец не мог поверить в случившееся. Пытался объяснить ее припадки школьным переутомлением; не хотел вести к врачам. У него ведь не случайно была поговорка: «Тот, кто хочет быть здоров, пусть плюет на докторов». Но симптомы были столь ясные, что пришлось-таки к медикам обратиться. Другая беда проявилась в том, что жена Геры впала в депрессию, обвинила мужа во всех бедах, хлопнула дверью и уехала в туманную даль. Гера остался с больной дочерью. Через несколько лет бывшая супруга забрала дочь к себе.
Белясомы. Превращение
Жестокие несчастья, свалившиеся на Беляева, не сломали его сходу по одной причине: у Геры был сильный характер. Несчастья укрепляют сильных (но сокрушают слабых). Не время лечит, а работа и воля. Воля – стальная пружина, позволяющая подняться после того, как ты был повержен или даже убит. Чтобы боль от пережитого притупилась, Гера погрузился в науку. И стал потихоньку приходить в себя. Хотя какой-то надлом в нем остался. Он вкалывал как одержимый, стараясь максимально тратить время на реальную работу. Экономить время – любимое занятие таланта (убивать время – любимое занятие посредственности).
Через несколько лет Георгий выяснил, что в живых клетках малюсенькие митохондриальные частицы возникают как бы из ничего, потом вырастают во взрослые митохондрии размером 1–2 микрона, после чего приобретают новые свойства, увеличиваясь при этом до 6 микрон. Эти большие частицы собираются в кучки и затем исчезают. Гера научился выделять 6-микронные частицы из клеток. До него этого никто не делал.
Гера изучал свойства этих больших частиц, но никак не мог придумать им название. Ведь одна и та же вещь, названная по-разному, это уже не совсем одна и та же вещь. Например, если писатель назовет свою книгу «Одержимые делом», это будет просто название книги, а если «Одержимые страстью», то это будет название бестселлера. Сначала Беляев хотел назвать большие частицы митохондриосомами, но это название ему не нравилось: длинно и, кроме того, легко спутать с митохондриями. «Назови их белясомы», – посоветовал я, – «беля» – от твоей фамилии, а «сома» по латыни – «тело». Тут наш приятель Андрей Дрынов не удержался и поправил: «Лучше так: блясомы!». Мы вместе, и даже Гера, уже несколько оправившийся от всех бед, грохнули от смеха. Гера, быстро перестав смеяться, сказал: «Да ну вас на фиг с вашими шуточками! Назову, пожалуй, просто: пост-митохондрии. Тогда сразу будет ясно, что это не митохондрии, а то, что из них возникает. Вот только не ясно: если изолировать митохондрии из клетки, то будут ли они превращаться в пост-митохондрии?».
Однажды Георгий примчался ко мне весь взъерошенный, возбужденный и закричал с порога: «Кеша! Послушай, чего сейчас я в микроскоп видел!». Я не удержался, чтобы не прокомментировать: «Чтобы увидеть то, что и так видно, достаточно иметь глаза. Чтобы увидеть то, чего не видно, нужен разум». Гера не обратил на эти слова никакого внимания и стал рассказывать: «Сижу сегодня в темной комнате, рассматриваю в микроскоп выделенные митохондрии, пытаюсь заставить их превращаться в пост-митохондрии. Ничего не выходит. Я на подобные опыты уже три месяца потратил впустую: менял температуру, рН и прочее – ничего, не превращаются, хоть ты тресни! И вдруг сегодня, ты представляешь, одна митохондрия взяла да и начала бегать как микроб!». Я скептически ухмыльнулся: «Герундий! Это у тебя глюки, от чрезмерного усердия». Гера нетерпеливо махнул рукой: «Да я и сам понимаю, что это какая-то вердыщенка. Но все-таки – вдруг?! Не случайно митохондрии похожи на бактерии: имеют свою ДНК, двойную оболочку, дыхательную мембрану. Ты ведь знаешь гипотезу, что митохондрии эволюционно произошли от бактерий. А вдруг некоторые микробы могут возникать из митохондрий?!». Беспочвенный Герин оптимизм начал меня раздражать, и я изрек: «Гипотезы – мыльные пузыри, радующие легкомысленных. Герундий, кончай пудрить мне мозги. Если тебе охота дурью маяться – пожалуйста. Но выслушивать эти бредни меня уволь. Вместо того, чтобы тратить время на глупости, лучше заверши важное: напиши статью о пост-митохондриях». Глупостью мы называем чье-то действие, которое мы не одобряем.
Гера ушел раздосадованный, что друг не поддержал его энтузиазма. Я не сомневался, что он не последует совету. Тот, кто прислушивается к чужим советам, никогда никого не удивит. Хорошая чужая мысль все-таки не так хороша, как глупая своя. А если посоветуешься со всеми, то окажешься в затруднении.
Через месяц раздался телефонный звонок. В трубке слышался взволнованный голос Геры: «Приходи побыстрее. Увидишь митохондриальные микроорганизмы!». Я нехотя согласился и неспешно пошел в подвал. По дороге встретил Андрея Дрынова, и мы начали обсуждать разные разности. В конце разговора я вспомнил про звонок Геры и поведал Андрею новость. Он рассмеялся: «Это невозможно! ДНК митохондрий в тысячу раз меньше, чем ДНК бактерий». Я попытался возразить: «Микробы и бактерии не одно и тоже. Кто сказал, что речь идет о бактериях? Вдруг из митохондрий могут получаться какие-то небактериальные микроорганизмы?». Андрею захотелось посмотреть на то, чего там странное творится у Геры под микроскопом. Он пообещал вскоре тоже спуститься в подвал.
Когда я наконец пришел, Гера закричал: «Ну, где ты ходишь?! Просил же – побыстрее! Превращение ты уже пропустил. А микробы, возникшие из митохондрий, бегают недолго». Я съехидничал: «Они что – уже все разбежались?». Гера посадил меня за микроскоп. Я взглянул. В поле зрения виднелись точки (митохондрии), их было полсотни, и какие-то кружочки, их было столько же. Все были неподвижны. «Да нет тут никаких микробов», – констатировал я. Гера отстранил меня, глянул в окуляры и огорченно произнес: «Да, теперь не двигаются. А каких-то полчаса назад быстро бегали. Просил же тебя прийти поскорее!». Я не знал, что и думать. С одной стороны, никаких движущихся микробов не было. С другой стороны, я хорошо знал Беляева: он врать не будет. В это время в подвал ввалился Дрынов. Увидев, что микробов нет, он ухмыльнулся и удовлетворенно хмыкнул: «Чудес на свете не бывает». Я возразил: «Чудо это реальность, к которой еще не привыкли. Мы не верим в невероятное до тех пор, пока не увидим, что в это поверили все». Дрынов хитро взглянул на Беляева и произнес с намеком: «Чудеса случаются не там, где их ждут, а там, где их тщательно готовят». Георгий стал растерянно оправдываться: «Ей-богу, всего лишь час назад многие митохондрии превратились в микробы! Не понимаю, почему микробы перестали двигаться».
Спустя две недели Гера позвонил снова: «Они бегают! Давай ко мне побыстрей!». Через пять минут я был у него в подвале. В микроскоп хорошо были видны неподвижные точки и подвижные кружочки. Кружочки быстро бегали взад-вперед, замирали и снова двигались. «Послушай, Герундий! Может, это просто какие-то микробы, попавшие сюда извне? Ты уверен, что они образовались из митохондрий?». – «Абсолютно уверен! Из одной митохондрии – один микроб. Вот взгляни сюда». Гера сместил препарат немного в сторону. Я увидел кучку из точек и кружочков. «Утром в этой кучке были только митохондрии, а теперь, видишь, появилось много микробов. Сначала они неподвижны, потом начинают бегать, а затем снова замирают», – пояснил Гера. Я спросил: «А может это не сами митохондрии превращаются? Может в каждую митохондрию внедряется какая-то ДНК, утерянная разрушившимися микробами? Тогда митохондрия – просто „питательный бульон“. Даже в чистом воздухе и дистиллированной воде всегда можно найти если и не сами микробы, то следы их присутствия, в частности ДНК и белки». Гера возразил: «Во-первых, невозможно объяснить, почему в каждую митохондрию проникает какая-то сторонняя ДНК. Во-вторых, митохондрия окружена двумя плотными мембранами, через которые огромная молекула ДНК не способна проникать. В-третьих, не понятно, почему превращение происходит в строго определенных условиях. В-четвертых, даже если ты прав, всё равно – превращается именно митохондрия, а чья-то ДНК служит только стимулом».
Величайший дар ученого это способность ваять статую истины из обломков разрушенной материи. Исследователь – храбрец, дерзнувший бросить вызов природе, людям, богу и своему невежеству. Каждый настоящий ученый – математик, физик, химик, биолог – подобен божественному творцу. Ученый – тот же поэт, но влюбленный не в чувства, а в смысл. Он всегда пытается что-либо доказать опираясь на одни факты и – вопреки другим фактам. Причем, факты являются фактами не сами по себе, а в силу аргументов. Аргументы Беляева показались мне убедительными.
Ответы «да» и «нет» – из словаря глупца; «всё может быть» – вот фраза мудреца. Поэтому ученые обожают делать невозможное; при неудаче есть оправдание, что это было невозможно, а при удаче есть гордость, что это было невозможно.
Дрынов
Андрей Дрынов был под стать своей фамилии: огромный как медведь, длиннорукий, крупноголовый, со всклокоченной шевелюрой; рожа небритая, глаза болотные, на носу треснувшие очки, напоминающие старомодное пенсне. Одет был обычно в коричневую кожаную куртку, светлую рубашку и широкие темно-синие штаны, заправленные в краги. В таком виде смахивал на интеллигентного анархиста времен гражданской войны. Голова у него была не просто толковая, а светлая. Соображал так быстро и точно, что рядом с ним я чувствовал себя интеллектуальным «черепахом». Между прочим, с годами я убедился, что ум состоит не столько в том, чтобы соображать быстро, сколько в том, чтобы соображать постоянно. Интеллект заключается не в количестве мыслей или быстроте мышления, а в умении каждую мысль додумать до конца.
Андрей никогда ни с кем не спорил, действуя по принципу: проиграть в споре не зазорно; победить в споре – почетно; уклониться от спора – мудро. Андрей никогда никому ни в чем не отказывал. Он всем – сослуживцам, начальникам, друзьям, жене, любовницам – на любую просьбу отвечал примерно так: «Да, конечно, сделаю с удовольствием. Вот только закончу одно небольшое дельце и непременно сразу же возьмусь за Ваше». Человеку становилось приятно, что к просьбе относятся так душевно. Проходили дни и месяцы, но Андрей ничего не предпринимал. Если человек напоминал, Дрынов в самых изысканных выражениях извинялся и клялся выполнить. И вновь не делал. Со временем человек забывал о своей просьбе или находил иной способ решения. К Андрею коллеги относились очень хорошо. Я никак не мог взять в толк, в чем дело? Ведь он сачковал и дурил всех много лет подряд. А я пахал, как трактор, но попал под сокращение. Впоследствии я осознал, что начальников и женщин (и особенно женщин-начальниц) можно удовлетворять не столько исполнением, сколько демонстрацией исполнительности.
Андрей говорил: «Если каждого похвалишь трижды, то и тебя похвалят не однажды. Умный хвалит начальника, полоумный подчиненного, а глупец сам себя. Скажи женщине, что она уродина, а мужчине, что он глупец, и ты услышишь от них правду о себе». Не считайте Андрея подхалимом (подхалимом мы называем того, кто вместо нас хвалит другого). Просто он умел вовремя похвалить любого, хотя бы за пустяк.
Андрей был неплохим другом. Неплохим в том смысле, что не был врагом или предателем и частенько выручал меня. Однажды на праздновании защиты докторской его шефа я наклюкался так, что меня развезло как наши российские дороги по весне. Двигаться не мог, хотя был в полном сознании. Андрюха и Ося потащили меня с банкета под руки. «Не туда. Направо!», – корректировал я маршрут. «Ишь ты, гляди-ка! Он еще и командует!», – удивился Ося, подставивший мне плечо (не зря мудрецы говорят: «Подставляй другим плечо, а не спину»). «Держи его крепче! Смотри не урони!», – приказал Осе Андрюха, поддерживая с другой стороны. Они вдвоем заботливо перли меня на себе через ночной город. Когда добрались до дома, то не нашли ничего лучшего как внести меня в квартиру за руки и за ноги, так как мы вместе – трое обнявшихся поддатых приятелей – никак не могли протиснуться в дверной проем.
С Андреем мы много трепались по науке и около, а летом вместе шабашили на стройках Сибири. В шабашках он никогда не сачковал. Когда мы подымали бревна, то упирался до упора, потел и кряхтел от напряжения. Как-то раз таскали кирпичи. Загружали их в носилки и относили к строящемуся дому. Он нес носилки сзади, наступая мне на пятки. Я, как мог, старался идти с ним в ногу (пинки сзади помогают чеканить шаг). С каждым разом мы клали кирпичей в носилки побольше, чтобы уложиться в меньшее число ходок. Кто взваливает груз на себя, тот крепнет, и потому может взять еще больше, а кто сачкует, тот слабеет, и вскоре уже не может ничего. В конце концов мы так переусердствовали с грузом, что он стал неподъемным. Мы взялись за ручки носилок, но поднять сходу не смогли. Тогда поднатужились и дернули вверх на счет раз, два, три, приподняли! Но тут я почувствовал, что внутри как будто чего-то оторвалось, заныло в груди и закружилась голова. Андрюха тоже аж замычал от перенапряжения и, скрипя зубами, пробормотал: «А вот с натуги как начну сейчас пердеть, вонять и пукать!». Мы тут же с хохотом и грохотом бросили носилки, устало свалились на них, тяжело дыша, отдуваясь и нервно смеясь. Я выдавил сквозь смех: «Андрюха-ха-ха! От метеоризма хорошо помогают какао, шоколад и молоко с блинами. Прими вечерком, а то не дашь никому заснуть». Андрей огрызнулся: «Тот, кто храпит, засыпает первым». «Это придумал тот, кто пердит и засыпает вторым», – грубовато прокомментировал я. И мы повторно грохнули от смеха. Он спросил: «А я не храплю как свинья?» – «Нет, – ответил я, – свиньи не храпят. Ты во сне не храпишь, а повизгиваешь». И мы опять грохнули.
Дрынов был очень хваткий. Хотя мы были почти друзья, но он несколько раз поступал со мной так, что я остро чувствовал это самое «почти». Однажды мне предложили подработку в МГУ. Нужно было вести семинары и практикум для старшекурсников. Я согласился с удовольствием, так как это был неплохой способ подзаработать, совмещая приятное с полезным. Случайно встретив на улице Андрея, я радостно рассказал об этом (вот трепло!). Каково же было мое недоумение, когда мне в МГУ вдруг отказали, сославшись на то, что уже взяли преподавателем другого. Недоумение перешло в изумление, когда выяснилось, что этот другой – Дрынов.
Почему-то Андрей всегда был сексуально озабочен. Весь его рассудок временами перемещался в штаны. Он любил женщин вообще, но ни одну в частности. Кто любит женщин, тот не насытится ни одной. У ловеласа сердце находится ниже пояса. Андрюха не мог спокойно пройти мимо любой юбки. Каждую смазливую особь в момент знакомства начинал осыпать комплиментами: «Красавица! Афродита! Королева!». Эта примитивная чушь действовала безотказно. У Андрея была поговорка: «Хвали мужчин за ум, а женщин за красоту, и в их глазах ты всегда будешь самый умный и красивый». Причем, восхищался он женщинами совершенно искренне: расплывшись в похотливой улыбке и пуская слюни предвкушения.
Почему женщины обожают выслушивать комплименты? Потому что у всех слепых, как известно, тонкий слух. Комплименты подобны ароматным духам, к которым женщины даже не принюхиваются, а пьют залпом, трясясь от возбуждения, как алкаши от барматухи. Каждую женщину Андрей при знакомстве спрашивал: «Тр@хнуться не интересуетесь?». Не знаю, получал ли он когда-нибудь по физиономии, но во многих случаях получал, что хотел. Обычно ограничивался одной-двумя встречами. Ловелас – одноразовый шприц многоразового пользования. Бабник – романтик промежности. У Дрынова были две любимые поговорки: «У всякого свой вкус и свои прибабахи: кто любит баб, а кто вздохи-ахи» и «От греха воздерживается тот, кому уже всё равно». Андрей поучал: «Знаешь, Кеша, какие есть три бесценных сокровища у мужчины? Жена, любовница и много женщин. Хочешь соблазнить женщину? Тогда подари ей сочный комплимент, букет цветов и пачку презервативов, а юбку она задерет сама». Он так и приходил на свидания: в руках цветы, в штанах презервативы.
Дрынов считал, что самое лучшее – это соблазнять жен приятелей: быстро, удобно и никаких обязательств. «Жена друга – самая перспективная любовница, а своя жена – самая неперспективная. Любовный треугольник – всего лишь частный вид многоугольника», – любил говорить он. Если муж узнавал об измене жены и приходил выяснять отношения, Андрей, улыбаясь, говорил ему: «Твоя супруга – просто класс! Хвалю твой выбор. Кстати, она говорила, что обожает тебя. Просто на нас с ней помутнение нашло. Извини. С кем не бывает!». Муж глубокомысленно чесал в затылке, мучительно раздумывая: то ли поблагодарить за комплимент, то ли дать в глаз? Дрынов дружественно добавлял: «Мы с тобой – два берега у одной реки». Обычно всё заканчивалось мирно. Андрей смущенно изображал угрызения совести. Как говорится, когда у шкодливого кота наконец заговорила совесть, он с ней спорить не стал, поскольку к тому моменту был уже и сыт, и удовлетворен. Когда кто-нибудь говорил Дрынову о том, что он ведет себя непорядочно, он усмехался: «Я порядочный: меня порядком интересуют женщины».
АТФ и странные флуктуации
Работа по ЭВС в митохондриях шла своим чередом. Я обнаружил, что под действием света мощной лампы в митохондриях возникает синтез АТФ (как в хлоропластах листьев на солнце). Это был интересный результат. Надо сказать, что идея о возможности появления АТФ при освещении митохондрий была высказана не мной. Это предсказание сделал один американский физик. В его теоретической работе была развита гипотеза о том, что в ходе переноса электронов в дыхательной цепи митохондрий происходит высвобождение энергии в виде колебательных квантов; эта энергия могла бы расходоваться на синтез АТФ, частично уходя в тепло. Биохимики не восприняли эту гипотезу. А мне она была понятна до очевидности. Причем, я сообразил, что энергия нужна не для самого акта синтеза, а для десорбции АТФ с фермента в раствор.
Обнаружить «фотосинтез» АТФ в митохондриях мне удалось далеко не сразу. Сначала столкнулся с двумя проблемами. Первая заключалась в том, что митохондрии способны синтезировать АТФ без света, в темноте. Этот процесс, хорошо известный биохимикам, осуществляется за счет энергии субстратов. Я подавлял темновой синтез АТФ охлаждением и изымая субстраты. Так была решена первая проблема.
Вторая проблема оказалась сложнее. В ходе опытов обнаружилось, что концентрация АТФ в темновой суспензии митохондрий непредсказуемо изменялась на 20–30 % от опыта к опыту. Эти странные «флуктуации» очень мешали. Когда я поведал о них Осе Фишкину, тот воскликнул: «Да ведь это у тебя такие же флуктуации, которые изучает профессор Семен Яковлевич Шмунь!». Я побежал в лабораторию Шмуня, но он был как назло в отъезде. Тогда я разыскал в библиотеке журналы со статьями Шмуня и стал читать. Оказалось, что много лет назад Шмунь открыл флуктуации АТФ в белковых препаратах из мышц, а потом обнаружил, что флуктуации присущи многим ферментам. На первый взгляд всё выглядело убедительно. Шмунь считал, что ферменты участвуют в коллективном взаимодействии, синхронизирующим их активность. Попервоначалу я восхитился трудоемкостью экспериментов и смелостью идеи.
Однако чем больше я читал и анализировал, тем больше набирали силу сомнения. Во-первых, смущало то, что контрольные опыты были проведены Шмунем не корректно. Во-вторых, в статьях не было сведений о температурном режиме; а ведь непостоянство температуры может вызывать разброс в скорости. В-третьих, флуктуации имели место только при «точечных» измерениях; при непрерывной же регистрации реакций никаких флуктуаций не наблюдалось. И, наконец, в-четвертых, статистическая обработка данных была недостоверна. Шмунь пользовался статистикой как юнец презервативом: торопливо и бездумно. Он словно задался целью продемонстрировать, что статистика – самая точная из лженаук.
Настоящий ученый не перестает удивляться достижениям природы; невежда же торопится удивить мир собственными достижениями. Каждый торопливо кует свою Нобелевскую премию. Все спешат… А ведь известно, что дальше всех уйдет тот, кто не спешит. Что делается впопыхах, не живет в веках. Что делается наспех, вызывает смех.
Шмунь слишком торопился всех удивить. Не случайно лишь на 20-м году исследований выяснилось, что флуктуации присущи не только ферментам, но и обычным химическим реакциям; например, наблюдался разброс скоростей при окислении красителем аскорбиновой кислоты.
Я повторил опыт Шмуня с красителем и аскорбатом. В итоге выявилось несколько причин разброса: неоднородность распределения красителя и аскорбата в воде при их смешивании; температурные флуктуации в малом объеме из-за нагрева приборной лампой; конвекция тепла; дискретность из-за «порога чувствительности» прибора. Более того, в своих опытах с суспензией митохондрий я нашел те же причины разброса уровня АТФ и постарался устранить их. Флуктуации исчезли.
Я собрался идти к Шмуню разбираться, но его опять не оказалось на месте. Он всё время где-то заседал и выступал. Вообще в науке есть эдакая категория «почетных научных артистов», ежедневно курсирующих с конференции на юбилей, с юбилея на семинар, с семинара на презентацию, с презентации на лекцию, забросивши реальную работу. На этих мероприятиях они неустанно вещают о своих «открытиях» – метят территорию, как дворовые коты, ревностно шипя на конкурентов или наоборот лестью превращая конкурентов в соратников. Как правило, они шустро кучкуются и образуют мафиозные структуры, удерживающие в своих руках всю научную и административную деятельность институтов. Именно про таких говорят: «Толпа ученых затоптала истину и двинулась дальше…».
Наконец мне удалось застать Шмуня на конференции, посвященной юбилею академгородка. От каждого Института речь держал директор, рассказывая о достижениях. От нашего Института почему-то докладывал Шмунь. Львиную долю времени он потратил на живописание своих «флуктуаций». Его речь звучала так, что именно этот «феномен» и есть главное достижение Института. Меня это покоробило. Когда после доклада начали задавать вопросы, я заявил: «Уважаемый Семен Яковлевич, мягко говоря, переоценивает роль своего „феномена“. И вообще это не феномен, а артефакт». Обрисовал ситуацию и озвучил результаты своих проверочных опытов. Аудитория забурлила. Председательствующий, ссылаясь на нехватку времени, приостановил дискуссию и объявил следующий доклад.
Планетарнологический фактор икс
Впоследствии Шмунь выдвинул новую сногсшибательную идею: существует планетарный космический «фактор икс», синхронизирующий любые процессы: биологические, химические и даже радиоактивный распад! Если ученый постоянно выдвигает сумасшедшие гипотезы или ставит бесконечные однообразные опыты (как это много лет делал Шмунь руками своих лаборанток), значит, ему не хватает времени на осуществление мыслительного процесса. В наше суетное время некоторые ученые продвигаются вперед столь стремительно, что думать им уже некогда.
Я многократно выступал на семинарах с опровержениями, но Шмунь был непотопляем, как всё то, что плавает на поверхности… Размышляющие ныряют в неизведанные глубины; поверхностные барахтаются в лужах. Шмунь со своими «планетарнологическими флуктуациями» барахтался бодро и шумно. Однажды после очередной баталии со Шмунем ко мне подошел один из его сотрудников и шепнул: «Викентий! Пойдемте, я Вам сейчас кое-что покажу». Он привел меня в кабинет Шмуня, открыл ключом сейф и достал оттуда кипу оттисков статей некоего Мураямы на японском языке и их переводы на английский. Я взглянул на заголовки и ахнул. Все статьи были посвящены флуктуациям и «фактору икс», их вызывающему, причем, опубликованы они были в японских журналах давным-давно. Шмунь хранил их в сейфе и никогда никому не показывал. Его сотрудник обнаружил их случайно, когда искал спирт и наткнулся в столе на ключ от сейфа. Он вручил мне оттиски, сопроводив это такими словами: «Даю только на сегодня, пока шефа нет. И, пожалуйста, Викентий, никому ни звука обо мне!».
В первых статьях Мураяма описал флуктуации в биологических и химических системах. Сначала искал «фактор икс» внутри самих систем, а потом вовне, вплоть до космоса. Однако в конце концов пришел к тривиальному выводу, что «фактором икс» являлся нагрев растворов солнечным светом, когда пробирки стояли на окне.
Как-то раз Шмунь организовал конференцию, посвященную «флуктуациям». В первый день он сделал блестящий доклад, столь увлекательный, что у публики дух захватило. Он показал такую массу данных, что у неискушенного слушателя непроизвольно возникла уверенность, что вот, вот оно эпохальное научное открытие! Когда после доклада Шмуня я принародно спросил про Мураяму, Семен Яковлевич на мгновение лишился дара речи, но, быстро оправившись, заявил: «Мураяма – великий ученый, предвосхитивший мое открытие». В тот же день он сделал доклад «памяти Мураямы», в котором поведал биографию «великого японского ученого», положившего свою жизнь на поиски космического «фактора икс». С тех пор Шмунь стал в своих статьях ссылаться на Мураяму.
Публика на той конференции собралась экзотическая: все энтузиасты, все в оппозиции к официальной науке, почти все с периферии. Доклады были про «фактор икс», влияние звезд, телепатию, телекинез, лозоходство и т. п. При массе амбиций уровень образования у большинства участников был очень низким, а стремление к познанию океана знаний – минимальным. Как говорится, если кружкой зачерпнуть из океана, для нее это будет достаточно.
К примеру, один старичок пафосно поведал с трибуны публике, что музыка вызывает рост растений. Из зала к докладчику посыпались деловые вопросы: какая лучше – попсовая или классическая, лирическая или патриотическая? И т. д. и т. п. и п.б. (сокращение «п.б.» означает «прочая бредятина»). Я не удержался и невинно спросил: «Какова была мощность музыкальной аппаратуры?». Докладчик удивился: «А зачем Вам это нужно знать?». Я ехидно заметил: «Это не мне нужно знать, а Вам. Аппаратура мощностью свыше 100 ватт заметно нагревает за день воздух в закрытом помещении. А Вы ведь работали в небольшой теплице…». Тут на меня зашикали из зала. И председательствующий Шмунь объявил перерыв.
После перерыва некая экзальтированная особа из Томска долго и с жаром рассказывала слушателям о том, что солнечная активность влияет через «фактор икс» на протекание химических реакций. Когда же я спросил ее, с какой точностью термостатировались пробирки, она искренне удивилась: «А какое это имеет значение?». Я пояснил, что скорость химической реакции, как известно из уравнения Аррениуса, зависит от температуры, и поэтому температурные флуктуации неизбежно служат источником разброса скоростей. Она наивно воскликнула: «Ой, Вы меня извините! Я по образованию не химик, а зоолог: не знаю, что такое уравнение Аррениуса». Это был, что называется, полный приезд. Шмунь на правах председателя тут же закрыл дискуссию. А спустя год эта энтузиастка по его протекции защитила в нашем ученом совете кандидатскую. Кстати, вероятно именно эта особа послужила прообразом героини фильма «Солнечный ветер». Это увлекательнейший телесериал. Но основан на лженаучной интриге о влиянии «икс-фактора» Солнца на химические реакции. Почему лженаучной? Потому что игнорируются известные научные знания: об активации реакций светом, теплом, радиацией.
Однажды после очередной стычки со Шмунем ко мне подошли два инженера, Получертов и Иванчук, проводившие для него измерения флуктуаций радиоактивности. Они заявили, что ручаются за достоверность своих измерений. Я напросился посмотреть. Придя к Получертову, убедился, что он правильно проводит измерения в режиме совпадений (это когда свечение, вызываемое одной пролетающей радиационной частицей, детектируется двумя фотоумножителями одновременно). Однако я обратил внимание на то, что фотоумножители не были термостатированы. Получертов отреагировал спокойно: «Вот кондиционер; поддерживает в комнате постоянство температуры». Я заметил: «Но ведь он держит среднюю заданную температуру, периодически то достигая ее, то уходя на 0,1 градуса. А включенные в комнате приборы имеют мощность около киловатта; от них происходит конвекция нагретого воздуха…». Получертов тут же сообразил, о чем речь. Он взял два ватника и накрыл ими фотоумножители. Флуктуации исчезли. А в это время Иванчук на другом приборе нашел еще три причины «планетарнологических флуктуаций радиоактивности»: сетевые наводки, дрейф аппаратуры и некорректность статистической обработки данных. Когда Иванчук и Получертов сообщили обо всем Шмуню, тот заявил: «А я уверен, что измерения были вами проведены правильно!». И продолжил свои публичные выступления, как ни в чем ни бывало.
Иванчук до сих пор пытается дискутировать со Шмунем. Весь смысл его жизни– припереть Шмуня к стенке; и расстрелять из крупнокалиберного пулемета. А тот отбрыкивается и отнекивается. Выкручивается, как угорь. В общем, им обоим не скучно.
Шмунь с неизменным пламенным энтузиазмом вещает с трибуны смачные анекдоты из истории науки. Чем более история лжива, тем более увлекательна. Правдивые истории скучны, как моросящие дожди. Семен Яковлевич решительно навешивает ярлыки: кто был хороший, а кто гад, по принципу «кого захочу – как снег обелю». Чем дела хуже, тем речи зажигательней.
Вопреки расхожему мнению о том, что ученые ищут истину, на самом-то деле, как правило, ищут не истину, а подтверждение своим бредовым догадкам. Но настоящие ученые, набив себе шишек, находят объяснение в столбах и граблях, а не в круговращении планет и движении звезд, как делают астрологи и шмунь-подобные. Данные Шмуня по флуктуациям радиоактивности были опровергнуты публикациями физиков из Дубны и Санкт-Петербурга в журнале «Успех физики».
Почему со Шмунем произошел столь печальный казус? Ведь он являлся неординарной личностью, природным умницей, энтузиастом науки. Я вижу три причины в нем самом: торопливость, жажда славы и непрофессионализм. Чем меньше профессионализма, тем больше оптимизма. Слава приходит к тому, кто громко бьет в барабан. Были также две внешние причины: нежелание коллег тратить время на перепроверку и попустительство со стороны высоких покровителей. И, конечно, была одна объективная причина: природа любит поводить чудаков за нос; тем более, когда нос длинный.
Сокращение
При изучении «фотосинтеза» АТФ в митохондриях я делал много контрольных опытов. Один из них был в том, чтобы показать отсутствие возникновения АТФ на свету в «дохлых» митохондриях. С этой целью я поместил митохондрии на шпатель и стал снизу нагревать на горящей спиртовке. Этот опыт оказался роковым. Не для опыта роковым, а лично для меня: кто-то из коллег тут же накапал Кондрашкиной, что Никишин поджаривает митохондрии. Она была вне себя от ярости; ее чуть кондрашка не хватила. Она относилась к митохондриям как к живым организмам. В ее глазах я совершил кощунство. Кроме того, открою вам секрет, она была женой Шмуня…
И она решила покончить со мной. Для этого как раз сложились все обстоятельства. Во-первых, дирекция Института по указивке Президиума Академии проводила очередное сокращение штатов. Во-вторых, представители дирекции выразили неудовольствие по поводу моих выступлений против Шмуня. В-третьих, Мыранов по болезни лег в больницу, перепоручив все дела своей жене, энергичнейшей женщине, которой давно надоело наблюдать в лаборатории мою самодеятельность.
Как-то утром жена Мыранова положила мне на рабочий стол бумажку, в которой были сформулированы предстоящие задачи, для выполнения под ее началом. Они не имели никакого отношения к тому, чем я занимался раньше. Я спросил: «Почему так вдруг? Без обсуждения? А Вы с Петром Геннадиевичем это согласовали?». Она благостно засмеялась: «Всё согласовано. И даю Вам полезный совет: немедленно приступить к выполнению». Полезный совет – то, что доставит удовольствие удаву, но может повредить кролику.
Я не хотел быть проглатываемым кроликом и решил всё выяснить, пойдя в больницу к Мыранову. Он встретил меня в приемном покое; взял фрукты, сухо поблагодарил (благодарность – чувство, испытываемое удавом к съеденному кролику). И, отведя глаза, промычал: «Есть мнение, Викентий, что Вам пора работать не в одиночку, а в коллективе». Я нахально ответил: «Килограмм мнений не перевесит грамма знаний. Меня волнуют знания, а не мнения. Разве может коллектив рожениц совместными усилиями родить ребенка? Между тем, многие чудаки верят, что открытия рождаются коллективами». Он промямлил, что есть приоритеты, но ЭВС туда не входят. Мне показалось, что он что-то недоговаривает. Впоследствии выяснилось, что он знал, что меня подают на сокращение. Не зря говорят: скажи мне, кто над шефом подшутил, и я скажу, кого сократят.
По Институту на сокращение было подано 18 человек. Из них 16, припертые к стенке, подали заявление по собственному желанию. Меня тоже стали уговаривать сделать это. Отказался. Состоялось заседание ученого совета. На нем выступил директор И.В.Ицкий и заявил, что вот, дескать, есть два упрямца, которые не написали заявление и теперь отнимают у занятых людей драгоценное время. Поскольку первый упрямец был как раз из директорской лаборатории, то Ицкий с него и начал. Портрет упрямца был таков: глуп, своенравен, бесперспективен. Упрямец вышел на трибуну и начал оправдываться. Ученый совет проголосовал за сокращение. Против был только Биркштейн, бесстрашно заявивший, что сокращаемый – кристально честный человек и что такого он готов взять к себе. И взял-таки. И через несколько лет тот защитил докторскую. Вот вам и «бесперспективный».
Когда начали обсуждать меня, слово взяла Кондрашкина. Выступала мучительно долго и эмоционально, выпучивая глаза и патетически восклицая об ужасных издевательствах Никишина над живыми митохондриями. В ее интерпретации мой портрет был поразительно похож на упрямца из директорской лаборатории. Когда она закончила, Ицкий удовлетворенно крякнул и призвал: «Ну, давайте голосовать!». Тут кто-то из членов совета напомнил, что (по протоколу) сокращаемому должны дать слово. «Да к чему тут церемонии разводить!?», – поморщился Ицкий, но все-таки дал мне 5 минут. Я вышел на трибуну и, проигнорировав выпады Кондрашкиной, сформулировал суть своей работы и показал опубликованные статьи. Ученый совет начал совещаться. Зал был полон, народ замер; почти все в зале были на моей стороне. У нас любят пожалеть гонимых. Все ожидали, что сейчас на мою защиту встанет очень смелый Биркштейн или чрезвычайно порядочный Шмунь. Но мало кто знал, что у них обоих на меня был зуб, причем, у каждого свой. Воцарилась тихая пауза. Мне вдруг вспомнилась фраза из «Маугли»: «Кто защитит человеческого детеныша?». Пауза затянулась. И тут встал профессор Эйтис: «Послушайте, коллеги! Я что-то не понимаю: как можно сокращать такого молодого энергичного сотрудника? Зачем вообще нужен наш Институт, если в нем не будет таких, как Никишин?». Зал взорвался аплодисментами. Ицкий растерялся и разволновался: «Я вижу, тут образовались разные мнения, но мы должны провести сокращение, как положено, а не устраивать спектакль! Давайте голосовать! Кто за сокращение?». И первый поднял руку. Некоторые члены совета тоже подняли. «Ну, давайте, поживее!», – поторопил Ицкий. Поднялась еще одна рука. «Что ж, кто против?», – многозначительно спросил директор. Несколько рук отважно поднялось. Остальные сидели, уткнувшись взором в колени. «Воздержавшиеся?», – раздраженно спросил Ицкий. Воздержались семеро. Сокращение не состоялось. Зал встретил это овациями.
Лестное предложение
После заседания ученого совета ко мне подходили люди, часто незнакомые, поздравляли и выражали поддержку. Один из них предсказал тоном пророка: «Вы, молодой человек, далеко пойдете!». Кондрашкина тоже подошла и уважительно изрекла: «А Вам, Никишин, оказывается, хребет не сломать!». «Майя Михайловна, а зачем – ломать?», – усмехнулся я и подумал, что если удав не сожрал кролика, это вовсе не из-за отсутствия аппетита, а просто пасть не сумел пошире раскрыть.
Из лаборатории Кондрашкиной мне пришлось, конечно, уйти. Надо сказать, справедливости ради, что Майя Михайловна вовсе не была удавом или монстром. Она была фанаткой: обожала митохондрии, яростно вступала в научные баталии, круто руководила кучей сотрудников и аспирантов, активно пропагандировала использование субстратов в медицине. При этом ходила в старой кофте и рваных чулках, не обращая внимания на имидж. Всё это внушало уважение. Но наука есть наука; в ней важны не уважение или неуважение, не симпатии или антипатии, а объективные истины. Кстати, спустя сколько-то лет Кондрашкина была вынуждена признать, что облучение митохондрий светом – занятие отнюдь не бессмысленное. Она заинтересовалась фотодинамической терапией рака и направила ко мне своих сотрудниц для консультации. В науке это типичнейшая ситуация: сначала ломают хребет, а потом, если не сломали, идут за помощью.
Через месяц после несостоявшегося сокращения меня вызвал к себе на беседу директор. Это было странно. Он был слишком крупной фигурой, чтобы тратить время на какого-то там младшего научного сотрудника. Когда я вошел в кабинет, Ицкий дружественно протянул руку, усадил меня в кресло напротив и озарился приветливой улыбкой: «Викентий Леонидович! Вы произвели на меня очень хорошее впечатление на заседании. Не подумайте, что я хотел Вам зла. Просто из Президиума пришла разнарядка. Кого-то нужно было сокращать. И я рад, что всё так счастливо обернулось. Теперь у меня к Вам есть деловое предложение». Я удивился: «Ко мне? Какое?». Ицкий выдержал паузу и веско заявил: «Нужно сделать биологический регенератор кислорода для подводных лодок. Дам Вам людей, закупим оборудование, сделаем макет и будем иметь финансовую поддержку от Минобороны». «Но ведь я никогда не занимался этим!», – изумился я. «Ну, так займитесь!», – широко улыбнулся Ицкий. «Но нужно сначала хотя бы ознакомиться с темой, почитать, подумать. И, кроме того, жалко бросать то, что уже наработано», – нерешительно возразил я. Директор встал, давая понять, что беседа окончена, и резюмировал: «Даю неделю. Ознакомьтесь. И напишите краткий проект».
Конечно, предложение от директора было не просто лестное, но сулило завидные перспективы. В случае успеха. Если же не справлюсь, у Ицкого появится повод от меня избавиться. При любом раскладе директор выигрывал. Отказаться от его предложения? Уклониться? Сделать вид, что согласен? Рискованно. С научным флибустьером такого ранга, как Ицкий, «сыграть в поддавки» не выйдет. Я начал «ковырять» предложенную тему. Литературы по теме было мало, причем, многое шло под грифом «секретно». Я читал, размышлял, делал прикидки. В итоге пришел к выводу, что биорегенератор будет слишком громоздким, энергоемким, непродуктивным и экономически не выгодным в сравнении с химическими регенераторами. Я почувствовал, что меня пытаются втянуть в авантюру, и написал отчет, в котором дал критический анализ проблемы, а в конце заключил, что в нашем Институте начинать работу по биорегенератору нецелесообразно. Решать проблемы можно двумя способами: преодолевать или пренебрегать. Первый способ – самый почетный, второй – самый эффективный.
Настучав текст на печатной машинке, я отнес его секретарше в приемную директора. Понимал, что отнес свой приговор. И мрачно ожидал, что Ицкий меня вызовет, устроит разнос и как-то накажет или даже уволит. Прошла неделя, но никакой реакции с его стороны не было. Оказалось, что как раз в эти дни его сняли с работы за административные нарушения. Это меня спасло.
Милена
До того как мы познакомились Милена один раз была в законном браке и два раза в гражданском. Женщина втайне всегда мечтает о браке, даже когда находится в браке или уже пять раз была в браке. Если девушка жениха выбирает слишком долго, то замуж выйдет уже в раю.
Известно, что женщина радуется дважды: первый раз – когда выходит замуж, второй – когда муж уезжает в командировку. Поэтому от каждого из трех любимых мужчин у Милены осталось по ребенку. Старший учился в третьем классе, средний в первом, а младший ходил в детсад. Она гордилась своими мальчуганами: беленьким старшим, черненьким средним и рыженьким младшим. Милена стеснялась своего вычурного имени, а потому звалась просто – Мила. Она была старше меня на пять лет. Она была среднего роста, крепкая, скуластая, с серыми глазами и чувственным ртом. Длинные русые волосы собраны на затылке в пучок с хвостиком. Она была натуральная хохлушка, в высшей степени женственная. Как выразился облизывающийся Дрынов: «Она такая сладкая и с такой фигурой, что ей лучше было бы родиться грушей». На что я добавил шутливо: «Фигурой женщина напоминает грушу, в которой ищем мы родную душу».
Мои отношения с Миленой долго были платоническими, а точнее – служебными. Когда-то она закончила харьковский авиационный институт, а в биологическую лабораторию попала случайно и поэтому шарахалась от таких слов как «дезоксирибонуклеиновая кислота» как лошадь от автомобиля. Мне пришлось быть для нее на первых порах ходячим биологическим справочником. Частенько мы перескакивали в беседах от ДНК к житейским темам, ходили вместе обедать в буфет. Однажды летним вечером я вызвался проводить Милену домой. Во мне помимо симпатии уже созревала любовь. Любовь – гремучая смесь инстинкта и воображения. Любовь всегда заблуждение; но не минуй никого из нас это волшебное заблуждение!
Вечер был теплый, тихий, томный. Во дворе 9-этажного дома, где Милена жила, была детская площадка. Когда мы проходили через двор, Мила вдруг предложила: «А давай, Викентий, прокатимся с горки!?». Двор уже обезлюдел. Поэтому некому было видеть странную картину: два взрослых человека залезают на детскую горку. Мила села у края и скомандовала: «Давай вместе!». Я послушно плюхнулся сзади, деликатно стараясь не касаться своей спутницы. Она обернулась: «Держи меня!». Я ватными руками дотянулся до ее талии. Мы оттолкнулись и «на пятой точке» скатились. Внизу ткнулись в кучу песка. Я быстро встал и подал Миле руку. Она приблизила свое лицо к моему и проворковала: «Кеша, ты такой чистый…». Я смущенно стал отряхивать со своих джинсов песок со словами: «Да нет, я весь в песке».
Мы подошли к подъезду и сели на лавочку. Стало совсем темно. Я нерешительно привлек к себе Милу и поцеловал. Она прижалась к мне. Я был поражен своим достижением. Мила села ко мне на колени. Ее решимость меня смутила. Я вообще не люблю в женщинах напор и чрезмерную инициативу. Но тут Милена впилась в меня поцелуем буквально как пиявка. В это время в прогалах туч проглянула луна. В ее мерцании лицо моей подруги высветилось бледно-землистым пятном с закрытыми глазами. Как гоголевская панночка-ведьмочка. Мне стало как-то не по себе. Мила открыла глаза и увидела, что я смотрю на нее настороженно. «Ты что?», – спросила она, облизывая губы. «Извини», – буркнул я, вдруг охладев. «Нет, это ты извини. У меня на мужиков матка выпадает, – нервно засмеялась она и добавила многозначительно, – Со всеми вытекающими последствиями…». От этих слов мне стало противно. Я быстро распрощался и ушел.
Через неделю мы случайно встретились на улице. Вид у Милены был удрученный. «У тебя проблемы? Могу помочь?», – спросил я, чувствуя как в груди снова затеплилась нежность. Она посмотрела на меня внимательно и произнесла задумчиво: «Кажется, я сделала вчера большую глупость…». Я не посмел спросить, какую именно глупость, так как почувствовал, что она не захочет об этом говорить. Впоследствии я узнал от Милы, что она, истосковавшись по мужской ласке, привела домой одного бабника, получила долгожданный оргазм и тут же с отвращением выставила этого плэйбоя за дверь со словами: «Спасибо, больше не надо», подумав при этом: «Одним козлом меньше». Женщина радуется любовнику два раза: когда приходит и когда уходит. Кстати, про любвеобильную женщину принято говорить с презрением: «ну и сук@!», а про любвеобильного мужчину обычно говорят с восхищением: «ну и кобель!». Двойной стандарт.
Почти по Гоголю
Однажды Милена пригласила меня к себе домой. Своих мальчишек спровадила к подруге. На Миле была болохонистая куртка. Под ней она была совершенно нагая. Это открытие я сделал, когда в прихожей снимал ботинки, а Мила стояла надо мной с тапочками в руках. Я наклонился, развязывая шнурки, а подняв глаза офонарел. В прихожей было сумрачно, но всё же были видны не только крепкие ножки, но и то великолепие, к которому они прикреплялись. Я замер с разинутым ртом. Мила, смеясь, обняла меня: «Кешенька, соображай побыстрей, кто из нас двоих мужик – ты или я». И тут она разделась до самых вечных ценностей.
Мила была женщина страстная, опытная. В ней бурлила южная украинская кровь. Она быстро сумела превратить меня из рядового диванного флегматика в передового постельного бойца. Успеху способствовали два фактора. Во-первых, Милена была словно спелый персик. Ее бедра сводили меня с ума. Она шутила: «Ну, Кеша, после меня ты будешь ухлестывать только за такими дамами, у которых попка – центр тяжести». Боги и женщины знают всё наперед. Кстати, бывают ли женщины, которые всегда верны, это спорный вопрос, но то, что женщины всегда правы, это бесспорно. Во-вторых, наши телесные откровения подпитывались моей любовью и желанием Милены заниматься любовью. Любовь – взлет на вершину блаженства минуя ступени благоразумия. Страсть сильней рассудка из-за того, что рассудок помещается в мозгу, составляющим лишь 3 % веса тела, а страсть заполняет всё тело. Благоразумие – глупое качество скучных людей. Между мужчиной и женщиной должно быть страстное влечение, иначе это не любовь, а панихида. Но в бурных реках страстей нас подстерегают ненасытные крокодилы желаний. Пасть крокодила гостеприимна и открыта для всех. Раз уж крокодил открыл пасть, то найдет, кого проглотить.
Немаловажным фактором, привязавшим Милу ко мне, было то, что ее пацаны радостно приняли меня за своего. Старший просил: «Дядя Кеша, помоги решить задачку!». Помогал. А младшие требовали: «Дядя Кеша, почитай сказку!». С радостью читал. Однажды, когда сказки затянулись до полуночи и младший попросил еще: «Расскажи: жили-были три поросенка…», я не выдержал и брякнул: «Хороший шашлык получился из трех поросят». Старшие засмеялись, а младший заплакал.
Детишки постоянно тащили домой всякую живность: котят, щенков, жуков… Но мать всё это безжалостно ликвидировала. Когда она начинала на эту тему возмущаться, дети уговаривали: «Мамочка, ну не ругай нас! Жуки ведь такие красивые!». Она в сердцах восклицала: «Сколько ж можно домой всякую гадость тащить!? Вот ремень сейчас достану…». Я в шутку поддакивал Милене: «Знайте, дорогие дети, что плохие слова лучше хорошей порки». Тут она переходила от сердитости к смеху: «Правильно, Кеша. Убеждением можно добиться большего, чем угрозой, а ремнем – еще большего. Дети чувствуют, если их порет человек с принципами».
В квартире жил только один зверь – большой черный таракан, гроза детей. Ребятишки были замечательные: умненькие, бойкие, открытые. Мне вообще общаться с детьми обычно комфортно. Замечу попутно, что разница между детьми и взрослыми не в килограммах и сантиметрах, а в уровне искренности. Искренние не подозревают других в неискренности. Дети от природы правдивы. Как говорится, дети и боги предпочитают правду. Дети часто фантазируют, но лишь до тех пор, пока взрослые не приучат их врать.
Милена захотела выйти за меня замуж. Вообще говоря, женщины бывают только двух сортов: замужние и мечтающие о замужестве; при этом первые ругают свое замужество, а вторые свое одиночество. Почему женщины избегают одиночества? Потому что сами себе они не интересны. Все незамужние с завидным мужеством мечтают о замужестве (мужество это то качество, которым мы больше всего восхищаемся в женщинах). Мужчина женится на женщине, потому что он ее любит; женщина выходит замуж по той же причине: что он ее любит. Мы с Миленой были близки почти год (после ухода от Лиды), и я любил, но связывать себя браком не спешил. Почему? Боялся потерять обретенную свободу. Холостяк – человек, женатый – полчеловека; незамужняя – полчеловека, замужняя – два человека. Кстати, одинокая вызывает сострадание, одинокий – зависть.
Женщина выходит замуж за Васю лишь потому, что мечтает о Грише и никак не может женить на себе Петю. Помни, женщина: всех мужчин на себе за один раз не женишь! Я был не единственный, кто приходил к Милене. Иногда у нее на кухне посиживали и другие; например, мой основной конкурент – сосед из того же дома. Он приходил под разными предлогами: то книжку взять почитать, то трешку на бутылку стрельнуть до получки, то еще что. Он, как и я, был биофизик, причем, постарше и поопытней. Умный и обаятельный. И язык подвешен что надо. Так что, как ни крути, он был соперник серьезный. Мы с ним за Милу как бы состязались. В то время я еще не понимал, что мужчинам не стоит соперничать, ибо женщины больше всех любят самих себя; такова их природа.
Единственное, что перевешивало чашу весов сердца Милены в мою сторону, было то, что сосед был алкаш. Если быть точным, он был еще не совсем алкаш. Но Мила своим проницательным женским взором видела, куда его несет. Не знаю, были ли у них близкие отношения. Я был так доверчив и так влюблен, что мне даже не приходила в голову крамольная мысль о вечной актуальности гоголевской Солохи.
Любую последовательность событий можно выразить двумя междометиями: сначала «ух!», потом «ох!». Дальнейшие события заставили меня задуматься. Виновником этого стал, однако, не злополучный сосед, а другой ухажер. Как-то я пришел к Милене поздно вечером без предупреждения. Она удивилась моему появлению и, позевывая, провела на кухню. Дети в комнате уже спали. Я извинился за поздний визит и стал объяснять причину. В это время в дверь позвонили. «Подожди здесь», – попросила Мила, пододвинула мне табурет и пошла открывать. Я услышал мужской голос. Через минуту Мила вернулась, сунула мне в руки большую чашку и скомандовала: «Попей чайку, а я скоро приду». – «Ты куда-то уходишь?». – «Нет. Только выйду ненадолго в коридор. Пришел один случайный знакомый. Не хочу пускать его домой». Я заварил чай, налил в чашку, положил три куска сахара и стал медленно помешивать ложечкой, философски наблюдая за круговращением чаинок на поверхности. За входной дверью слышались приглушенные голоса, но я не прислушивался, поглощенный созерцанием того, как чаинки сначала вращаются по кругу, а потом, теряя скорость, собираются в центре. Очень похоже на солнечную систему: планеты кружат по орбитам, постепенно стягиваясь к Солнцу.
Выпив чашку, налил вторую. Шум за дверью стал громче. Я услышал голос Милы: «Перестань!». Я подошел к двери. Послышался игривый мужской тенорок: «Разве ты не хочешь убедиться, что я мужчина?». Мила крикнула: «Прекрати!». В ответ раздалось: «Не строй из себя целочку!». Послышалась возня. Я распахнул дверь. Финальная сцена из гоголевского «Ревизора» – ничто в сравнении с моим появлением. Милена и ухажер застыли в позах, которые великий Николай Васильевич вряд ли был в силах описать. А я попробую. Представьте себе роскошную панночку с распущенными длинными русалочьими волосами, полнокровную от избытка сил и раскрасневшуюся от излишка разнообразных чувств. Ясные очи сверкают гневом и готовы к слезам, алые губки полны презрения, грудь вздымается от волнения, белые рученьки в ямочках возмущенно упираются в плечи обидчика, а непослушные пышные бедра сами льнут к этому нахалу. Ухажер тоже был хорош: весь взъерошенный, красный от натуги, с бледными пятнами на лбу от любовного переполнения, глаза шальные, рубаха расстегнута, галстук на плече, пиджак в левой руке, правая рука – на талии панночки. Две пары глаз уставились, будто я был привидением или космическим пришельцем. Два рта – в изумлении распахнуты настежь. Надо сказать вам, любезные моему сердцу читатели, что и сам я был изумлен не в меньшей степени. Но поскольку душа из моего тела в тот момент не вылетела и, значит, не могла разглядеть меня со стороны, то ничего определенного о своем тогдашнем внешнем виде сказать не могу. А выдумывать не хочу. Пусть выдумками занимаются те, кому вспомнить нечего. Я пришел в себя первым и спокойно предложил ухажеру: «Пойдем, поговорим». Он, отпустив Милу, отрицательно мотнул головой: «Еще чего! У меня что – нет права прийти к знакомой женщине?!». В это время Милена тихонечко скрылась за дверью. Я ответил с нажимом: «У тебя есть право к женщине прийти, но нет права ее оскорблять!». «Бл@дь?», – переспросил он, ухмыльнувшись. Оскорбление – последний довод негодяя. Я ударил его по лицу. Он схватил меня за руку и стал выворачивать. Я стукнул его другой рукой в нос. Он охнул, но тут же ухватил меня за рубашку и дернул. Рукав порвался. Наплевать! Не стоит обращать внимание на то, на что не следует обращать внимания. Я ударил его в грудь. Он обхватил меня, пытаясь бросить. Наверно забавно это выглядело со стороны: сцепились два умника, один из которых пытается боксировать, а другой бороться. Как потом выяснилось, мой соперник был неплохой спортсмен: самбист, лыжник, пловец. На его стороне были сила и опыт, на моей – молодость и характер. Ему удалось-таки, подставив подножку, швырнуть меня на пол. Но я успел после падения выставить вверх ноги, упереться сопернику в живот и крепко прижать его к стенке коридора. Он тяжело дышал, и из разбитого носа на его белую рубашку капала кровь. На шум выбежали соседи. Ухажер ушел, оборачиваясь, выкрикивая угрозы и вытирая кровь носовым платком.
Возврата нет
Доверие и нежность – как лепестки розы: одно неосторожное движение – и шипы уже вонзились. Мила потеряла мое доверие. А чувство нежности к ней в моей душе стало замещаться жалостью. Милена, несомненно, была моей «половинкой», но только подгнившей, к сожалению.
Одна из подружек Милы как-то, уже после истории с ухажером, спросила: «Викентий, а когда же вы с Миленой поженитесь?». Не знаю, сама ли подружка сгорала от любопытства или это Мила попросила провентилировать ситуацию. Не люблю, когда в душу настырно лезут в валенках; поэтому отшутился: «Женитьба – замена порывов души навыками тела. Если бы мужчина женился каждый раз, когда влюбился, то и разводиться бы ему пришлось ежедневно. Если бы я женился на каждой женщине, которая хотела выйти за меня замуж, то сейчас мог бы быть обладателем небольшого гарема». Ответ мой был встречен удивленным взлетом бровей: «Вы с Милой так долго дружите… Не пора ли пожениться?». Я немного разозлился от такого беззастенчивого нажима и сурово изрек: «Если уж жениться, то на такой, чтоб не хотелось застрелиться».
Не сомневаюсь, что подружка передала Милене этот разговор, ибо сразу после этого Милена пропала на две ночи, поручив ей своих пацанов. Я спросил ее: «Где Мила?». Та тут же ее заложила: «Ночует у отца младшенького сына». У меня потемнело в глазах. Несколько дней ходил, как замороженный. Мир вокруг стал холодным и пустым. Нет преступления страшнее измены. Вы можете возразить, что есть: убийство. Ерунда. Умереть человек рано или поздно всё равно должен (если не выпьет волшебный эликсир). А вот изменившая женщина убивает бессмертное: она убивает любовь. Любовь подобна азартной карточной игре, в которой всё ставится на кон; остановиться в ней невозможно, и в ней не существует никаких правил, кроме одного: мухлевать и жульничать нельзя.
Раскаяние бывает трех видов: со слезами, без слез, без раскаяния. Через пару недель, когда я уже очухался, на пороге лабораторной комнаты вдруг появилась раскаявшаяся, но бодрая Милена: «Привет, Викентий! Как поживаешь?». Я ответил философски: «Дни заполнены, но жизнь пуста». Мила мило улыбнулась. Помолчали. «У тебя не найдется хорошего учебника по молекулярной биофизике?», – спросила она, не выдержав затянувшейся паузы. Протянул ей книгу. Она выразила радостную благодарность: «Спасибо большущее. Почитаю, а завтра принесу. Ладно?». Я заметил: «Тут 500 страниц. Вряд ли ты прочтешь даже за неделю». Она пришла через два дня, ничего не прочитав. Возвращая книжку, ждала, что я что-нибудь скажу. Я молча поставил книгу на полку. Мила обронила проникновенно: «Что ж. Пока. Лучшего человеческого отношения я не встречала». И стремительно ушла, махнув лисьим хвостом.
Гэля. Спор с Бубрецовым
Победить женщину – в этом нет славы. Быть побежденным женщиной – в этом есть позор. Хочешь быть победителем – избегай женщин. Без женщин жить скучно, но жить для них – глупо. Именно такие слова сказал бы какой-нибудь древний грек, глядя на мое самочувствие. Я был побежден, разбит, раздавлен. Вспоминая Милену, уныло думал: «Сначала я ее добился, потом она меня добила».
После разрыва с Миленой мне было противно даже думать о женщинах. Но так уж устроена природа мужчины, что избыток гормонов рано или поздно толкает его на поиск очередной принцессы. Я начал поиск в Казани, куда поехал на научную конференцию. Там встретил Гэлю – миниатюрную умненькую татарку, ничуть не похожую на восточную женщину. У нее были светлые волосы, курносый носик, серые глазки и стройные ножки. Гэля потчевала меня татарскими сладостями, названия которых так же невозможно запомнить, как латынь. А я угощал Гэлю конфетами, вином и своими очередными научными идеями. Через неделю уехал и написал Гэле письмо. Она ответила, что рада будет снова встретиться, так как вскоре собирается в Москву в связи с подготовкой к защите кандидатской.
Я встретил Гэлю в Москве на Казанском вокзале. На ней была коротенькая кожаная куртка, из-под которой волнительно топорщилась пышная юбка. Рыбу ловят удочкой, собаку булочкой, а мужчину юбочкой.
Я стал водить Гэлю по музеям, а она меня по институтам, где работали ее оппоненты. Кроме того, мы посетили лабораторию Бубрецова, где я раньше делал диплом. Бубрецов пообещал написать Гэле отзыв.
Я поведал Бубрецову о своих последних изысканиях. Суть результатов сводилась к тому, что молекула, находящаяся в ЭВС, способна передать энергию другой молекуле только при контакте их электронных облаков, при столкновении. Этот вывод противоречил не только тем результатам, которые получал Бубрецов, но и общепринятому мнению, что энергия может легко перескакивать с молекулы на молекулу на расстояние 100 ангстрем. Я показал Бубрецову свои данные. Он долго рассматривал графики и придирчиво выспрашивал о деталях эксперимента. Я подробно рассказывал и объяснял. Бубрецов заволновался: «Наши данные пгямо пготивоположны». Я попросил: «Покажите их, пожалуйста». Он обиделся: «Викентий, ты что – не вегишь мне?». Я уперся: «Верю, но, как говорится, не доверяй своим двум чутким ушам, а верь единственному кривому глазу». Однако Бубрецов свои данные не показал, а снова начал смотреть мои. Наконец, не найдя ошибки, заявил: «Это пгосто частный случай. Не более чем стганное исключение, которое жаждет стать пгавилом». Я возразил: «Мы обычно пытаемся свести всё к законам и правилам, ибо это дает чувство удовлетворения упорядоченностью бытия; однако реально сталкиваемся только с примерами и исключениями. Использование правил – скорее исключение, чем правило. На правила нужно смотреть всего лишь как на речные бакены, обозначающие нужный курс». Бубрецов разозлился: «Твои данные пготивогечат основам науки. Значит, они ошибочны». Спор начинается с недоразумения, переходит в ожесточение и заканчивается остервенением. Я рассердился: «Это не случайные наблюдения, а специальные опыты. Я привел Вам факты. Они не противоречат основам, а лишь уточняют некоторые существенные детали». Факты это булыжники, которые спорщики швыряют друг в друга до тех пор, пока у обоих хватает воображения. У Бубрецова аргументов не было, и он бодренько прокартавил: «Кто знает основные пгинципы, тому факты не помеха». Поскольку наша дискуссия перешла от конкретики к философии, то я перестал спорить. Прекращает спор тот, кто устал.