1993 Шаргунов Сергей
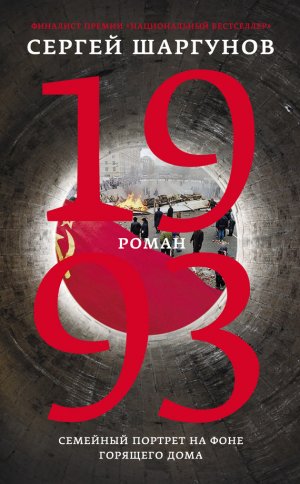
– Ельцин лег на рельсы, – сказал Виктор громко, так, чтобы слышали вокруг.
Поезд дернулся и покатил, разгоняясь и оглашая тоннель гудками. Гудя, выскочил на станцию к чернеющей толпе. Двери с резиновым чмоком разомкнулись.
На Ярославском вокзале как будто показывали два фильма – убыстренный и замедленный. В одном люди торопливо перемещались в разные стороны, сталкивались, огрызались, спешили дальше. В другом не спешили никуда. Баба с большим и багровым лицом высилась среди суеты, таращилась в пустоту, равнодушная к окрикам и тычкам. По стенам вокзала лепились бомжи: лежали, скрюченные, сидели, головой на грудь, стояли, разминая ноги и бросая трусливые взгляды.
Когда Виктор шел по вокзалу один, он останавливался возле бомжей, нашаривал в карманах мелочь, виновато подавал, сочувственно расспрашивал. Но сейчас он только повернулся к ним на ходу и замедлил шаг.
– Ты чего? – удивилась Лена.
Он ускорил шаг, последний раз покосился и вдруг остановился и выбросил руку:
– Смотри, смотри! Вон тот! Умер!
Он показывал на человека, который лежал отдельно от всех в позе эмбриона. Темная одежда вроде робы, колени подтянуты к серой бороде, под головой застывшая и уже подсохшая малиновая лужа, возле откляченного зада расплылась лужа побольше, коричнево-зеленого цвета. Вокруг кружили мухи.
– Воняет как! Я не могу. Пойдем!
– Подожди. Эй, ребят, – окликнул Виктор стоявших бомжей. – А он живой?
Те начали ворочать языками, отвечая разом и непонятно. Виктор подался к ним ближе.
– А хер его знает… – загундосил один из них, благообразный, из чьих глаз тонкими линиями тянулся желтоватый гной и, как воск, остывал на волосатых щеках. – Давеча Мишка помер… – И уточнил с нажимом: – Мишка Малой. Из Ангарска.
– Ты рехнулся! Идем! – крикнула Лена, отступая от мужа в сторону электрички. – Оставайся здесь тогда!
Виктор потерянно махнул рукой и бросился за женой.
– Ты куда? Чего такое? Я бы скорую вызвал, и всё… – затараторил он ей в самое ухо. – Это же человек все-таки!
– Да какой он человек, – сказала Лена убежденно.
Виктор обернулся на вокзал, увидел серебристый, сияющий утренней свежестью купол под серебристой пятиконечной звездой, каждый луч которой сверкал на солнце отточенно, как бритва. И вдруг ниже на перроне среди быстрых фигур, движущихся к электричке, на уровне их колен… Голова… борода… тело…
– Смотри! – дернул Лену за рукав.
Она обернулась, тоже поначалу ослепил купол, опустила взгляд и не сдержалась:
– Ну, еб твою…
Люди шагали к электричке, обтекая бомжа, как будто опасную собаку. Он полз между ними. Он полз к Виктору, к Брянцевым он полз, конечно, к ним. Он полз на коленях – рывок за рывком. Он хотел им служить. Его позвали, пока он лежал без сил, и он почуял хозяев.
Кровь коричневой лепешкой запеклась на седой шевелюре и лбу. Он полз очень проворно и всё слышнее мычал.
– Это он? Тот самый? – спросил Виктор с детским восторгом. – Хорошо, что он жив!
Лена вскочила в электричку.
– Эй! Эй! Куда ты? – нервно смеясь, Виктор гнался за женой, та летела по вагонам, хлопая дверями в тамбурах.
В середине она выдохлась, села и приклеилась к окну. Виктор сел напротив. Легонько похлопал ее по колену:
– Ой, Лен, он сюда приполз!
Она на миг встрепенулась, стрельнула глазами.
– Не смешно, – приклеилась обратно к пыльному окну.
Машинист сквозь треск провозгласил натужный безалкогольный тост, поезд зашипел, как бутылка газировки, и потек себе от Москвы.
Виктора теснили на скамье две пухлые судачащие между собой бабуси, а возле Лены вольно расселся рослый парень в короткой майке, открывавшей розовую грудь атлета. У парня были нагло расставлены ноги.
– Лен! – позвал Виктор снова, подтверждая свое право на жену.
– Я не пойму, – спросила она вполголоса, наклоняясь к нему, – тебе, что, нравятся уроды? Ты еще домой к нам такого посели. А что? Они ж для тебя жертвы власти, да? Давай! Или лучше знаешь что – ты сам с ними живи. Тебя уже знают на вокзале, правильно я поняла? Во вторник поедешь с работы, домой не надо, с новыми приятелями отдохни.
Виктор покрутил головой:
– Раньше их лечили. Раньше всем был труд. А теперь квартиру за бутылку выманят, и иди куда хочешь. Что, не так я говорю? – Он бросил взгляд на атлета, тот спал. – Правильно ты выразилась: жертвы.
Лена ядовито поглядела на мужа:
– Смотри, не подхвати туберкулез. Или, может, чуму какую. Дома девчонка растет, а он с бомжами вась-васькается.
– Елена, у нас разговор слепого с глухим, – Виктор с хрустом зевнул, настал его черед отвернуться в окно.
Он сонно смотрел сквозь прищур и видел явь как сны: красноватые, оттенка его век, просвечиваемых солнцем, и в то же время зеленые, цвета зелени за окном. Он неожиданно вспомнил бомжа и две его лужи: красную – крови и зеленоватую – дерьма, встряхнул головой, точно сбрасывая брызги, и кулаком стал тереть глаза, старательно и брезгливо. Почему-то в окно уже не смотрелось, смотрел перед собой. Лена сопела, привалившись на голое плечо бесшумно спящего атлета.
Каждую минуту в вагон заходили торговцы и предлагали порножурналы, церковные календари, фонарики, стельки от потливости ног. Пока один нахваливал товар, следующий ждал и начинал свою арию, едва замолкал предыдущий.
– Свежий выпуск газеты “Молния”! Покупайте газету пролетарской борьбы!
Виктор заерзал, приподнялся, вглядываясь. Между рядами приплясывала старушка с маленьким печеным радостным лицом. Подмышкой зажата пачка газет.
– Правда о жизни простого человека! Свежий выпуск “Молнии”!
– Спасибо, мать! – Виктор ссыпал ей мелочь в ладонь. – А прошлого номера нет? Где стихи Гунько Бориса…
– Нет. К музею Ленина приходи! – зашлепала старушка. – Там все номера есть. Лучше в воскресенье. В десять утра линейка. Там все наши: и Виктор Иваныч, и Гунько со стихами, и дьякон Пичушкин…
– Ага! Видели, знаем, топай! – громыхнула сидевшая возле Виктора бабуся. – Вчера показывали. Это же новый Гитлер, Ампилов ваш!
– Не говори, Тома. Охота нам всякое барахло читать, – согласилась ее спутница, до этого купившая “Очень страшную газету”.
– Больше верьте Тель-Авизору, гражданочки! – азартно отозвалась старушка с газетами.
Немедленно в спор втянулись другие пассажиры. Зашумели голоса. Кто-то материл коммунистку и обещал выкинуть в окно, та отвечала, капризно и плаксиво. Кто-то материл матерящего. В проходе стояли продавцы, которых никто не слушал.
Лена застонала, вздрогнула и пробудилась. Непонимающе смотрела на мужа.
– “Сорок третий километр” платформа, – бравой скороговоркой объявил машинист.
– Выходим! – крикнула Лена.
– А? – он уставился на нее в невероятном прозрении. – Наша?
Они выбежали из электрички.
Родной поселок встречал запахом леса, пением птиц, безлюдьем и железным ящиком палатки в начале улицы.
Виктор почувствовал сильную усталость. Это всегда с ним бывало после работы – стоило сойти на землю Сорок третьего: глаза сами закрывались, ноги еле шли, и ему почему-то всегда представлялась вата в молоке. Он передвигался, ощущая себя ватой… белой и вялой… ватой, которую намочили в молоке…
Лена нежно обняла мужа за талию и беззвучно помирилась с ним. Брянцевы добрели до дома, вошли за калитку.
– Кто это свинячит? – отрешенно спросил Виктор и носком ботинка подвинул окурок с дорожки в траву.
– Кот из дома – мыши в пляс, – ответила Лена столь же отрешенно и позвонила в дверь.
Ждали долго. Лена утопила кнопку еще раз, долго держала. Заскреблись, отпирая.
Таня, бледная и растрепанная, тени в подглазьях, стояла на пороге и щурилась поверх родителей в утренний сад, влажный и яркий. Она была босая, до ляжек спускалась длинная безразмерная оранжевая майка.
– Чего не открывала? Встать не можешь? – при виде дочери Лена оживилась.
– Сковороду сожгла? – Виктор замер в прихожей, как бы бдительно прислушиваясь. – Чо-то горелым тянет…
– Да не горелым, Вить. Это ж табачина! – Лена оживилась еще больше.
– Табачина? – переспросил он, мрачнея. – Курила? В доме?
– Рита заходила, сигаретку в окно… Я не могла ей запретить… Я всё проветрила…
– А ну-ка дыхни! – приблизилась мать.
Таня сделала шаг назад.
– Одно огорчение… Значит, одну ее оставлять нельзя! – заурчал Виктор. Склонился, чтобы снять ботинки, и сообщил в пол: – А Ритка твоя – шлюха. – Разогнулся. – Такой же хочешь быть?
– Козу хоть кормила или нет? – спросила Лена.
– Кормила.
– Не врешь? Еще раз покорми. День на дворе.
Супруги отправились на второй этаж – отсыпаться каждый в своей комнате.
Таня поставила чайник, подергала руками, поприседала. В комнате летал шершень. Хорошо, что ночью не цапнул. Она поохотилась за ним, загнала и на деревянном столе раздавила темно-синим корешком русско-немецкого словаря. Раздался мерзейший хруст. Села пить кофе перед телевизором, убавив звук.
…Около полудня она взлетела по лестнице к матери, наклонилась, затормошила. Лена долго не поддавалась, наконец резко очнулась:
– Чего ты?
– Баба! Валя! Баба Валя! Сгорела! – выкрикнула Таня, остро всматриваясь в материнское лицо. – Баба Валя сгорела!
– Как?
– Вчера. В Москве. В троллейбусе. Тетя Света звонила. Вчера сгорела она – баба Валя!
Лена нашарила ногами тапки.
– Что же ты меня к телефону не позвала?
– А ты говорила: если спите – вас не будить.
– Да здесь же другое…
Переместились в комнату к Виктору.
– Чего шумим? – Он лежал с открытыми глазами, закинув руки за голову.
– Баба Валя сгорела! – выпалила дочь.
– Сердце чуяло, скажи? – спросила жена.
– Выйдите. – Он поднял колени под одеялом. – Сейчас оденусь.
Лена перезвонила Свете, своей сестре по отцу. Всплакнула в трубку. Дала трубку Виктору – тот промямлил что-то и несколько раз внушительно кашлянул.
Принес сверху бутыль “Рояля”, извлеченную из железного шкафа; на кухне выпили по рюмашке с водой. Таня просто помолчала рядом у кухонного окна, за которым висела картонная кормушка – яркий пакет из-под сока с вырезанным арочным отверстием. В кормушке, покачивая ее, бойко, как заводные, клевали хлебные крошки два воробья.
– К Асе пойдем. Оденься, – сказала Лена, вытирая полотенцем лицо, по которому текли слезы. – Дай ей корма. И на крыльцо веди.
Таня вышла на веранду, натянула выцветшие огородные штаны, зачерпнула комбикорм в красное пластмассовое ведерко. Коза замекала из сарая в глубине огорода. Когда Таня приблизилась, Ася заорала так радостно и жутко, что девочка испугалась: надорвется.
– Что ты как резаная… Не зарезали еще… – открыла дверь в сарай, поставила ведро.
Ася чавкала, то и дело вскидывая потусторонние янтарные глаза.
– А вода? Блин, новую наливать?
Таня заперла козу, вылила из железного ведра мутноватую воду, пошла в дом под возобновившийся ор; в ванной наполнила ведро заново, вернулась, открыла сарай, легонько саданула ведром по вывороченным розово-черным ноздрям.
Коза не пила, если в воду попадет трава, или сухарь, или щепоть корма. Чистюля, она признавала только безупречную воду. А при дойке строптивую кто-то должен был держать сверху, зажав ее бока ногами. Больше того – коза не давалась, если сверху не было брюк или штанов. Юбку почитала за оскорбление. Покладистее всего Ася была на веранде, где жила первый год, поэтому, как всегда, Таня отвела ее из сарая на веранду. Там уже ждала мать.
Молочные струи с перезвоном побежали в эмалированный таз.
– Дурында, зачем паясничаешь? Тебе добро делают! Сколько накопилось, а? Не хами, стой, как полагается, – уговаривала Лена, сидя на корточках, и привыкшими пальцами ловко тянула и мяла вымя, розовато-серое, в седых волосках.
Таня напрягала мускулы ног, приседала козе на хребтину, в кулаках сжимала рога, нагибая ей голову. Коза пахла бунтом – тепло, сладковато и чужеродно.
– Ах, Валентина ты Алексеевна! За что тебе смерть такая страшная? – Молоко звучало сначала резко, ударяя по голому дну, потом, когда его прибавилось, – мягче и с бульканьем. – Целую жизнь прожила, никому плохого слова не сказала. Не мачеха мне была, а мама вторая! Живьем сгореть… Боже ты мой!
У Брянцевых не было животных, кроме Аси. Белая, с оранжевыми пятнами костлявая кошечка Чача пропала прошлой зимой. Кошки в поселке куда-то девались постоянно. Многие грешили на пацана Харитошку – мол, тайный палач кошачьих. Ася обитала у Брянцевых третий год; она желала быть домашней, неудержимо лезла в жилище, как кошка, и встречала всех приходящих, норовя боднуть, со злобным рвением сторожевого пса.
По странному совпадению Ася родилась там же, где и сгоревшая вчера Валентина, – в Хотьково.
Валя девчонкой (золотая коса по пояс) поступила в Москве на машинописные курсы имени Крупской. Она и подружка-москвичка кареглазая Катя устроились в НКВД, на Лубянку – машинистками.
После войны Катя выскочила замуж за своего начальника – майора Олега Майстренко, харьковчанина очередного чекистского призыва. В Сочи в санатории, куда муж отпустил одну, она влюбилась в летчика Полонского с романтическим профилем, случился роман, но летчик уехал к жене и двум сыновьям в Минск. Катя вернулась в Москву к мужу и через несколько лет родила Лену. Лене был всего годик, когда Катя, в воскресный день идя из ГУМа по Красной площади, встретила вдруг Полонского с подростками-сыновьями и женой. И он при дородной жене и разинувших рты детях бросился, обнял, прижался: “Я искал… Я знал… Я мечтал тебя найти!” Катя развелась с Майстренко и вместе с маленькой Леной и Полонским уехала в Минск.
Майстренко тотчас в отместку предложил Вале выйти за него. Та согласилась. И у них родилась дочь Света.
А у Кати с Полонским не сложилось – оказался бабником, да и Минск встретил ее осуждающе и недобро. Через полгода с Леной на руках она уехала в Армавир, к родне. Устроилась директором магазина и была арестована по обвинению в растрате, когда Лене было семь. Подключился Майстренко, уцелевший в антибериевских чистках, Катю выпустили на поруки артистов местного театра драмы и комедии и понизили до продавщицы, но из Армавира не отпускали, пока не выплатит задолженность.
Катя была кубанских кровей, статная, искристая, порывистая, властная, круглый год переполненная летом. Любовная неудача надломила ее, арест сделал обиженной и мнительной.
Лену в Москву взял отец. Он был мягкий, немного сентиментальный хохол, похожий на пеликана, очень любил обеих дочек.
Лена пришлась мачехе по душе. Три года подряд она прожила в одной комнате со сводной сестрой. Все вместе ездили отдыхать на море. Но Катя отказывалась общаться с Валей до самой смерти: не хотела, и всё тут.
– Что ты с ней дружишь? – говорила мама про мачеху. – Думаешь, она с тобой искренняя? Нужна ты ей… Думаешь, хорошенькое тебе желает? Одно плохое!
– Прям! – отвечала Лена. Она вырастала резкой, насмешливой. – Ты папу бросила, а теперь жалеешь.
– Я-то бросила, а эта объедки сразу подхватила. Я нового себе нашла…
– А замуж так и не вышла.
– Ой, замуж! – У матери прорывался праздничный говор казачки. – Так больно мне оно надобно. Замуж… Главное, чтоб любовь!
Мама Катя умерла внезапно в сорок два года. Кстати, на морском отдыхе – с возлюбленным, молодым рабочим завода “Серп и молот” – от теплового удара.
После седьмого класса Лена пошла в строительный техникум и выучилась на теплотехника. Работала в домоуправлении. Потом устроилась в Минобороны – в службу тыла.
Она никогда не называла мачеху мамой, но всегда по имени – Валя. Валентина была ей задушевной подругой. После Лубянки она работала машинисткой в разных учреждениях, а ближе к пенсии, овдовев, – секретаршей в архитектурно-планировочном управлении. Там Валентина Алексеевна познакомила Лену с Виктором. Электронщик, он заходил согласовывать проект уличного экрана, которым занимался от ФИАНа.
О личном Валентина говорила пословицами – то ли народными, то ли выдуманными ею самой:
– Девичьи годочки вянут, как цветочки. Кавалеров много, муж один. Замуж не возьмут, считай, не жила.
Она всю жизнь писала в тетрадках: истории своей жизни, об увлечениях и ухажерах и стихи.
- Когда-то я была красива,
- Неотразим был мой портрет,
- На шпильках туфельки носила,
- В поклонниках отбоя нет.
Однажды на день рождения Лены она преподнесла ей длинную поэму, где была вся жизнь падчерицы – рождение, учеба в школе и техникуме, работа, встреча с Брянцевым, рождение Тани, переезд на Сорок третий километр, и даже козу она не забыла.
Состарившись, Валя заинтересовалась сектой, куда ее подбила ходить соседка латышка Августа. На собраниях распевали гимны, а потом угощались творогом и кашей.
И вот – Валентины нет. Нелепо не стало. Сгорела. Сгорели люди в троллейбусах…
Нервные волны ходили под белой шерстью козы. Она нетерпеливо била копытом.
– Сейчас уже! Закончу с тобой! Не борзей… – приговаривала Лена, доцеживая второй сосок.
Тонкая долгая струя цыкала в таз с молоком.
Это Валентина посоветовала Брянцевым дом на Сорок третьем, куда они перебрались из Москвы, с Щукинской. И на козу Валентина их навела. Ее старинные знакомые из Хотькова пожаловались: некуда пристроить маленькую козочку.
Виктор поутру в выходной отправился электричкой в Хотьково, где заплатил какие-то смешные деньги, и вышел с беленьким существом на руках. Он договорился: когда козочка вырастет и даст приплод, привезти сюда козленка. В электричке на них смотрели. Козочка тянула безрогую, с двумя шишечками, головенку к весеннему окну и нежно мекала. Виктор держал ее одновременно невесомо и цепко, как будто она из снега, и либо растает, либо развалится. Она принялась обнюхивать ему лицо, ткнулась в кадык и вдруг зажевала ворот его рубахи. Виктор принес козочку домой, и ее поселили в вольере, который он соорудил на веранде. В вольере постелили стеганое одеяло и кинули старую думку, разве что игрушек недоставало. Козочка, почуяв доброту, всё время только и делала, что звала пронзительно: “А-аа-ась, а-аа-ась!”
– Чего тебе, Ася? – Лена выходила на веранду и вела с козой пространный душевный разговор.
Особенно обрадовалась козочке Таня. На участке у Брянцевых росла небольшая рощица банановых деревьев, оставшихся от прежнего хозяина, дипломата, – тугие и вытянутые стебли с широкими листьями, напоминающими слоновьи уши. Быть может, эти бесплодные в северных краях заросли символизировали мечту советского человека об изобилии бананов. Таня приметила: вкуснее любой травки-муравки для Аси были банановые листья. Девочка мельчила их и совала козе в жадный роток.
Коза подрастала, надо было переселять ее в сарай, но Брянцевы всё тянули, в то время как Ася всё сильнее обвыкала на веранде, вблизи людского тепла. Теперь она легко преодолевала вольер и пользовалась любой возможностью навестить дом – следом за входящим или навстречу выходящему. Наконец она изловчилась входить самостоятельно. Поднявшись на дыбы, ударяла передними копытцами, щелкал замок, дверь продавливалась вперед и со скрипом ползла назад. Первым делом коза вбегала на кухню, воровато шарила по столу, могла схрумкать что-нибудь, затем неслась в гостиную, где прыгала в старое кресло под пыльной накидкой. Если дома был Виктор – козу гнали. Если Лена и Таня – коза могла торчать в кресле часами, смотрела телевизор, поводила ушами, слушала разговоры, изредка мекала. Лена ставила возле кресла таз, и, когда приспичит, коза, соскочив, туда мочилась. И заскакивала обратно в кресло.
Окрепнув, она набиралась наглости и ярости. Всё чаще при приближении гостя вставала в боевую стойку, нагнув голову и круто выпятив рога. Но заключила пакт с кошкой Чачей. Как-то коза нацелила рога на кошку, сидевшую на крыльце, и испытующе зыркнула – кошка бросила умываться и посмотрела внимательно. Протекла трудная минута смешения козьих и кошачьих глаз. С тех пор коза и кошка не обращали друг на друга никакого внимания.
Таня любила Асины молодые рога, гладила и чесала, они напоминали ей изящные древности: сосуды, оружие, музыкальные инструменты. Надо было угомонить животное – Таня без страха хваталась за рога, но коза, напружинившись, всё равно перла вперед или дико мотала головой, пока ее возбуждение не спадало.
Ни с кем так охотно коза не гуляла, как с Таней. Они бегали наперегонки, перекрикивались, Таня представляла козу своим знакомым и ею пугала. Если сказать тревожно: “Чужой!”, коза склоняла голову и выставляла рога.
Случалось, паслись рядом с домом на заброшенной стройке. Когда-то здесь была обычная лужайка, просвет между домами, но к концу Советского Союза на лужайке затеяли строить дом отдыха. Возвели фундамент, свезли бетонные плиты и гору кирпичей, и на этом стройку забросили. Несколько лет плиты и кирпичи валялись неприкаянно, постепенно растаскиваемые, и, по слухам, земля была уже продана начальнице с софринского свечного завода. Ася резво прыгала по развалинам так и не начавшейся стройки. Когда родители тревожились: “Она у тебя ноги не переломает?” – Таня отвечала им убежденно: “Это горная козочка!”
Временами козу отводили на поле возле дальнего леса. По слухам, это огромное поле тоже уже обрекли на продажу и застройку, но в такое как-то никому не верилось. Там Асе надлежало полдня пастись одной, привязанной к столбику. Однако тащить ее туда приходилось волоком. Она нарочно подгибала ноги и, казалось, пускала корни в землю. Обычно тащил ее Виктор. Привязанная, она падала на колени, билась об землю и плакала безутешно. Она плакала полдня и ничего не ела, даже когда жившая у поля старуха Мария Никитична подсовывала ей ворох сена. Как будто ребенок, ненавидящий детский сад и силой туда приведенный.
– В диспансер тебя надоть, вот что. Для психбольных животных, – говорила красноносая Мария Никитична, чьи две коровы безмятежно кормились на том же поле без присмотра и привязи.
Зато когда Таня забирала Асю, коза скакала домой во весь опор – обгоняя велосипед, на котором катила девочка.
Наконец козу переселили с веранды в сарай на огороде. Отделение от дома коза восприняла болезненно. Если она понимала, что дом пуст, в ужасе начинала вопить не переставая. Это был таинственный гортанный вопль оставленности. Соседи грозились ее убить. Со временем коза научилась рогом поднимать щеколду, покидала сарай, взбегала на крыльцо, ломилась в дом.
И вот – у нее началась течка. По скользким россыпям желтой листвы Лена повела Асю в рощу, где жил лесник Сева, имевший обширное хозяйство, включая породистого козла. Козел бегал в загоне, за железной сеткой, чудовищно разросшийся и густо-черный, распаляя себя, как боксер перед турниром. Звали его Сократ. Сева властно потянул Асю за рог и впихнул в загон.
– Он же ее порвет! – заволновалась Лена.
Сева подмигнул и приложил шершавый палец к воспаленным губам:
– Тс-с-с…
Сократ и Ася поладили беззлобно и даже плавно. Когда Лена уводила козу, та рванулась обратно и заголосила, как будто отведала чего-то необычайно вкусного.
У нее родился темный и большеглазый очаровашка-козленок. Отчего-то один. Назвали Гаврилой. Виктор отвез его в Хотьково, как договаривался.
Как-то Ася заболела. Съела большой кусок целлофанового парника, хотя Лена сначала на соседей подумала: отравили. Есть коза не могла – рвота, и стоять не могла – ложилась на живот. Ее перенесли в гостиную в кресло, подставили таз. Из Пушкино прибыл ветеринар Дмитрий Яковлевич с желтовато-седой бородой и прокуренными раскатами голоса. Сел на корточки, наклонился:
– Ну что, кормилица, хвораем? Водка есть? – спросил, не отрываясь от козы. – Неси!
Лена принесла бутылку “Зверя” – была такая водка.
– Огурцы солили? Неси огурец!
Встал с корточек, открутил железную пробку и влил себе в бороду – глоток за глотком – четверть бутылки. Громко захрустел огурцом, танцуя головой и смежив веки, как будто целуется.
– Это водой разбавь, доверху, – протянул бутылку с остатками водки. Облизнулся в бороде толстым языком. – Мужик есть?
– Есть.
– Зови!
– Вить! – закричала Лена наверх.
– Помогай, друг, – приказал ветеринар. – Держи ей пасть.
Виктор раздвинул козьи челюсти, и доктор влил между ними одним потоком водку с водой – всю бутылку.
– Сожми ей. Чтоб не выплюнула.
Коза вращала глазами, но была слишком слаба протестовать.
– Будьте здоровы, господа хорошие! – рокотал врач на прощание. – Ни о чем плохом не думайте. Завтра встанет кормилица! Вы ее только хорошенько прогуляйте, чтоб растряслась как следует.
Так и получилось: назавтра Ася снова ела и мекала. А послезавтра резвилась беззаботно.
Ася давала три литра в день – обильно. Правда, Брянцевы не очень-то жаловали козье молоко. Козу взяли ради здоровья, в первую очередь – дочери. Таню приучили: стакан утром, стакан перед сном. Лена могла подлить молока себе в кофе, а Виктор, едва унюхав козий дух, от отвращения корчился.
– Чем оно тебе так не угодило? Ты зачем ребенка пугаешь? – говорила Лена.
– Мочой пахнет. Не могу я! Может, и мочу пить полезно. Но не для меня это!
– Неправда! – подслушав их разговор, на кухню вбежала Таня. – Земляникой оно пахнет!
Молоко давали пить Рите и ее брату (тех принуждала мать) и всем желающим наливали.
– Не дом, а богадельня, – усмехался Виктор. – Приходи – по телефону звони, еще и молочка за так поднесут…
– Не торговать же нам, – как-то сказала ему Лена.
– Ну, – согласился он.
– А почему не торговать? – вмешалась Таня.
– Зачем срамиться? – ответил Виктор и этим ответом всех убедил.
Когда к Брянцевым приезжала Валентина, молоко она пила с удовольствием, могла выдуть подряд три чашки.
– Лен, а зачем ты ее слушаешься? – поразилась она, когда коза в очередной раз, покинув сарай, вбежала в открытый настежь дом и прыгнула в кресло. – Иди! А ну пошла! Ведьма чертова! – И заехала сложенной в трубу газетой козе по морде.
Коза спрыгнула на пол и без всяких промедлений саданула рогами старуху под колено.
Закричала Лена, Валентина забегала вокруг стола:
– Кыш, проклятая!
Коза настигала. Валентина обернулась и страстно плюнула. Коза остановилась, мотнула головой. Старуха зажурчала ртом, накапливая слюну, и плюнула еще. Коза покачнулась и выбежала из гостиной через прихожую в огород. Обидчиво процокали копытца.
– Вот! – торжествующе сообщила Валентина, растирая под коленом. – Я человек простой. В моем детстве их всегда так гоняли! Плюнь погуще – она в кусты. Они ж больно брезгливые, козы-то!
Асю с той поры Валентина опасалась. Но и коза платила ей тем же.
Глава 6
Валентину Алексеевну хоронили в закрытом гробу.
С закрытым гробом долго не напрощаешься, поэтому в морг никого не звали – сразу на кладбище, где и отпели в церкви. День был ветрен и бесцветен. Священник в белом облачении, рослый, в грязных сапогах, отслужил литию над могилой. Сам возглашал, сам себе подпевал – без запинки, подгоняемый каким-то внутренним наступательным ритмом. Слова молитвы то резко выскакивали, то тонули в мурлыканье. Он позвякивал кадилом, и напевный голос проносился над всеми и сквозь всех, как дым ладана на ветерке – то густея, то рассеиваясь.
Лена тихо плакала, Виктор изредка кряхтел, Таня смотрела по сторонам, превращаясь во всё, что видит.
Валентинина дочь Света была влажная от слез, мягколицая, с завитыми светлыми волосами. Округлые руки торчали из черного платья и зябли, покрытые мелкими пупырышками. Ее муж Игорь – низкий лоб, покатые плечи – выглядел сурово, взявшим обет молчания. Плакали и шептались, словно бы слипшись, несколько подружек и соседок покойной.
Поодаль от всех торчала девица в белой куртке с накинутым на голову капюшоном (“Из секты”, – шепнул кто-то). Она читала брошюру в разноцветной обложке, близко поднеся к лицу и шевеля губами.
Таня была на похоронах второй раз в жизни. Закрытость гроба смягчала для нее смерть бабы Вали, как будто в гробу пусто.
Поехали на поминки в старинный дом в Чистый переулок. Валентина жила в отдельной двухкомнатной, но решили поминать где просторнее, по соседству, на большой коммунальной кухне. Перед поминками зашли в Валентинину квартиру: трюмо, шкаф, этажерка, фарфоровые статуэтки, настенный ковер – Виктору казалось, что всё должно было померкнуть, измениться, столько тепла и внимания старуха вкладывала в окружавшие ее вещи, но эти вещи-предатели выглядели как ни в чем не бывало.
На коммунальной кухне были сдвинуты три стола, на подоконнике стояли молодой красивый фотопортрет и рюмка под черным хлебом. Здесь были жильцы всех комнат, и даже женщина в халате и с мокрыми волосами слонялась из коридора на кухню и обратно, прижимая к себе спящего грудничка.
– А с кем малышню оставили? – спросила Лена.
– С подругой Светиной, – ответил Игорь.
У них были мальчик и девочка пяти и семи лет.
– Бабушку любят… – всхлипнула Света. – Как я им объясню теперь, куда бабушка делась?! – Слезы прокатились по ее щекам.
Приехал Валентинин друг детства – старик из Хотькова: сел рядом с Таней и ухватил ее пальцами выше локтя. Слегка, но цепко. Щипок означал страх и близость смерти – Таня почувствовала это, и ее точно сковало. Старик шевелил проволочными бровями, спрашивал у Брянцевых про козу, не слышал, спрашивал опять, сказал, что козленка Гаврилу разорвали собаки, “трудно везде поспеть, жена всё лежит, да и я уже не тот”, и продолжал держать в щепоти кусочек Тани, кажется, сам о том позабыв. Таня отдернулась, принимая миску с салатом, и пересела.
Наконец стали поминать.
Света встала первой.
– Мама всегда говорила: доживу до ста лет. И я думаю: она бы дожила до ста, если б не катастрофа. Сколько она опасностей видела! В войну на работе ночью сидит, на машинке стучит. За окном сирена воет. А она думает: нет, надо допечатать дело. Дело! Во времена были. Допечатала, бежит по улице к метро, а кругом всё гудит, гремит… Потом бомба рядом в дом попала, и камень в спину отлетел. С такой силой, что она лицом упала на мостовую. Говорила: ударил бы в висок – точно бы убил. И еще один случай. Она уж немолодой была, за пятьдесят. К нам в гости приехала, на мой день рождения, шла обратно через парк, ну, у нас, возле “Речного вокзала”. И там на нее в темноте какой-то маньяк напал. Повалил в снег, это весна ранняя, так мать, даром что добрая, его зубами – хвать…
– И куда она его?.. – задорно спросил Виктор, по дороге с кладбища успевший хлебнуть.
– Помолчи, – одернула его Лена, – не в цирке.
– А чего? – растерянно и нагло отозвался он. – Не, а чего? Я ж про что? Молодцом была.
– За нос его, гада, тяпнула, – разъяснила Света.






