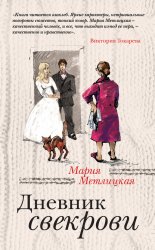Аристономия Акунин Борис
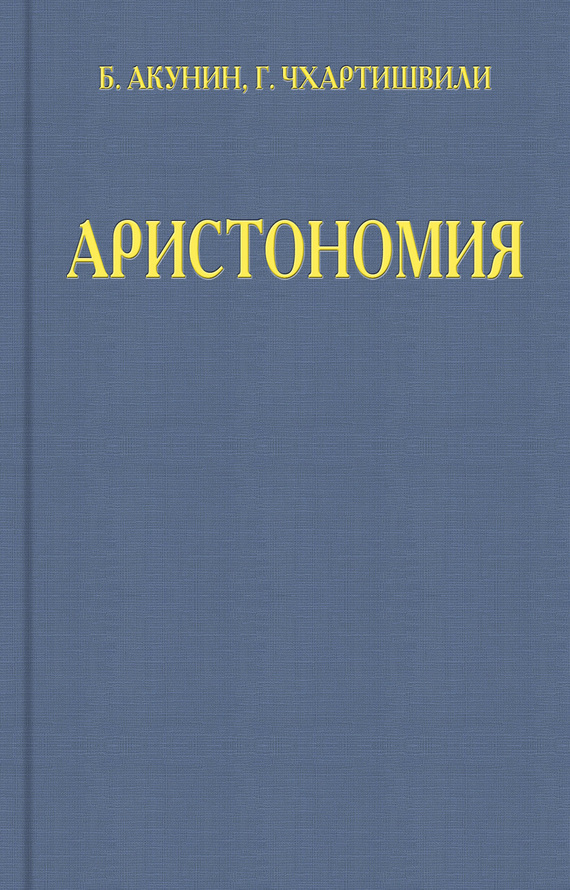
– Вы-то что здесь делаете? – удивился Антон.
– Изучаю врага. – Бердышев не озаботился понизить голос. Правда, в царившем вокруг гаме никто бы все равно не услышал. – Вот с кем драться придется. Скоро. Когда слюни высохнут и осядет муть, теплых никого не останется, только холодные и горячие. Мы и они. – Он качнул головой в сторону пустого балкона. – Чья возьмет, того и Россия.
– Вы про большевиков? – Антон поглядел на ближайшего из ораторов, тот тряс зажатой в руке кепкой и кричал что-то про мировую революцию.
– Не туда смотришь. – Петр Кириллович взял за плечи, развернул в другую сторону. – Полюбуйся-ка. Я так и знал, что он из этих.
По соседству толпа – человек сорок или пятьдесят – стояла плотнее и слушала внимательней. Выступавший, наверное, влез на ящик или, может, на бочку. Над папахами было видно непокрытую русую голову и шинельные плечи.
Антон чуть не вскрикнул. Панкрат!
Веселый гость, явившийся в дом Клобуковых в канун страшных событий, и здесь, среди галдящего скопления грубых, возбужденных людей, тоже держался весело. Он не ораторствовал, не размахивал руками, а просто разговаривал, вроде и негромко, но сильный, уверенный голос был слышен каждому. Казалось, не очень-то ему нужно беседовать с солдатами, ничего он от них не добивается, ни к чему не призывает. Это они задают ему вопросы, а он отвечает, коли уж им охота знать.
– Не-е, дядя, – усмехался Панкрат сивоусому саперу, – в деревню еще успеешь. Деревня, она навроде хвоста. Как из центра прикажут, так и вилять будет. На фронт надо возвращаться, вот что. Вы теперь умные, революцию вблизи видали, руками щупали. Надо товарищам рассказать, кто в окопах вшей кормит. Полковые комитеты надо под себя подгребать, а то там сейчас оборонцы засели, с ними мы войну не закончим.
И снова вылез щуплый солдатик, которого давеча раз уже двинули по затылку. И опять с тем же вопросом:
– А ты где сам служил, браток? На каких фронтах?
Панкрат ему оскалился.
– Э-э, где я только не служил. Тебе всю мою карьеру описать? Про арестантские роты в Красноводске слыхать доводилось?
Он огляделся – не откликнется ли кто.
Откликнулись, уважительно:
– Слыхали. Гиблое место, хуже каторги. Бывал, что ли?
– Восемнадцать месяцев солененького хлебал. Я много где бывал. – Панкрат махнул рукой. – Так что, про меня будем говорить или про дело?
– Про дело, про дело! – зашумели вокруг. – А может, они там на фронте сами управятся? Боязно Питер буржуям оставлять. Без нас они тут быстро всё на старое повернут!
– Рабочие не позволят. Нашего брата тут триста тыщ! – быстро повернулся в ту сторону Панкрат и снова стал говорить про солдатские комитеты, от которых сейчас всё зависит.
Кто-то крикнул, задиристо:
– На фронт агитирует, а сам тута посиживает! Хитрый!
Так же проворно Панкрат развернулся еще раз.
– Это я нынче «тута», а в ночь еду на Западный фронт, в полк. Но ты прав, товарищ. Что я вас агитирую? Кто не болтун, а за дело болеет, айда со мной в дом. Потолкуем без базара, по-серьезному.
И спрыгнул с того, на чем стоял. Исчез за папахами. Но тут же в толпе началось движение. Человек десять, а может и больше, двинулись к ограде особняка – за Панкратом.
Хотел и Антон за ними – надо хотя бы поздороваться. Панкрат ведь, наверное, про родителей даже и не знает.
Но Бердышев остановил:
– Идем отсюда, нечего тебе там делать.
Выбрались на другую сторону улицы, где свободно.
– Соврал он про арестантские роты? – спросил Антон, оглядываясь на шевелящуюся серую массу. – Он кто все-таки: Рогачов или Михайлов?
– Рогачов, с нашего курса. – Петр Кириллович хмуро косился на желтые от мочи груды слежавшегося снега. – …Нет, не соврал. Он вообще не из врунов. Только у него одна правда, а у нас другая. И двум этим правдам в России вместе не жить. Про армию он тоже правду говорил. Там теперь всё решается, в частях. За кем полки пойдут, тот возьмет верх. Только скорее всего поделятся полки между ними и нами. Кровь будет, и хорошо, если средняя.
– Как это «средняя»?
– Военно-полевые суды, виселицы. Смертную казнь придется восстановить. А не то будет большая кровь, уже безо всяких судов. Захлебнемся!
Говорил Петр Кириллович так сердито, что Антон притих, испуганный не столько словами, сколько тоном. Молча дошли до моста.
– Ты-то как? – спросил Бердышев, останавливаясь. – Прости, забросил я тебя. Много всякого навалилось. Работы много.
– На фабрике?
У Петра Кирилловича складки от крыльев носа к углам рта опять стали резче.
– Нету больше фабрики. Закрыл.
– Почему?!
– Пролетарии, скоты, самоуправления захотели. Как будто плохо им жилось! Квартиры, столовые, больница, детский…, сад! – Слышать площадное ругательство из уст сдержанного Бердышева было дико. Антон вздрогнул – а Петр Кириллович и не заметил. – Валяйте, говорю, самоуправляйтесь. Без меня! Недели не прошло – станки встали. И черт с ними. Не до фабрики.
Антону хотелось, чтоб Петр Кириллович больше не говорил таким скрежещущим голосом.
– А как Зинаида Алексеевна?
По лицу Бердышева словно кто-то провел мягкой тряпкой, стер злобу.
– Я их с дочкой в Крым собираюсь отправить. Там спокойней. Особенно ввиду грядущих событий, которые неизбежны… – Внимательно, словно только что встретились, осмотрел Антона. – Нет, правда. Ты как живешь? Деньги, что я дал, закончились? Ты скажи.
– Спасибо. Во-первых, не закончились, а во-вторых, я теперь служу. В Чрезвычайной следственной комиссии, стенографистом.
Взгляд у Петра Кирилловича стал рассеянным. Он, кажется, вспомнил о делах, заспешил. На прощанье сказал:
– В следственной комиссии – это хорошо. Должен быть спрос с тех, кто страну до такого довел, со всех этих ознобишиных. Суровый спрос.
Но сурового спроса со сгорбленного седого человека, которого подталкивал в спину конвоир, требовать не хотелось. Он вдруг покачнулся, арестант в генеральской шинели, беспомощно плеснул рукой и, возможно, упал бы, если б солдат грубо не ухватил его за ворот. Антон бросился туда: что такое?
– Сейчас… Сейчас… Голова закружилась, – бормотал Ознобишин белыми губами. – Присесть… На минуту.
Его усадили на стул. Сердобольный Август Николаевич принес воды. Деловитый, вечно спешащий Томберг поглядел на обмякшую фигуру тайного советника, поморщился, перевернул страничку блокнота.
– Тогда вот что. Пойдемте-ка в одиннадцатый, сейчас доставят бывшего обер-прокурора Раева. – Это Аренскому. А солдату: – Вы, товарищ, оставайтесь с подследственным. Когда сможет идти – везите обратно в Петропавловку. Пусть его врач осмотрит.
– Ага, – лениво ответил конвойный.
– Что с вами? У моего коллеги есть сердечные капли. Принести? – спрашивал Антон, наклонившись к Ознобишину. Вспомнил имя-отчество. – Федор Кондратьевич, вы меня слышите? Это я, сын Марка Константиновича Клобукова.
У генерала в подглазьях дрогнули тени, ресницы с трудом открылись. Из-под очков на Антона смотрели слезящиеся глаза.
– А-а, – едва слышно протянул Ознобишин и слабо усмехнулся. – Узнал… Жалко, ваша матушка меня не видит… Когда прощались, она моим здоровьем интересовалась. Теперь она была бы довольна…
Антон выпрямился.
– Моя мать умерла, – сухо сказал он. – И отец тоже.
– Знаю… Скоро мы с ним свидимся. Доспорим…
Федор Кондратьевич откинулся затылком к стене, но глаз больше не закрывал.
– Вас зовут Антон, помню. На Марка похож…
– Знакомый, что ли? – встрял солдат. – Вот и ладно. Ты побудь с ним, товарищ, а я на проходную. Кум там у меня, Терёха Куцык. Может, чайку нальет. Как этот подоклемается, ты меня позови.
Взял винтовку, ушел.
Сердиться на человека в таком состоянии было невозможно. Антон снова спросил про лекарство. Но Ознобишин покачал головой:
– Капли не помогут. Это от изнеможения. Ночью не спал. Ни этой, ни прошлой. Караульные веселятся, скучно им. Каждые полчаса орут: «Превосходительства, подъем!» Строят камеру в шеренгу. Кто замешкается – прикладом.
Антон насупился. Он слышал про безобразия, что творятся в Трубецком бастионе. Многие арестованные жаловались. Караул там совсем разложился. Распускают руки, грубят, могут набросать в суп окурков или вообще оставить какую-то камеру без еды. Аркадий Львович писал жалобы коменданту Петропавловской крепости, а тот в ответ: ничего не могу поделать, они и меня не слушают.
– Не повезло вам с Петропавловкой, – посочувствовал Антон. – На Фурштатской, в бывшем Жандармском, гораздо лучше, все говорят.
Федор Кондратьевич скривил рот:
– Светочи справедливости… Чернышевские… На царские тюрьмы жаловались. Их бы в революционную. На недельку… – Но на язвительность сил у него не хватало. Глаза снова заволокло слезами. – Антон Маркович, голубчик, вы бы дали мне посидеть тут, в тепле. Там же еще холодно, так холодно. Мне бы хоть минут двадцать подремать…
– Конечно-конечно. Отдыхайте. Я, может быть… Вы посидите, вас здесь никто не обеспокоит.
Бедного старика было ужасно жалко. И не чужой все-таки, а из той, родительской жизни. Может, и получится для него что-нибудь сделать.
Невелика птица младший стенографист, но важна не должность, а место службы. Антон уже успел для себя открыть эту древнюю канцелярскую мудрость. Всякий сотрудник ЧСК для лиц, привлеченных к следствию и их родственников, – персона судьбоносная. За последние недели его, мальчишку, десятую спицу в колесе, бессчетное количество раз подлавливали в коридоре или на лестнице дамы с заплаканными лицами. Заискивали, униженно заглядывали в глаза, умоляюще простирали руки, пытались подкупать. Одна – жена министра! – даже встала на колени. Всем от него было что-то нужно: выяснить, выспросить, передать. Он уж и правила выработал: записок не брать, съестного тоже – лишь лекарства и, в качестве особого одолжения, фотокарточки. Что скрывать: когда миновала первая неловкость, Антону это даже стало нравиться. Всякому приятно проявлять великодушие и выслушивать слова искренней благодарности.
Но для знакомого человека можно было попытаться сделать и большее. Отчего не попробовать?
Отправился в караулку, к фельдфебелю Лабуденке.
– Отпечатал карточки? – накинулся тот.
Антон ему с важностью: не такое, мол, это простое дело. Надо пленку проявить, да хорошую бумагу достать. А еще можно красиво исполнить, на паспарту – как портрет получится. Лабуденко, как и следовало ожидать, загорелся.
– Ты уж, товарищ Клобуков, сделай в лучшем виде. За мной не пропадет.
Тут-то Антон и рассказал ему про знакомого старика-генерала, которому в Петропавловке совсем худо. Нельзя ли его как-нибудь на Фурштатскую? Ведь бывает же, что переводят. Вчера, например, не было автомобиля везти жандармского генерала с допроса в крепость, так подсадили в грузовик, что шел на Фурштатскую.
Лабуденко важно ответил:
– Ради тебя, товарищ Клобуков, я деда твоего не то что на Фурштатскую – могу и в Охранное отправить. Никто мне не указ. Запишу в журнале, что оказия случилась, а он у тебя, говоришь, хворый к тому же.
В подвале бывшего Охранного отделения на Мытнинской набережной устроили изолятор. Но камер там было только шесть, и все заняты. Попасть туда у арестованных считалось завидной долей, потому что с самого первого дня караул в бывшем логове сыска держали студенты, а это вам не солдатня.
– Разве там место освободилось?
– Ничего, – уверенно сказал фельдфебель. – Потеснятся. В обратку машина не поедет, охота им из-за одного человека туда-сюда бензин жечь. Только ты насчет портрета не подведи.
Обрадовался Антон ужасно. Поспешил назад к Ознобишину. Тот ожил. Тряс руку, благодарил со слезами на глазах. Сказал, что великодушием Антон Маркович пошел в отца. Тут уж и Антон растрогался.
На всякий случай довел старика прямо до автофургона с надписью «Д.А.Р.Г.» – эта машина, реквизированная из дворцового авторемонтного гаража, курсировала между всеми тремя следственными тюрьмами и Комиссией.
– Арестованного Ознобишина на Мытнинскую, – сказал сопровождающему Антон. – Глядите, гражданин унтер-офицер, не перепутайте.
– Когда я путал? – Унтер записал что-то в растрепанной тетради, лениво гоняя цигарку из угла в угол рта. – На Мытнинскую так на Мытнинскую.
– На Мытнинскую? В Охранное?
В первую секунду Филипп подумал – ослышался. Но поглядел на хитро-улыбчивую дядиволодину физиономию и сообразил: шутит. Захотелось ответить в масть, тоже шутейно.
– Щас. Только значок прицеплю. И удостоверению на лоб приклею.
Дядя Володя улыбаться перестал.
– Значок? – медленно повторил. – Удостоверение? Ты чего, Филька, – инвалид мозга? Дай-ка их сюда. Живенько!
Сбегал Филипп, достал из укромного места (в чуланчике, под половицей) служебную бляху и новенькое, не успевшее истрепаться удостоверение, где всё честь по чести: фотка, печать, подпись господина генерал-майора и должность – «стажер».
Картонку дядя Володя порвал на шестнадцать кусочков, чиркнул спичкой – запалил. Жетон (который так недолго довелось поносить, а предъявить во страх обывателям, отвернувши лацкан, вообще ни разу) своими толстыми сильными пальцами смял, потом еще каблуком сплющил, в непонятную лепеху, и только после этого зашвырнул через окошко на крышу сарая.
– Дура! – сказал. – Сам запалился бы – не жалко…
И хлестко смазал по щеке – чуть башка с шеи не соскочила.
– А ну, одевай чего похуже! Кепчонку, сапоги смазные и вон, что это на дровах у тебя валяется? Ватник? В самый раз будет. Живо, живо!
Потрогав горящую огнем щеку, Филипп быстро переоделся. На Мытнинскую? Как на Мытнинскую? Там же теперь флаги красные и революционеры с винтовками. Он издали, с Биржевого моста, видел – ближе подходить побоялся. Страшно на Мытнинскую, и главное зачем?
Но спорить с дядей Володей еще страшней. По морде в четверть силы – это пустяки. Зимой, когда Филипп объекта одного упустил, дядя Володя начальству рапорт писать не стал, сам наказал: пыром под дых, после по ушам ладонями (неделю в голове звенело), да носком штиблета по щиколке, а когда упал, еще и по копчику, по ребрам. Филипп извивался, выл, руками яйца прикрывал, а старшой бил, приговаривал: «Не позорь бригаду, не позорь! Почему упустил? Почему не взял?»
А как его было взять, когда у него «дура» в руке? Стажеру-то оружия не положено! Хотя дядя Володя, конечно, и без оружия взял бы.
Он был человек капитальный, каких на свете немного. Только таких людей и нужно слушать, только их и держаться. Это Филя сызмальства понял. У него и батя Степан Гаврилович Жуков был такой же – шагает, будто землю от себя отталкивает. Эх, батя, батя…
В глаза Филипп отца «батей» никогда не называл, только по имени и отчеству. Хотя у самого в метрике отчества никакого не было и фамилия значилась матернина, Бляхин, потому что у бати имелась своя семья, законная, но, слава богу, только дочки, а сын – Филя, единственный. Иначе, наверно, не приходил бы Степан Гаврилович к матери и раза в неделю, потому что на кой она ему нужна? Если по спальному делу, сыскал бы покраше и помоложе, он был мужчина видный: стать, рост, усы, портупея с шашкой, на фуражке герб тюремного ведомства – служил Степан Гаврилович старшим надзирателем в знаменитых «Крестах», которые именовал не иначе как гордым именем «Замок».
Жалованье у бати было хорошее. Были, как потом узнал Филя, и кроме того источники довольствия, поважнее казенного содержания: люди в «Крестах» сиживали разные, в том числе денежные, и всем что-то надо, чего по правилам не положено. Кто из надзирателей жадный и глупый, рано или поздно попадался и сгорал, но Степан Гаврилович меру знал и законы уважал – те, какие смысл имеют. А если закон глупый и обойти его невелико прегрешение, то зачем же человеку на хорошей должности от своей выгоды отказываться? Передать что-нибудь не сильно возбраняемое, свиданку устроить, продовольствие лишнее дозволить, поменять камеру сырую на теплую – мало ли возможностей, не зарываясь, свой кус ситного иметь, да с маслицем и колбаской?
Платил Степан Гаврилович мамке, чтоб не блудовала и за сыном хорошо доглядывала, по пятидесяти рублей в месяц, и ничего, на свою семью оставалось с избытком. Супруга у него чисто жила, дочки в гимназию ходили, держали Жуковы горничную и чухонку-повариху. Сам Филя там, правда, не бывал, потому что неприлично это – байстрюка в дом приводить, но знать знал, интересовался.
От своей жены батя не таился, не такой человек. Не скрывал, куда ходит со вторника на среду ночевать. Та ничего, терпела. Понимала: сын.
Во вторник с обеда мать Филю принаряжала, волосы расчесывала и мазала маслом, а если длинно отросли – стригла. Степан Гаврилович распущенности и непорядка очень не любил. Сильно мамка его боялась. От ухажеров, если появлялись, как от чумы, бегала. Потому Жуков, если что, сразу узнает.
Филя отца тоже трепетал, хотя тот никогда его пальцем не тронул. Требовал, чтоб сын учился только на «отлично» – так Филипп, пока ходил в четырехклассное, каждый урок наизусть вызубривал, слово в слово. Память у него от этого закалилась до невероятности (после на службе пригодилось).
Думал, если училище первым закончит, отдаст батя и его – ну, не в гимназию, так хоть в реальное. Выучишься на техника или даже инженера, будешь жить не в бревенчатом бараке на Лиговке, а по-господски. В детстве много мечталось о будущей прекрасной жизни.
Вышел он самым первым учеником, о чем бате с гордостью предъявил похвальную грамоту. Но Степан Гаврилович, внимательно прочитав златобуквенный документ, про дальнейшую учебу ничего не сказал, а сказал: «Ну коли ты с толком, поступай в службу. Старайся – в люди выведу».
От этих слов Филя обрадовался, про реальное жалеть и не подумал (будет мозги зубрежкой-то сушить), вообразил, будто всемогущий батя его, дурака тринадцатилетнего, враз на какую-нибудь видную должность определит.
Степан Гаврилович постановил ему идти мальчиком в трактир.
Трактир тоже назывался «Кресты» и находился аккурат напротив тюремного замка. Сюда приходили посидеть, выпить чайку и не только чайку служащие краснокирпичного заведения, чужих-посторонних здесь не привечали.
Без малого семь лет Филипп Бляхин в «Крестах» произрастал, дойдя от подметальщика в зале для рядового состава до официанта в отделении для господ классных чинов. Все им были довольны, потому что проворен, сметлив и не вороват. Предлагали даже в буфетчики – в неполные двадцать лет! Но батя не позволил. Ты мне, сказал, не за стойкой, а близ столов нужен.
Никто в трактире не знал, чей Филька сын, и говорили при нем свободно, про всякое. А Степан Гаврилович еще в самом начале наказал: слушай всё, о чем болтают, и после мне рассказывай, до последней мелочи. Что ж, память на грамматических и законобожественных учебниках навострённая – запомнить нетрудно. В конце дня Филя слово в слово отцу всё передавал. И не сразу стал понимать, сколько Степану Гавриловичу пользы от этой малой услуги. Люди в Замке служили непростые, каждый задним умом крепок, на чужие прибытки завистлив, собою неочевиден. Но всё равно ведь человеки – ремень распустят, ворот расстегнут, шкаликом-другим прослабятся и болтают. У всякого есть какой-никакой приятель или сотоварищ, рука руку моет. На мальчишку, что на полу пятно затирает или крошки смахивает, внимания не обращают. Иногда похвастают чем или начнут против кого-то сговариваться – а у Фили ушки на макушке.
Капитальный был ум у бати, ничего не скажешь. Далеко смотрел, верно просчитывал. От своего человечка, от крохотных его подслушек, не раз выходила Степану Гавриловичу совсем некрохотная выгода, а пару раз вовремя спознанная против него козня разваливалась от опережающего маневра.
Тюремные надзиратели публика хоть и денежная, но прижимистая. На чай давали скупо, но батя поставил сынка на свое собственное жалование и еще приплачивал, если узнавалось что-нибудь нужное. Главное же – от года к году Филя все больше чувствовал, что становится для Степана Гавриловича, повелителя его судьбы, нужным помощником. По субботам начали вдвоем обедать в ресторации, такой у них завелся обычай. Кушали в отдельном кабинете, часа по два, говорили. После третьей рюмки розовый батя любил перед сыном горизонты развернуть.
«Держава наша российская на таких, как я, стоит, – говорил. – Мы здесь костяк, соль и опора. За это нам уважение, защита и дозволение от службы прикармливаться – с совестью, конечно, стыд не теряя. Ты, Филька, не жалей, что я тебя дальше учиться не попустил. У нас шибко ученым доверия настоящего нету. Опять же в разумении прибытка. Ну был бы я, скажем, офицер или даже начальник Замка. Сидел бы на одном жалованье, дурак дураком. Да еще бумажки пиши, на репортации ездей, трясись – не проштрафиться бы, а то переведут, как нашего капитана Сусонова за арестантскую голодовку в Зерентуй, и не откажешься – служба. На кой мне ихние звездочки? Мне лычек довольно. А уважение и так есть. Мне вот его высокоблагородие особым ходатайством потомственное почетное гражданство добыл. Усердствуй, Филя, радуй папашу – и я тебя, может, узаконю. Будешь тоже потомственный почетный гражданин, и при отчестве – Степанович».
Однако, когда Филипп принял первое в своей жизни самостоятельное решение – поступить в Охранное, а там прочерк в графе не поставишь, то записался «Владимировичем». Степан Гаврилович тогда на сына крепко надулся за своевольство, на глаза показываться воспретил. Ну и ляд с ним. Сколько можно заради батиных прибылей молодой век губить в ожидании благодарностей? До морковкиного заговенья? А отчество Филипп – с позволения, конечно, – объявил в честь нового своего благодетеля.
Пухлый, улыбчивый дядя немолодых лет со сверкающей, будто костяной бильярдный шар, головою, повадился ходить в «Кресты» месяца за три до того. Был он общителен, водил знакомство с несколькими заслуженными надзирателями, но вина с ними никогда не пил, только чай, и тот слабый. Это уже потом узналось, что Владимир Иванович трезвенник и даже сыроядец. То-то он всё похрупывал репкой или чищеной луковичкой, которых в глубоких карманах у него водился неисчерпаемый запас. «Вот оно, здоровье, вот он, оберег от всех хвороб», – приговаривал. И верно, сколько Филипп его знал, дядя Володя ни разу не болел. Правда, и дух изо рта у него был тяжелый, от лука-то. Начальство ему за это пеняло, господин капитан Шелестов нос платочком прикрывал, но терпел, потому что специалиста-уличника лучше бригадного филера Слезкина не было во всем петроградском Охранном отделении.
В «Кресты», как позднее выяснилось, Владимир Иванович зачастил по одному сыскному делу, касавшемуся побега группы политических. Ну, то есть это они, анархисты, думали, что побег готовят, охранника подкупили и всё устроили, а на самом деле пристрелили их, всех троих, едва они через стену перелезли, на полном законном основании. Дядя Володя за эту операцию наградные получил и после хвастал, сколько он выгоды отечеству доставил: и опасных врагов государства обезвредил, и казне экономию обеспечил – ни на суд тратиться, ни на этапы.
Филя к непонятному завсегдатаю давно приглядывался. Любопытно: что за человек, зачем ходит, о чем с «крестовцами» шепчется? Но у дяди этого будто глаза были на лысом затылке. Как тихо ни подходи, вмиг замолкал, оборачивался, да только добродушно посмеивался.
А однажды, осенью было, вдруг подошел, когда Бляхин у себя в закутке стаканы мыл.
– Не надоело? – говорит. Голос уютный, славный такой. Взгляд мягкий.
Филя немножко перетрусил. Неужто сообразил тихоня этот, что парнишка-официант неспроста меж столов шныряет.
– О чем это вы, не пойму…
Круглолицый человек подмигнул.
– Не про папаню твоего. Отцу помогать – дело доброе. Я чего спрашиваю: не надоело такому ушлому грязную посуду таскать? Присмотрелся я к тебе, Бляхин, справочки навел. И хочу сделать интересное предложение…
Так и вышло, что в сентябре прошлого года оказался Филипп учеником филера и стал ходить на службу в известное всему городу здание на углу Александровского проспекта и Мытнинской набережной. Капитан Шелестов (вообще-то он титулярный советник был, но любил, чтоб по-военному называли) чутью Владимира Ивановича верил и взял парнишку почти без расспросов. Оглядел с головы до ног, кивнул: «Как есть дворняга. Ноги от таксы, лоб от мастифа, глазенки от добермана. Неприметный, жилистый. То, что надо. Беру тебя, Бляхин, с испытательным сроком. Учись пока, а там посмотрим».
Учиться ремеслу было интересно и с филипповой цепкостью нетрудно. Первым делом будущих филеров «натаскивали» – то есть обучали азам: наблюдательности и составлению словесного портрета. Тут никакой самостоятельности не дозволялось. Описывать объект наблюдения строго по порядку: пол, возраст, рост, телосложение, цвет волос, предположительная народность, наличие особых примет, во что одет. Лицо описывать сверху вниз: брюнет-шатен-блондин-рыжий-седой-лысый (а не «чернявый», «каштановый», «белобрысый», «плешивый» или еще как-то), форма носа, овал лица и прочее, и прочее. Рост и все расстояния в Охранном определялись не по старинке, а по-европейскому обычаю, на метры и сантиметры, никаких аршинов с вершками.
По всем этим премудростям Филипп шел в классе первым и был раньше всех допущен ко второму уровню, практическим занятиям. Здесь обучали маскировке, японской джиу-джитсу и французскому савату, стрельбе с обеих рук. Бляхин в первачах не ходил, но явил себя не хуже прочих. На третьем месяце был он выпущен на улицу и две недели проходил курс учебной слежки. Это когда кто-нибудь из опытных агентов изображает объект, который надобно «выявить», «выяснить» или «задержать» (тоже не просто слова, а термины – у каждого свой точный смысл). К примеру, «выявление» не предполагает никакого контакта с объектом или его окружением. Требуется просто установить, где человек проживает и что собою являет: подозрительный или так, случайно подвернулся. «Выяснение» посложнее. Это уже работа с установленным врагом, про которого нужно собрать все доступные сведения. Ну, «задержание» – понятно. До этого ответственного и опасного дела зеленых агентов вроде Филиппа, конечно, не допускали, однако все правила и приемы он был обязан знать. Мало ли что?
И когда дядя Володя взял Бляхина к себе в напарники, уже не на учебную, а на «боевую» слежку, с первого же раза пришлось одного агитатора брать в крутой залом. Ничего, не сплоховал Филя. Держал гада крепко за ноги, пока Слезкин руки вязал. Получил потом благодарность в приказе и пять рублей наградных. Вроде немного, а приятно.
Правда, вскоре – это когда Филипп во дворе за Казанской улицей человека с «браунингом» упустил – дядя Володя помимо того, что бока намял, еще и оштрафовал на ту же пятерку. Но были после еще премиальные, а за битого, известно, двух небитых дают.
Нравилась Бляхину служба – не сказать как. Во-первых, давала освобождение от военного призыва, а уж и возраст подошел. Во-вторых, очень это приятно – глядеть на телятину обывательскую и знать: я над вами досматривать поставлен, мне от власти доверие. В-третьих, обрисовывалась перед Филиппом прямая и ясная дорога, светлое будущее. Думал, выйдет из стажеров в младшие филеры, потом в старшие, а лет через пять-десять и в бригадные, как дядя Володя. Учебы Бляхин не боялся, ибо знал: чего умом не возьмешь, зубрежом одолеешь. При хорошем от начальства отношении и примерном формуляре можно экзамен на классный чин сдать. А выйдешь в чиновники, да по охранному делу – тогда и горизонт тебе не преграда.
Уверен был, что держит жар-птицу за хвост. Но подвела птица. Обожгла пальцы огненными перьями, хлестнула по харе пламенем – еле жив остался. Кто б мог вообразить, что гранитный, чугунный, бронированный, на тыщу лет сооруженный чертог с гордым именем «Империя» рухнет, будто трухлявый сарай, передавив верных своих сторожей.
Батю Степана Гавриловича, царствие небесное, лихие люди, шпана уголовная, забили железными ломами и лопатами во время разгрома «Крестов», вкупе с еще несколькими надзирателями, кто никак поверить не мог, что закону настал конец, да не сбежал вовремя. Так и не довелось Филе замириться с родителем, получить его отеческое прощение.
Он и сам-то 27 февраля, в черный день, еле ноги унес.
С утра собрали всех на Мытнинской. Ожидалось, что беспорядки, разразившиеся по всему городу, будут подавлены силой оружия, и тогда начнется у сотрудников самая работа: хватать зачинщиков и агитаторов, пока не забились по щелям.
Но заполдень стало ясно, что войска по толпе стрелять не будут, и как-то сделалось тошновато. По телефону сообщили, что окружной суд и сыскная полиция разгромлены. Гвардейская полурота, которую генерал Глобачев вызвал для охраны своего важного учреждения, вела себя погано: офицеры куда-то подевались, а солдаты поглядывали на окна недобро, некоторые плевали и кулаком грозили. Начальник от греха отправил гвардейцев назад, в казарму. В пятом часу прибежали наблюдатели, поставленные со стороны Александровского. Большущая толпа раздербанила там спиртоочистительный завод и, пьяная, шумная, двинулась к Охранному.
– Двери запереть! Расходиться поодиночке! – приказал тогда господин генерал.
Ну, все и кинулись – кто куда. Бляхин, когда дворами бежал, из окна откуда-то засвистели, крикнули: «Держи легавого!» Страшно было.