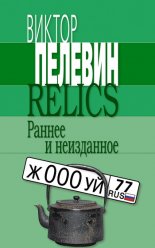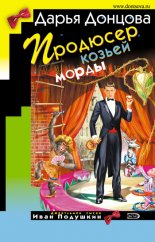Девятный Спас Брусникин Анатолий
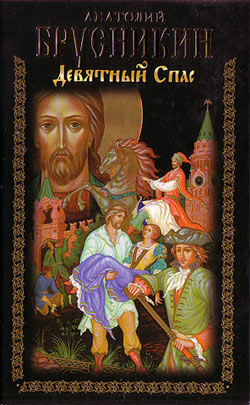
– Слазь с телеги!
– Гляньте, парни, немец!
Тати лесные! У двоих топоры, третий с дубиной. Рож по темноте не разглядеть, но мужики здоровенные, дикие, пахнут травой и дымом.
– Лежи, я сам! – прикрикнул Алеша на приподнявшегося Митьшу. – А ну, господа разбойнички, налетай, хошь под одному, хошь все разом!
Он спрыгнул наземь, взяв позитуру «Уноконтротре», сиречь «Один супротив троих» в вариации «Фачиле» – это когда противники наступают в ряд, с одной линии, и притом неискусны в сражении.
Размяться после долгого сиденья было небесприятно.
– Эх, Ерема, сидел бы ты дома. Ох, Петруха, быть те без уха, – балагурил маэстро, наскакивая на мужиков, никак не ожидавших от «немца» такой прыти.
Один завыл, уронив топор, – клинок плашмя ударил по запястью. Другой, попусту махнув дубиной, получил укол в ухо и зажал лапой кровоточащую рану. Третий попятился на обочину.
– Бросай топор, насквозь проткну! – пригрозил Алеша.
Тать сунул свое глупое оружие за пояс, сказал жалобно:
– Наскрозь? Живую душу хрестьянскую? Убивец!
И всех троих будто метлой смело. Растаяли в лесу, как их и не было.
– Россия-матушка! – счастливым голосом протянул разогревшийся кавалер ди-Гарда. – Разбойник, и тот о душе печалуется! Хорошо-то как, Митьша, а?
Но Мите не было хорошо. На смену жару пришел озноб. Беднягу трясло и било так, что зуб на зуб не попадал.
Триумфатор помрачнел. Навалил на больного все тряпье, какое было в телеге, еще и с себя камзол снял. Сдернул парик, сунул Дмитрию под голову вместо подушки.
– Нно, пошла, пошла!
Надо было торопиться.
Ларион Михайлович Никитин, владетель сельца Аникеева, все еще не ложился, не взирая на поздний час. Или ранний? Дело шло к рассвету.
На столе догорала уже шестая свеча. Гусиное перо неторопливо выводило по коричневатой бумаге буквицы полуустава. Лицо помещика было задумчиво и печально.
За минувшие девять лет Митьшин отец сильно постарел. Ему шло к пятидесяти – по тем временам почтенный возраст. В светло-русых волосах проседь была не очень заметна, но усы и борода стали почти сплошь белыми, посередь чела легла глубокая морщина, какие обычно украшают в старости лбы философов и мыслителей, однако глаза у дворянина были ясны, спина пряма, зубы белы.
Все эти годы он жил точно так же, как живали его предки. Бытье помещика измерялось не календарем, а севом, косьбой, сбором урожая. Годы делились на тощие и тучные. В старину по иссякшей молодости не вздыхали, а наступления старости не страшились, ибо чем золотая осень хуже зеленой весны? Один возраст приходил на смену другому естественно и без сожаления.
От своего друга священника Ларион Михайлович унаследовал обширную библиотеку (тогда говорили «вивлиофеку»), и одинокими, протяжными вечерами приохотился к чтению. Потом, понемногу вступив в пору зрелости, которая даже у склонных к мудрости мужчин начинается не ранее сорокапятилетия, он захотел и сам, по примеру достославных Плутарха, Сенеки иль Осипа Флавия, оставить потомству воспоминание о своей жизни, то есть воплотить несбывшуюся мечту покойного отца Викентия.
Чем может смертный человек, когда обратится в ничто, продлить свою жизнь в веках?
Потомством, ответят многие. Но то будет жизнь сыновей и внуков, а не Лариона Никитина.
Деяниями? Однако любой поступок подобен семени, из коего еще неизвестно, что произрастет, – на добро иль на худо. К тому ж о твоих деяниях люди будут судить по-своему, не понимая твоих побуждений и перевирая их. Оттого Ларион Михайлович не жалел, что не выпало на его долю больших свершений. Что они? Тлен и тщета. То ль события, свершаемые в человечьей душе. Только они Богу истинно важны. Кто сумел себя победить, то победил Зло во всем мире. В этом с годами Никитин-старший все более уверялся.
Самый надежный способ свою настоящую , то есть умственно-духовную жизнь донести до потомства – изложить, что думаешь и что чувствуешь, на бумаге. Минуй хоть сто лет, хоть двести, но возьмет неведомый послежитель исписанные тобою листки, смахнет с них вековую пыль и услышит твой голос. Предстанешь перед сим далеким чтецом, как живой. И даже лучше, чем живой, ибо будешь лишен всего примесного, суетного. Деятелей-то в гиштории было много, даже чересчур, а мужей здравомыслящих и складно пишущих – всего горстка.
Название своему труду помещик придумал очень хорошее: «Записки Лариона Никитина для пользы сына». Недерзкое. Мол, если никому другому сия писанина не сгодится, так хоть сын родной пользу найдет.
Умный человек отличен от глупца тем, что умеет учиться на чужих ошибках. А Димитрий, слава Господу, вырос не дурак. Слишком прям, негибок, что для выживания большая трудность, но такова уж вся их порода. Никитины испокон веку гнуться не умели.
Нынешней ночью Ларион Михайлович как раз про это писал, много раз обдуманное, выстраданное. Глава называлась «О гибкости и негибкости». Предостерегая обо всех опасностях негибкости – сына, а вместе с ним и прочих юных дворян, кто когда-нибудь прочтет наставление, – сочинитель вместе с тем призывал не отклоняться от драгоценного этого качества.
«Мiр русский подобен плетню, да не посмейся над сим низменным сравнением, – выводила твердая рука помещика. – Огоражен сим плетнем дивный вертоград, имя коему – Россия. Колья в плетне – дворянство; прутья сплетенные – простой народ, крестьяне да посадские; царское величество и государство – врата, которые что надо впустят, а что надо выпустят; вера с церковью – дивноцветные вьюны, коими увита сия изгородь, ибо без веры и радости зачем все на свете и нужно бы?
Гибкость назначена прутьям, и вьюнам, кольям же пагубна. Согнись они, и вся ограда упадет. Будь крепок, сын мой. Хоть сломайся, да не гнись. Слушай Бога и совесть, служи отечеству. Не уподобляйся таким, кто пред троном пресмыкается, подачек выпрашивает. То не истинные дворяне, то дворня. Богатства не желай, дворянину быть слишком богатым стыдно и вред. Нега с роскошью нам враги. Имей довольно, чтоб достойно несть родовое имя, чтоб конь был хорош и оружье доброе, чтоб холопы твои с голоду не помирали, сверх же сего злата-серебра не скапливай».
Дописал до этого места и забеспокоился, оборотил взор за окно.
«Ах, сыне, сыне, тому ль тебя учу? Да и кто я таков, чтоб поучать? Многого ль в жизни достиг? Прав я, аль нет?» – вопросил Ларион Михайлович тьму за окном.
И тьма не замедлила с ответом.
Из нее в оконницу всунулась чудная башка: по кудрям судить – девка-простоволоска растрепанная, однако с усишками и с дерзновенною рожею.
Бес, бес, закрестился помещик, но башка разинула рот и молвила:
– Ларион Михалыч! Я это, Алешка, попа Викентия сын. Митрия привез. Выдь-ста тихо, чтоб не видал никто…
Мудрейшими и достойнейшими из сочинителей древности Ларион Михайлович почитал еллинских стоиков, от имени которых произошло одно из лучших на свете слов: «стойкость». Твердость духа, неколебимая никакими испытаниями и потрясениями, – вот образец, коему аникеевский философ решился следовать и, как ему казалось, преуспел в осуществлении своего намерения.
Однако, увидев страшно распухшие плечи, ободранные веревкой запястья и рассеченную спину любимого сына, помещик стоиком себя, увы, не показал. Он вскрикивал, охал, обливался слезами и бесполезно суетился – одним словом, вел себя не подобно неустрашимому Зенону иль холоднокровному Епиктету, а так, как обыкновенно ведут себя родители, зря свое чадо в терзании и муке.
Клацающий зубами Митьша, желая ободрить тятю, попробовал шутить:
– Говорят, иные, кого на дыбу подвесят, проворачиваются плечьми, суставов себе не ломая. А я для пытошного дела плохо годен оказался. Негибок!
Услышав сие последнее слово, отец в ужасе сжался и вдруг кинулся из горницы вон.
– Что это он? – удивился Алеша, осторожно ведя друга к лавке.
А Ларион Михалович, вот что: ворвался в свою письмовенную келью (слово «кабинет» тогда еще только начинало входить в употребление), схватил недописанный трактат и, страница за страницей, стал кидать его в печное жерло.
Тем временем в горнице происходило прощанье. Старые товарищи, не видавшиеся девять лет, расставались вновь – Бог знает на какой срок. Очень возможно, что теперь уж навсегда.
Пока Дмитрий, закрыв глаза, кое-как переводил дух на лавке (он и сесть-то толком не мог, ведь ни спиной к стене не прислонишься, ни боком), Алеша склонился над столом и быстро писал. Бумага, чернильницы и перья у Лариона Михайловича были заготовлены во всех комнатах, ибо вдохновение могло посетить сочинителя в любое время и в любом месте.
– Пусть мне свежего коня дадут, – сказал попович, посыпав листок песком. – Через три, много четыре часа должно мне в казарме быть. А тебе, заговорщик, тут долго нельзя оставаться. Где отлеживаться будешь?
– Отец придумает, – слабым голосом ответил Митьша.
– Чуть окрепнешь, надо уезжать от Москвы подале и наподоле. Вот тебе письмо к одному человеку в Малороссии. Коли жив, верно, вспомнит Лешку-попенка. Я его когда-то выручил, а казаки доброе долго помнят… Ну, а коли помер…
Он пожал плечами, и Дмитрий договорил за него универсальную максиму того времени, дававшую нашим предкам утешение в любой ситуации:
– На все воля Божья.
Алеша подошел, обнял друга. Постарался некрепко, но Митя все равно охнул.
– Спаси тебя Господь, Митьша.
– Спас уже, через тебя. Не знал я, что ангелы-спасители конопатые бывают.
Друзья были еще очень молоды, а юность расставаний не боится. Засмеялись оба – и Алексей, тряхнув своим кудрявым париком, вышел вон.
А в письмовенной келье всхлипывающий Ларион Никитин все кидал в жадное пламя скомканные листы своего ядоопасного для юношества труда.
Глава 3
ОТЕЦКОЕ СЕРДЦЕ
Если бы сердце того видеть можно,
Видно б, сколь злобна мысль, хоть мнятся правы
Того поступки, и сколь осторожно
Свои таит нравы.
А. Кантемир
«Ах, отецкое сердце, ты подобно замочной скважине, посредством которой отпирается неприступнейшая из дверей, – так говорил себе всадник, етевший размашистой рысью по размокшей осенней дороге. – Еще тебя можно сравнить с щелью в латном доспехе, куда единственно может проникнуть каленая стрела!» Сравнение с уязвимой пятой Ахиллесовой, далее пришедшее на ум ездоку, было им отвергнуто, как неуместное: ибо, где сердце и где пята?
Девять лет, один месяц и четыре дня миновало с тех пор, как Автоном Зеркалов последний раз видел единственного своего сына. Поглядел тогда на крошечного младенца с сиреневыми глазами, проглотил комок в горле и отправился на большое дело, с которого должен был вскоре вернуться виктором и лавреатом, однако претерпел жестокую конфузию и был брошен Роком на каменистый путь протяженностью в долгие годы и многие тысячи верст.
Причудливая эта юдоль завела бывшего стольника сначала в полунощные края, потом в закатные страны и лишь ныне, обожженным да заматеревшим, возвращала туда, куда каждый день просилось бедное сердце.
Слезно восклицать и аллегоризировать было вовсе не в характере Автонома Львовича, однако и у стального человека имеется душа, которая, сколько ее в панцырь ни загоняй, все равно живая, а значит рано иль поздно пробьется родничком, прорастет травинкой. Очень уж тяжко дались Зеркалову последние недели, тяжелее, чем все предшественные годы. Сын был совсем близко, в подмосковной Клюевке, но вырваться туда нечего было и думать: работы невпроворот, а князь-кесарь крутенек, от дел ни на день, ни на пол-дня не отпускает.