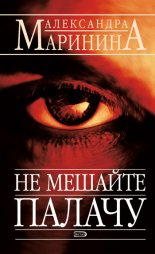Воющие псы одиночества Маринина Александра

– Ты уже взрослая, и если ты мне врешь, то, вероятно, у тебя есть на это веские причины, и вполне возможно, причины даже уважительные, поэтому я не в претензии. Но, пожалуйста, в следующий раз, когда соберешься меня обманывать, делай это как-нибудь… половчее, что ли, поизящнее. А то, когда меня пытаются провести на такой дешевой мякине, я начинаю думать, что ты считаешь меня полной идиоткой, которую можно обмануть за три копейки. Согласись, это не очень приятно.
– Я не обманываю, тетя Настя… – залепетала девушка. – Мне правда для курсовой…
Настя не стала слушать эти глупости и мягко оборвала ее:
– Лиля, я могу считать, что мы договорились? Ты мне врешь, и я это отлично понимаю. Просто имей в виду на будущее, что вранье надо заранее обдумывать и выстраивать, чтобы не оказаться в глупом положении, особенно когда имеешь дело с людьми старше себя. Все, дорогая, целую страстно, папе и тете Тане передавай привет.
Она бросила трубку на стол и вернулась к изнурительному труду по изготовлению салата. Чистяков, оторвавшись от пасьянса, с любопытством прислушивался к ее разговору с Лилей.
– Аська, а почему ты решила, что она врет? – спросил он. – Может, ты зря на ребенка наехала?
– Ну прямо-таки! – фыркнула Настя и тут же чуть не порезалась. – Вот черт, кусок ногтя отстригла. Леш, дай свои очки на минутку, надо эту расчлененку из салата извлечь, а у меня уже глазки слабенькие.
Он протянул ей очки. Настя нацепила их на нос и осторожно вытащила из кучки нарезанной зелени кусочек ногтя.
– И вдаль не вижу, и вблизи не вижу, – пожаловалась она, возвращая Леше очки. – Это что получается, близорукость вместе с дальнозоркостью, что ли?
– Именно так и получается, – кивнул он. – Типичное возрастное явление.
– Если ты еще раз напомнишь мне о моем возрасте, – угрожающим тоном начала она.
– То ты меня убьешь, – тут же подхватил Чистяков, – и тогда тебе придется до самой смерти готовить себе еду самой, а так тебе предстоит промучиться всего два с половиной месяца. Никогда не поверю, чтобы ты с твоим аналитическим мышлением не понимала, что выгодней. Кстати, ты мне насчет Лильки не ответила. Почему ты уверена, что она тебя обманывала?
– Потому что всего месяц назад она брала у меня книги по теории государства и права. И ей неизвестно одно из основных понятий уголовного права – понятие невменяемости.
– И что? – не понял он.
– Леш, я, конечно, по твоим представлениям, глубокая старуха, о чем ты не забываешь мне регулярно напоминать, и в университете я училась в прошлом веке, но все-таки это было не сто пятьдесят лет назад, и кое-что я еще помню. Нет и не может быть такого учебного плана в нормальном вузе, по которому теория права преподается одновременно с криминологией. Сейчас она изучает теорию и прочие основополагающие дисциплины вроде истории государства и права, философии, истории политических учений, потом пойдут конкретные отрасли права, причем сначала конституционное, государственное, а уж потом уголовное, которого она явно еще и не нюхала, а только потом настанет очередь криминологии. А Лилька мне на голубом глазу заявляет, что пишет курсовик именно по криминологии. Да она его писать сможет не раньше, чем через два года. И по-твоему, я должна это скушать?
– Не должна, – согласился муж. – А почему же она врет?
– Да бог ее знает, – Настя махнула рукой, при этом с широкого лезвия ножа соскользнула долька помидора и шмякнулась на пол. – В этом возрасте все врут. У них какая-то искаженная картина мира в голове, и им кажется, что нам, заплесневелой ветоши, правду говорить ну никак нельзя, потому что мы, ветошь плесневелая, все равно ничего в жизни не понимаем, а уж в их жизни – в особенности.
С тяжким вздохом, держась за поясницу и изображая непереносимые мучения, она наклонилась, чтобы поднять прыткий овощ, не желающий оказаться съеденным, и выбросить в мусорное ведро.
– Ты видишь, Чистяков, от меня в хозяйстве одни убытки, я половину продуктов роняю на пол, и их приходится выбрасывать, а в другую половину настригаю части своего нежного организма. Может, переменишь решение, а?
– Ни за что, – отрезал Алексей. – Настоящие мужчины от своих решений не отступают.
С салатом Настя худо-бедно справилась, присмотреть за мясом Чистяков снисходительно помог, давая попутно разъяснения и советы, которые она старалась запомнить с первого раза, и в целом ужин получился очень даже славным.
Если бы не Коротков…
Он все-таки позвонил, причем именно в тот момент, когда Настя, пребывая в эйфории от вкусной и почти собственноручно приготовленной еды, утратила бдительность и сама взяла трубку, услышав звонок.
– Ну, ты как? – осторожно начал он.
– Нормально, – бодренько ответила она.
– Чего делала в первый день отпуска? Валялась с книжкой?
– Ездила на кафедру, общалась с научным руководителем. Наслушалась всяких кошмаров и страшилок.
– Слышь, Ася, а у нас, похоже, серия намечается…
– Ничего не знаю! – отрезала она.
Но хитрый Коротков сделал вид, что не услышал, и неторопливо продолжал:
– Помнишь, в середине марта был труп в Печатниках? Я сегодня сводку смотрел, появился еще один, очень похожий.
– Юра, мы же договорились, – умоляюще произнесла она. – Ну будь ты человеком, пожалуйста.
– Ну давай я тебе хоть расскажу, – не отставал Коротков.
– Я ничего не хочу слушать. Я в отпуске. В длинном. Сначала в очередном, потом в учебном. На два с половиной месяца. Мне нужно позаботиться о своем будущем, потому что ни ты, ни кто-либо другой за меня этого не сделает. Ты в состоянии это понять?
– В состоянии, – угрюмо пробормотал Коротков. – Значит, нет?
– Нет.
– Твердо? Окончательно?
– Твердо и окончательно.
– Аська, а ведь я твой друг. Неужели не поможешь? Что, двадцать лет дружбы – псу под хвост?
– Юра, я тоже твой друг. Неужели ты не можешь войти в мое положение и мне помочь? И насчет пса с хвостом я могу сказать тебе в точности то же самое.
– Ну ладно, мать, извини, что побеспокоил. Но просто так звонить можно?
– Просто так – можно, – разрешила она.
Ужин, конечно, получился вкусным, но после разговора с Коротковым Насте отчего-то показалось, что еда горчит. И вообще было как-то… неприятно, что ли. Тяжело на душе. Одним словом, остался противный такой осадок, испортивший остаток вечера.
– Куда ты собираешься?
А голос-то, голос! Ну прямо надзирательница или какая-нибудь классная дама из пансиона для благородных девиц. И праведное негодование в этом голосе, и презрение, и уверенность в том, что не ответить Аля не посмеет, и одновременно уверенность в том, что тетка наверняка скажет неправду.
– А ты считаешь возможным задавать мне такие вопросы? – спросила она, чуть улыбнувшись и продолжая натягивать шелковистые колготки. – Более того, ты считаешь возможным входить ко мне, когда я одеваюсь?
– Судя по тому, как ты одеваешься, ты опять собралась на свою позорную случку! – фыркнула Дина. – Как ты можешь? Нет, я не понимаю, как ты можешь! Он моложе тебя, он тебе в сыновья годится. Неужели тебе не стыдно?
Аля оглядела себя в зеркале, провела ладонями по узким бедрам, открыла шкаф, достала облегающую трикотажную юбку средней длины; таких юбок у нее было по меньшей мере пять или шесть, в них ей было удобно водить машину. Длинные узкие юбки стесняли движения, а юбки покороче, но другой конфигурации, не такие, как выражается племянница, «в вызывающую облипочку», Элеонора не любила еще с юности, и все эти клеши, плиссе и гофре прошли мимо нее. Она всю жизнь носила только прямое и узкое, благо фигура позволяла.
Дина стояла в дверном проеме, облаченная в обычный свой балахон, на сей раз оранжевый с коричневыми пятнами и разводами, но, слава богу, без свечи. И говорила она с теткой нормальным голосом, без подвываний и специфических модуляций, призванных нагонять таинственность.
Аля невольно вспомнила недавний свой страх перед девушкой, которая показалась ей тогда самой настоящей сумасшедшей. Нет, сегодня она была обычной, никаких признаков безумия в ней не наблюдалось. Да, она хамит, она неподобающим образом разговаривает с сестрой отца, которая чуть ли не в три раза старше ее самой, да и с отцом тоже, она сует нос не в свое дело, но это – всего лишь особенность характера и дефекты воспитания, а отнюдь не признаки безумия.
– Диночка, я не собираюсь обсуждать с тобой свою личную жизнь, – спокойно произнесла Аля. – Я говорила тебе об этом неоднократно. Ты не производишь впечатления тупой девицы, которой надо все повторять по десять раз. Так в чем же дело?
– Это не личная жизнь, а сексуальная. Половая, если хочешь. Это неприлично.
О господи, как она устала от всего этого! Три года, как с ними нет Веры, и за эти три года Дина выжала из своей тетки все соки, выпила из нее весь запас долготерпения и сострадания. Осталось только понимание. И еще любовь. Аля любила племянницу, и Ярослава, Славика, младшего брата Дины, она любила, и их отца, своего брата Андрея, она тоже любила. Но если с Андрюшей и Славиком проблем не было никогда и никаких, то Дина – это что-то! Аля давно уже поставила бы девчонку на место раз и навсегда, но удерживало понимание. Да, она не только любила Дину, но и понимала, почему она так себя ведет. Конечно, для Элеоноры Николаевны Лозинцевой понимание вовсе не означало прощения, но помогало сдерживаться и не реагировать на выходки Дины слишком уж бурно. Вместо повышенного тона и резких требований «заткнуться и не лезть», она прибегала к аргументам, рассуждениям и всему прочему арсеналу, позволяющему снизить накал конфликта.
– Кто тебе сказал, что половая жизнь – это неприлично? – осведомилась Аля, открывая по очереди тюбики губной помады и прикидывая, какой цвет наилучшим образом будет сочетаться с бежевым шерстяным джемпером. – И кто тебе сказал, что термин «половая жизнь» более неприличен, чем «сексуальная»? Они обозначают одно и то же. И оба относятся к нормативной лексике.
Она остановила наконец свой выбор на цвете, обозначенном на тюбике, как «ранняя осень», накрасила губы, нанесла тонкий слой пудры, провела щеткой по волосам. Все. Она готова.
– И чтобы ты могла спокойно уснуть, довожу до твоего сведения, что я еду не к любовнику, а к бабушке, – сообщила она с улыбкой, отодвигая Дину и выходя из своей комнаты в прихожую.
– К бабушке? В десять вечера? – недоверчиво протянула девушка.
– У бабушки бессонница, она раньше трех часов ночи не засыпает, и тебе прекрасно это известно.
– А если я через полчаса позвоню бабушке и проверю?
– Твоя воля, – пожала плечами Элеонора и направилась на кухню, выполняющую в их квартире функцию общей гостиной.
Они живут вчетвером – Андрей, девятнадцатилетняя Дина, шестнадцатилетний Славик и она, Аля, – у каждого своя комната, а всего комнат четыре. Да и зачем им общая гостиная? Все равно в этой семье не принято собираться всем вместе, и едят все в разное время, и в каждой комнате есть отдельный телевизор. И вообще жизнь у каждого своя. А Аля в этой семье выполняет функцию домработницы, если уж называть вещи своими именами.
Андрей на кухне пил чай и читал какой-то бизнес-журнал.
– Андрюша, я еду к маме. Ты, кажется, хотел ей что-то передать?
Брат встрепенулся, отложил журнал, потянулся к стоящему под столом кожаному портфелю. Всю жизнь Аля умилялась этой его смешной привычке: не оставлять портфель в прихожей, не уносить сразу к себе в комнату, а ставить под ноги в кухне. Так было и со школьным ранцем, и с модными студенческими сумками, набитыми книгами и конспектами, и с «дипломатами», и с дорогими кожаными изделиями, пришедшими несколько лет назад на смену ширпотребу. Надо же, ее брат из долговязого Андрюшки, к которому в детстве благодаря баскетбольному росту прилипло прозвище Дядя Степа, превратился в начальника отдела крупного банка Андрея Николаевича Лозинцева, а привычка так и осталась…
Он вытащил из портфеля и протянул сестре две видеокассеты.
– Вот, возьми, мама хотела посмотреть ремейк фильма «Лев зимой», который сделал Кончаловский, и сравнить с первой версией, где играла Кэтрин Хепберн. Я достал ей оба варианта.
Аля взяла кассеты, сложила в пакет – в сумочку они не поместятся.
Протянула руку, запустила пальцы в густую шевелюру Андрея, слегка потянула – это тоже из их детства: жест, которым они выражали нежность друг к другу. Правда, пока Андрей был совсем маленьким, он мог только тихонько дергать старшую сестру за пряди, а когда подрос, жесты у обоих стали совершенно одинаковыми, тем более что был он мальчишкой на редкость высоким, а Аля, наоборот, росточком не вышла, и несмотря на разницу в двенадцать лет, он уже к десяти годам мог свободно класть руку ей, двадцатидвухлетней, на голову.
– Устаешь ты с нами, Элечка? – виновато не то спросил, не то констатировал Андрей. – Свалились мы на твою голову… Никакой жизни у тебя с нами нет.
– Да глупости, Андрюшик, – ласково ответила она, – у меня все в порядке, и жизнь у меня нормальная. И даже в некотором смысле личная, – не удержалась Аля от усмешки.
– Достает тебя Динка, – вздохнул он. – Я же все слышу. Спасибо тебе, что не срываешься, терпишь. Ей ведь тяжелее всех приходится.
– Я понимаю. Славик придет с тренировки, разогрей ему жаркое, оно в кастрюле на плите. Ну, я пошла?
– Будь осторожна, ладно?
И это тоже было традицией, появившейся много лет назад. Высоченный Андрей с того самого момента, как перерос сестру на первые пять сантиметров, стал воспринимать ее как крошку-малышку, которую любой может обидеть. И уже лет с двенадцати просил ее быть осторожной каждый раз, когда та выходила из дома. Но что самое удивительное, Элеоноре никогда не приходило в голову, что это смешно. Просто братишка любит ее и таким способом проявляет свою любовь, что же в этом может быть смешного?
– Ладно, – абсолютно серьезно ответила она, – я буду осторожна.
– И позвони, как только доедешь до мамы.
– Хорошо, позвоню.
– И когда будешь выезжать от нее, тоже позвони.
– Андрюша, ты в это время уже будешь спать. Я поеду уже за полночь, дороги будут свободными, ну что со мной может случиться? Я езжу очень аккуратно, ты же знаешь.
– Вот как раз за полночь по дорогам гоняют пьяные, – упрямился брат. – Элечка, ну когда ты ездишь поздно вечером по личным делам, это я могу понять. Но неужели к маме тоже обязательно ездить на ночь глядя?
И этот разговор тоже стал традиционным, правда, традиция такая появилась всего пару лет назад. У Элеоноры мелькнула мысль о том, что вся ее жизнь состоит из одних традиций. Ну, почти вся. Она собиралась поговорить с братом о Дине, о странностях в ее поведении, перешедших границы нормы и приближающихся к явной патологии, но все что-то мешало, не давало ей начать разговор. И в эту самую минуту она поняла, что именно: сначала она поговорит об этом с мамой. Так было всегда, так Аля привыкла поступать с детства: все, что так или иначе касалось Андрюши, сначала обсуждалось с родителями и только потом – с ним самим, и лишь при условии, что родители давали добро на такой разговор.
– Днем я просто не успеваю, – спокойно сказала Аля. – У нас с мамой бессонница, это наследственное, я засыпаю только под утро и сплю почти до двенадцати, а то и дольше. Потом начинаются стирка, уборка, магазины, готовка, иногда и по своей работе надо что-то поделать… А маме в радость, если я приеду вечером, ночное одиночество – оно самое тяжкое.
Перед уходом она заглянула в комнату брата, открыла шкаф, проверила костюмы, сорочки, ботинки. Черный костюм для официальных мероприятий еще хорош, Андрей редко его надевает, вот эти два – относительно новые и в прекрасном состоянии, а вот этот, летний, светло-серый, шелковый, уже никуда не годится. Через два месяца лето, нужно позаботиться о легком костюме заранее, это ведь не так просто – пошел и купил, надо созваниваться с закройщиком, искать ткань, шить, или, как говорят профессионалы, «строить». С ботинками та же история, летнюю обувь надо проверять уже сейчас. И с сорочками. А как иначе, если у Андрюши рост два метра семь сантиметров и размер ноги сорок девятый? Все только на заказ. Уже и со Славиком проблемы начинаются, в нем метр девяносто восемь, но он пока еще носит такую одежду, которую можно покупать без примерки, – джинсы, майки, свитера, кроссовки, и все это периодически привозится из США либо самим Андреем, либо его знакомыми, а спортивная одежда для баскетболистов и в России есть.
Аля сделала себе мысленную заметочку насчет портного и обувщика для брата и стала одеваться в прихожей. Дверь в комнату Дины была чуть приоткрыта, оттуда доносилась негромкая музыка, жанровую принадлежность которой Элеонора затруднилась бы определить: не то что-то спиритическое, не то эзотерическое, не то мистическое. Не удержалась, подошла ближе, заглянула – никаких свечей, никаких ритуальных предметов, магических кругов и стеклянных пирамидок. Обычная комната обычной девушки, которая сидит себе на диване в свободном домашнем платье, поджав ноги, и читает книжку. Вот только музыка… но это, в конце концов, вопрос вкуса, не более того. У Али музыкальные вкусы старомодные, все, что появилось за последние пятнадцать лет, она не приемлет, так что, может быть, и музыка вполне нормальная, просто она не разбирается.
Вечерняя Москва – это не ночная Москва, это совсем-совсем другой город, и его Элеонора Николаевна Лозинцева тоже любила, уже за одно то любила, что он совсем не был похож ни на город утренний, сонный и свежий, ни на дневной, суетливый и бестолковый. В вечерней Москве не было бестолковости, в ней все было расписано и четко, все слои двигались в понятном порядке и в прогнозируемом направлении. Из театров. Из ресторанов. В ночные клубы и казино. Со свиданий. В бордели. Из гостей. На тусовки, как богемные, так и полукриминальные. Дорога к дому матери шла по Чистопрудному бульвару, и иногда, под настроение, Аля позволяла себе припарковать машину возле метро и пройтись от памятника Грибоедову до пруда, постоять минут десять, выкурить одну сигарету (дома она не курила, Андрей не выносил запаха табачного дыма) и вернуться к автомобилю. Вечером здесь образуется особый мир, свой, непонятный и загадочный, мир наркоманов и тех, кто хочет быть на них похожими, мир молодых людей, которые сидят исключительно на спинках скамеек, поставив ноги на сиденья, мир девушек с выбеленными лицами и вычерненными волосами и молодых людей, с делано деловитым видом переходящих от одной компании к другой и создающих самим себе иллюзию занятости, нужности и вообще активности. Мир этот источал опасность, и если в семь-восемь вечера эта опасность еле-еле витала в воздухе, то к десяти-одиннадцати часам она сгущалась в атмосфере и становилась похожа на кисель, сквозь который порой было трудно пройти. Нет, Аля знала, что ее здесь не убьют и даже не обидят, эта, чистопрудненская, тусовка не была агрессивной, она не обращала внимания на прохожих и никого не задевала, но все равно опасность висела и даже стояла, как низкий туман.
Наверное, именно так ощущаются вовне чужие неправедные мысли и чувства, когда носителей этих мыслей и чувств собирается много в одном месте. Может быть, Динка с ее обостренным нюхом тоже так чувствует свою тетку?
Але нравилось видеть и понимать, сколь многослойна Москва, сколь неоднозначна, как много самых разных, не похожих друг на друга и порой даже почти не пересекающихся и не знающих друг о друге слоев и потоков в ней сосуществуют бок о бок. Разве почтенная мать семейства, вырастившая детей и пестующая внуков, живущая, например, в Черемушках и вливающаяся в потоки дневной Москвы, курсирующие по маршрутам «дом – магазин – рынок – химчистка – дом», разве эта уважаемая мать семейства, после пяти вечера не выходящая из дома, потому что нужно всех встретить, накормить, обогреть, обиходить и уложить, может знать о том мире, который возникает каждый вечер на Чистых прудах? Или о том странном и пугающем мире глухих и глухонемых, оживающем ближе к ночи на Комсомольской площади, у трех вокзалов? Или о том, какие чудовищные разговоры и немыслимые с точки зрения здравого смысла лозунги с неофашистским душком можно услышать в Тимирязевском парке? Нет, никогда эта милая уютная женщина не узнает о тех мирах и тех потоках и не пересечется с ними, если, конечно, в них не попадет кто-то из ее близких.
Сегодня Элеонора останавливаться у Чистых прудов не стала, бросила привычный взгляд на пятачок возле метро, где обычно оставляла машину, но почувствовала, что нет настроения. Ей хотелось поскорее увидеться с мамой и поговорить с ней о Динке. Зато на обратном пути она выберет маршрут подлиннее и сможет полностью насладиться ночным городом, у которого совсем, совсем другой запах. Запах богатства и неприкаянности, запах преступной любви и преступных помыслов. Запах обмана, который во что бы то ни стало надо постараться скрыть. Запах ненависти, которая как-то растворилась в дневных заботах и суете, а теперь, ночью, осталась единственной вибрирующей струной, звук которой разносится далеко-далеко. Запах безысходного одиночества, которое так остро ощущается именно ночью. А чем дальше от полуночи и ближе к рассвету, тем ощутимее становится самый страшный запах – запах смерти.
Аля любила эти метаморфозы, происходящие то ли с самим городом, то ли с ее восприятием. Они делали ее жизнь насыщеннее, богаче, придавали ощущение нескучности и немонотонности. Если бы не они, эти спасительные метаморфозы, она бы, наверное, сошла с ума от однообразия. Вот уже почти сорок лет она живет в большой и тягучей скуке, отдает себе в этом отчет и все эти годы старательно делает все, чтобы не поддаться, не увязнуть, не впасть… Она хватается за любой повод, за любое событие, которым может расцветить свою жизнь, но в глубине души понимает, что настоящей жизни и настоящих красок, настоящих звуков и запахов у нее не будет. Она отравлена. Отравлена почти сорок лет назад одним-единственным человеком. И ничто ее от этой отравы не спасло, ни два замужества, ни более чем удачный и успешный сын, ни длительная жизнь за границей. Яд проник в кровь мгновенно и навсегда. И без этого человека не будет в ее жизни ничего настоящего. И самого этого человека тоже не будет. Никогда.
В преддверии своего восьмидесятилетия Ольга Васильевна Лозинцева могла пожаловаться только на ноги, которые вот уже лет десять ее подводили. Болели почти постоянно, а иногда и хромота появлялась, так что приходилось пользоваться палкой. Во всем же прочем она была полностью сохранной, прекрасно сама себя обслуживала и ни за что не соглашалась переехать после смерти мужа ни к сыну, ни к дочери. Она ценила самостоятельность и независимость, возможность смотреть телевизор до пяти утра и тишину в квартире в те часы, когда спала. И вообще Ольга Васильевна привыкла быть хозяйкой и самой себе, и своему обиталищу.
Она даже не любила, когда дети, навещая ее, открывали дверь своими ключами.
– Я дала вам ключи на тот случай, если со мной что-то случится, – сердито выговаривала она. – А пока еще я на своих ногах и сама могу открыть дверь гостям.
Аля с любовью смотрела на мать, такую подтянутую и ухоженную, с аккуратной прической и неизменными серьгами в ушах и кольцами, украшающими старческие, уже заметно искривленные пальцы. Просто невозможно поверить, что когда-то эта миниатюрная женщина весила без малого сто килограммов, постоянно боролась с одышкой и тахикардией, а на лице и ногах ее росли некрасивые черные волосы. Аля хорошо помнила те годы, когда мать лечилась всеми мыслимыми способами, и в России, и за границей, где служил отец, чтобы родить второго ребенка. Болезнь ее называлась сложно: синдром поликистозных яичников, возникший после родов. В конце пятидесятых эту болезнь лечили гормонами, вызывающими ожирение, оволосение и прочие малоприятные последствия. Алю Ольга Васильевна родила в сорок восьмом году, вскоре после войны, а когда Лозинцевы захотели второго ребенка, выяснилось, что мать больна. Лечение начали в Германии, где в то время работал Николай Михайлович Лозинцев и где гормоны стали применять раньше, чем в СССР, потом продолжили уже дома.
И все это длилось десять лет.
И все эти десять лет маленькая Аля безумно жалела мать. Она тоже хотела, чтобы был еще один ребеночек, но хотела исключительно потому, что об этом мечтали родители, а она их любила и искренне желала, чтобы их мечта исполнилась и они были счастливы. И еще она хотела, чтобы маме не нужно было больше лечиться, потому что все эти бесконечные уколы приносили только одни страдания, мама стала толстой и некрасивой, у нее болели суставы, и она задыхалась от малейшего физического усилия.
Наконец Лозинцевы приняли решение прекратить попытки вылечиться.
Через два года мама стала почти такой же, как была до лечения, красивой, без всяких там дурацких волос на подбородке и верхней губе, без лишнего веса. Ну, может быть, не такой худенькой, как раньше, а чуть-чуть пухленькой, но это ее совсем не портило.
Теперь же, в преклонном возрасте, Ольга Васильевна немного словно бы усохла и вновь обрела юную стройность.
– Вот кассеты, Андрюша для тебя передал, – Аля протянула матери пакет. – «Лев зимой», обе версии.
– Чудесно! Я обожаю Кэтрин Хепберн, просто любопытно поглядеть, что они в наше время смогли сделать с этой историей. Неужели нашлась актриса, которая сыграет эту роль не хуже Кэтрин?
– Не знаю, мамуля, я не видела, но судя по картинке, актрису подобрали внешне похожую.
– Сегодня же посмотрю! Вот провожу тебя и посмотрю оба фильма. Что-то у тебя глаза тревожные, Эленька. Что-то случилось?
Ничего от матери не скроешь! Да Аля, собственно, и не пыталась.
Она же как раз и ехала к Ольге Васильевне с намерением поговорить о том, что ее тревожит.
– Сейчас, мамуля, я только Андрюше звякну, что я доехала, а то он, как всегда, напридумывал себе кошмаров.
– Я сама позвоню, иди вымой руки и садись за стол.
Ну конечно, мама собирается в одиннадцать вечера кормить ее ужином. Хотя ничего странного и страшного в этом не было, Элеонора о фигуре не беспокоилась, наоборот, любила вкусно покушать и позволяла себе абсолютно все без ограничений: ни на весе, ни на самочувствии это никак не сказывалось. Если судьба ее чем-то и обделила, то уж на природу Аля пожаловаться ну никак не могла.
– Ты знаешь, мам, о чем я подумала…
– О чем?
Нет, не так просто завести этот разговор, как ей представлялось.
Аля почему-то была уверена, что приедет к матери и прямо с ходу все ей объяснит, а вот теперь оказалось, что и слов нужных не подобрать.
– Вы с папой всегда внушали нам, что жить надо по английской пословице, то есть так, чтобы не страшно было подарить своего попугая самой большой сплетнице города. Я понимаю, папа служил в разведке, и для него очень важно было, чтобы никто и ничем не мог вас шантажировать. Вы сами так жили и нас с Андрюшкой такими вырастили. А теперь вдруг я задумалась…
– Над чем, Эленька?
Да что ж такое, вот как до самого главного доходит, так словно язык немеет, не поворачивается, не может вслух произнести то, что с некоторых пор живет тихими мыслями в голове.
– Над тем, действительно ли это правильно для всех случаев жизни. Мам, ты только не обижайся, дай мне договорить. Когда вы взяли Андрюшу, вы ни от кого не скрывали, что он приемный. Он ведь был уже достаточно большой, чтобы помнить свою настоящую мать, ему три года было. Другое дело, что через месяц он бы ее забыл, но вы с папой всегда расставляли все по своим местам, и Андрюшка всю жизнь знал, что у него где-то есть родная мама и есть новая семья. Вы сумели вырастить его в убеждении, что это не плохо и не стыдно, и он тоже потом никогда не скрывал, что его вырастили приемные родители. Разглашением тайны усыновления вас шантажировать было невозможно. И когда Андрей вырос, он точно так же построил свою семью. Динке никогда не внушали, что он ее родной отец, все знали и ни от кого не скрывали, что Вера родила ее от другого мужчины, с которым была близка до того, как познакомилась с Андрюшей. В этом смысле ни в нашей, ни в его семье никогда не было лжи, и я, скажу тебе честно, всегда этим гордилась.
– Мы с папой тоже, – негромко вставила Ольга Васильевна. – Но ты не поняла самого главного, Эленька. Про шантаж – это все правильно, папа при его профессии не мог допустить даже возможности подобных неприятностей. Но есть и другое. Мы вырастили вас с Андрюшей в убеждении, что одни люди любят других не за кровное родство, а за душевные качества или по другим каким-то причинам. Вернее, не так… Даже не знаю, как тебе объяснить… Конечно, если с человеком тебя связывает кровное родство, то ты чаще всего его любишь, но ведь это совсем не обязательно, верно?
– Верно.
– И в то же время ты куда сильнее можешь любить человека, с которым ты родством не связан. Другими словами, кровное родство – это не гарантия более сильной привязанности. И можно совершенно одинаково любить родных детей и приемных. А уж приемных-то родителей дети почти всегда любят больше, чем родных. У Андрюши не было комплекса недолюбленного приемыша, и он с любовью и нежностью относится и ко мне, и к тебе, и папу он очень любил. Вот, наверное, то главное, чем мы могли бы гордиться.
– Я понимаю, мама, – Аля налила себе и матери еще чаю, положила в свою чашку ломтик лимона, – но одно дело вы с папой, и совсем другое Андрей и Вера. Андрей удочерил Динку, но настоял на том, чтобы не было никаких тайн. А теперь что получилось? С тех пор, как Веры нет с нами, Дина чувствует себя страшно одинокой. Андрей – не родной отец, я – не родная тетка, ты – не родная бабка. Славик родной только наполовину, единоутробный, но он младше, и если что случится – он не может быть опорой и защитой в ее жизни. У нее не осталось никого из старших, на чью заботу и покровительство она могла бы безоговорочно рассчитывать. То есть рассчитывать она, безусловно, может, ведь мы все ее любим, но она-то, дурочка, этого не понимает, она считает, что раз нет кровного родства – значит, чужие. Вера и Андрюша не сумели внушить ей то, что сумели когда-то объяснить нам вы с папой. И вот я теперь думаю, что, может быть, было бы лучше, если бы она не знала правды. Может, было бы правильнее, если бы она считала Андрея родным отцом, а меня и тебя своими кровными родственниками. Тогда ей было бы намного легче.
– А ей трудно? – Ольга Васильевна внимательно посмотрела на дочь и слегка прищурилась. Она всегда щурила глаза, когда хотела максимально сосредоточиться и не упустить что-то важное.
– Очень трудно, – вздохнула Аля. – И мне кажется, что ее психика с этим не справляется. Она убедила себя в том, что мы все ей – никто, мы ее не любим, она никому из нас не нужна, и связи, которые между нами существуют, – это связи чисто условные, почти эфемерные, которые могут в любой момент порваться. И она останется совершенно одна на этом свете. Никому не нужная и никем не любимая. И она придумала… Нет, не то я говорю, вряд ли она могла придумать это сознательно, это слишком сложно для ее возраста. Скорее, интуитивно, на уровне подсознания… Короче, она решила, что должна взять верх над всеми нами, держать нас под контролем, забрать в жесткий кулак, подчинить своему влиянию, чтобы мы никуда не делись. То есть чтобы связи между нами не оборвались. Понимаешь?
– Понимаю, – кивнула мать. – Но это действительно сложная конструкция. Ты уверена, что все обстоит именно так? Помнишь, что папа говорил в таких случаях?
– Давайте начнем с фактов, – улыбнулась Элеонора. – Эти его слова у меня в ушах стоят, я как будто папин голос до сих пор слышу. Я даже помню, когда я впервые это услышала. В четвертом классе я решила, что классная руководительница ко мне несправедлива, и прибежала к папе с ревом жаловаться, когда она мне накатала очередное замечание в дневнике. А он мне сказал: давай начнем с фактов. Я твержу, что она ко мне придирается, а он требует факты. Я слезами захлебываюсь, все твержу, что она меня не любит, а он: давай факты. Я что-то пролепетала, припомнила какие-то истории, он их по полочкам разложил, и оказалось, что никто ко мне не придирается, я сама даю поводы для замечаний, а любить меня учительница не обязана. Мне потом так смешно было!
– Я тоже это помню. Так что с Диной? Приведи мне факты.
Аля рассказывала долго и подробно, и о том, как племянница считает возможным вмешиваться в ее личную жизнь и в личную жизнь Андрея, как ведет себя с братом. О жестком и беспардонном навязывании окружающим собственных оценок и мнений. О ее увлечении мистикой и спиритизмом или бог еще знает чем, о ее ночных отлучках. За минувший год фактов набралось много.
– Если я правильно все это интерпретирую, то механизм примерно такой: для того, чтобы нами руководить и управлять, Динка должна доказать, что имеет на это право. Это первый шаг. Что может дать ей такое право? Ее отличие от нас, ведь равный равным управлять не может. Значит, она должна возвыситься над нами. За счет чего? Возраст? Не проходит. Жизненный опыт? Тоже не проходит. Деньги? Тем более. Тогда что? Личные качества. Какие? Необыкновенные способности, выдающиеся таланты? Не наблюдается. Остаются особые знания и то, что называют «посвященностью». Вот это может пройти, потому что никто в нашей семье этим никогда не занимался и в этом не разбирается. Отсюда берет начало увлечение всякими потусторонними вещами, ритуалами, обрядами, специальной литературой. Я не такая, как вы, я не такая, как все, я знаю и понимаю вещи, вам недоступные. Это второй шаг. Начиналось все сознательно, это даже не было увлечением, это было спектаклем, нацеленным на манипулирование семьей. А потом сознательное занятие превратилось в искреннее и глубокое увлечение. А потом затянуло. Это уже был третий этап. А сейчас, мне кажется, наступил четвертый. Динка просто свихнулась на всем этом. И кроме того, влипла в какое-то тайное общество, которое устраивает свои сборища по ночам. Мам, я не хочу в это верить, но мне иногда кажется, что она – сумасшедшая.
– Иногда? – переспросила Ольга Васильевна, ни разу до того не перебившая дочь. – Только иногда? А в остальное время?
– Да черт его знает! – в сердцах выдохнула Аля. – Вроде нормальная. Зануда, хамка беспардонная – это да, что есть – то есть, но нормальная. А бывает, что я ее просто боюсь. Мне даже страшно порой с ней наедине оставаться. Она в такие минуты похожа на зверя с обостренным чутьем. Помнишь, какое у ее матери было чутье на людей?
– Уж это да, – усмехнулась мать. – К каждому умела ключик подобрать, из любого могла веревки вить. Неужели Динка унаследовала?
– По-моему, у нее эта способность раз в десять сильнее, только у нее по молодости лет ума не хватает этим правильно пользоваться. Вместо того, чтобы нами командовать и нас запугивать, тоже могла бы веревки из нас вить.
– Странно, однако, – Ольга Васильевна потянулась к вазе с пирожными, и остро сверкнул, поймав луч света от лампы, бриллиант на ее руке – подарок Андрея на семидесятипятилетие, – почему за все это время я ни разу не почувствовала всего этого на себе? Конечно, Дина у меня бывает совсем редко, только когда вы собираетесь у меня по праздникам, но я ничего такого не заметила. Здесь, в этом доме, она ведет себя как обычно.
– Мамуля, ей не нужно тобой манипулировать, – сказала Аля и тут же осеклась.
Господи, ну что у нее за язык! Разве можно говорить такие вещи пожилым людям?
– Ну да, естественно, – Ольга Васильевна улыбнулась, как ни в чем не бывало, словно слова дочери ее вовсе не покоробили, – я ведь старая и в будущем ей не пригожусь, даже в самом ближайшем. В любой момент могу умереть. Да и что от меня толку? Денег у меня нет, и проблемы решать я уже не могу, возможности не те, в отличие от вас с Андрюшей. Складно у тебя получилось. Но только непонятно, правильно ли. И что ты намерена с этим делать?
– Я не знаю, – растерянно призналась Аля. – Я хотела с тобой посоветоваться. Надо ли говорить об этом Андрюше? Как ты считаешь?
– Обязательно, – строго произнесла мать. – Не будем отступать от наших семейных принципов. Никаких тайн. Все должно быть открыто. Жизнь и без того достаточно сложна, не нужно разводить питательную среду для лишних проблем. Что еще?
– Еще я подумала, что, может быть, надо показать Дину психиатру? Или психологу?
– Может быть, – задумчиво протянула Ольга Васильевна. – Только надо тщательно продумать, как это сделать, чтобы ее не напугать.
– Вот именно, – подхватила Аля. – Если она что-то заподозрит, то подумает, что мы пытаемся запереть ее в психушку, и, значит, все ее опасения верны: мы ее не любим, она нам чужая. И один бог знает, к чему такие мысли могут привести. Мам, а может, она все-таки не сумасшедшая, а просто очень хорошая актриса? Конечно, она меня напугала до жути, я не знаю, можно ли так сыграть, но вдруг можно?
– Послушай, – оживилась мать, – а что, если она и вправду талантливая актриса, а? Можно как бы невзначай показать ее знающим специалистам, такую встречу легко можно устроить, даже здесь, у меня. Один институт она бросила, ей там неинтересно, но если кто-то признает, что у нее есть талант или хотя бы способности, даст какие-то советы, подготовит к поступлению в театральный или во ВГИК, тогда Динка выбросит всю мистическую дурь из головы. Она ей не будет больше нужна, ведь в нашем менталитете актриса – существо и без всякой мистики выдающееся, необыкновенное. Тогда и патологии поведения не будет.
Аля тоже воодушевилась было предложением матери, но тут же сникла.
– Мамуль, ну какая из Динки актриса? Даже если у нее есть талант, то для домашнего, бытового употребления, для манипулирования семьей он годится, а для сцены и тем более для экрана – нет. У нее чудовищная внешность. И лицо некрасивое, и вся она какая-то корявая, нескладная, непропорциональная, негармоничная. Знаешь, я даже думаю, что возвышение над окружающими при помощи мистики решает для нее еще одну задачу: вы, мальчики, не обращаете на меня внимания, я вам неинтересна, так знайте, что мне неинтересны вы сами, потому что я живу в другом измерении, в другом мире, в котором другие интересы и другие законы. Как, мам, правдоподобно?
– Ты знаешь, Эленька, это куда более правдоподобно, чем твоя версия с манипулированием семьей. Может быть, эта вторая версия вообще единственно правильная. Может быть, ты все напридумывала про Динкино одиночество, а?
– Да нет, не напридумывала. Я много раз слышала от нее слова о том, что она теперь никому не нужна и у нее нет никаких настоящих родственников. Вериных родителей она в расчет не берет, как Вера порвала с ними много лет назад, так они как будто для всех умерли, в том числе и для Динки.
– Может быть, имеет смысл как-то связать девочку с родными со стороны матери? Пока Вера была с нами, никто из нас не лез в эту историю, в конце концов, это ее дело и ее решение. Но теперь, когда ее нет, возможно, отношения наладятся. А, Эленька, как ты думаешь? И у Дины появятся настоящие кровные бабушка, дедушка… и кто там еще? Не помнишь?
– Вера предпочитала не говорить о своей семье, но, кажется, у нее там были брат и сестра, каждый со своими семьями.
– Вот видишь! – торжествующе воскликнула Ольга Васильевна. – Ты сможешь их разыскать? Надо найти их, поговорить с ними, потом с Диночкой, и я уверена, это будет хорошим решением проблемы.
Ах, если бы все было так просто! Аля была благодарна матери за советы и вообще за ее готовность вникать в проблему и обсуждать ее, но отчего-то казалось, что никакие специалисты по актерскому мастерству и вновь обретенные родственники делу не помогут. Чем больше Элеонора говорила о своей племяннице, тем сильнее крепло в ней убеждение в том, что девушка психически больна. А уж о том, что жить под одной крышей с психически больным не только страшно, но и опасно, Аля знала не понаслышке. Много лет назад, когда она была во втором браке, к ним приехали родственники мужа, супруги, привезшие в Москву психически больного сына для консультаций с медицинскими светилами. За тот месяц, что они прожили в одной квартире, Аля прощалась с жизнью не меньше десяти раз и примерно столько же раз с ужасом думала, что потеряет мужа. Юноша оказался буйным, причем в буйство впадал с непредсказуемой периодичностью, а в периоды просветления был тихим и даже вменяемым.
Боже мой, а вдруг Дина тоже в один прекрасный день схватится за нож или за что-нибудь тяжелое? Или все это глупости, и ничего этого нет, никакого сумасшествия, никакого безумия, никакой патологии? Просто ей, Але, кажется черт знает что, потому что очень уж ей не нравятся Динкины страшные глаза, когда та утверждает, что ее тетка пришла домой с черными мыслями и тяжелыми чувствами? Может, у девушки все в порядке, а вот у самой Элеоноры Николаевны рыльце в пушку?
И снова в груди забился маленький прохладный металлический шарик, грозя в считаные минуты разрастись в ледяную чугунную гирю, с треском разламывающую ребра.
– Что ты, Эленька?
Мать уже убирала со стола и внезапно остановилась прямо напротив дочери, пристально глядя на нее прищуренными глазами. Господи, неужели так заметно?
– Ничего, мам, все в порядке. За Динку переживаю.
– Надо не переживать попусту, а делать что-нибудь. Поговори с Андрюшей, все-таки это его дочь, хоть и не родная, но он ее вырастил. И обсудите то, что я предлагаю. Примите решение. Делайте что-нибудь, а не сидите сиднем, – строго произнесла Ольга Васильевна.
Да, мама вся в этом. За всю жизнь Элеонора ни разу не видела мать впавшей в депрессию или опустившей руки, разнюнившейся и погруженной в страдания. Она всегда что-то делала. Она всегда шла вперед. Аля вспомнила, как через полгода после смерти отца, восемь лет назад, Ольга Васильевна как-то в разговоре сказала:
– Ты не представляешь, какая я счастливая!
Алю это поразило и даже возмутило, и то был один из немногих случаев, когда она посмела упрекнуть мать:
– Как ты можешь так говорить, ведь папа умер совсем недавно! Как ты можешь быть счастливой! Ведь ты его так любила.
Ольга Васильевна улыбнулась легко и светло.
– Из двоих супругов почти всегда один уходит раньше, другой позже. Если бы первой ушла я, ты представляешь, что было бы с папой? Он бы с ума сошел от горя, он не смог бы жить один, страдал бы, горевал, опустился бы. Разве это хорошо? Мужчины хуже справляются с горем, мы, женщины, более крепкие в этом смысле. И я счастлива, что папе не пришлось пережить то, что переживаю сейчас я. Потому что я справлюсь. А он не справился бы.
Домой Аля ехала в третьем часу ночи. Она не смотрела через автомобильное стекло на ночной город, который так любила. Она думала о том, как бы ей научиться быть такой, как мать. Уметь видеть счастье даже в беде. Но какое счастье можно найти в том, что происходит с Диной? И какое счастье в том, что происходит с ней самой?
Глава 3
Как и у всех, ну, почти у всех девушек ее возраста, у Лили Стасовой была своя тайна. Девичьи тайны бывают маленькими, большими или страшными. Лилина тайна была вовсе и не страшной, а маленькой и даже немножко смешной, но она все равно была и выступала в роли далеко не последнего аргумента в момент напряженных раздумий на тему: быть ли напуганной убийством студентки с соседнего потока и сидеть дома или все-таки ходить в институт на занятия.
У тайны не было имени, но было условное название «Этот в костюме». Лиля была девушкой наблюдательной и давно уже заметила, что мужчины в хорошо сшитых и ладно сидящих костюмах встречаются в метро крайне редко, даже можно сказать, что и не встречаются вовсе. Они ездят на машинах. А те, которые в метро и троллейбусе, те все больше в джемперах и куртках, а если в костюмах, то в каких-то не таких. Этот же, ставший ее маленькой тайной, был не просто в костюме, а еще и в роскошном кашемировом пальто, расстегнутом и позволяющем обозреть не только шелковый шарф от Кензо, но и ослепительную сорочку, и галстук от Версаче, и жилет. Конечно, о том, как сидит на его фигуре костюм-тройка, можно было только догадываться, но судя по идеально отглаженным брюкам, сверкающим ботинкам и безупречной стрижке, на таком мужчине костюм не мог сидеть плохо просто по определению.
Тайна появилась у Лили примерно неделю назад, когда она, ожидая поезда, впервые заметила мужчину в кашемировом пальто на платформе метро. Наверное, она не смогла скрыть свой заинтересованный взгляд, и мужчина его перехватил, потому что слегка улыбнулся. Ей стало неловко, она прошла дальше вдоль платформы и отвернулась, ругая себя за несдержанность. Лиле казалось, что она отошла от мужчины достаточно далеко, поэтому девушка страшно удивилась, когда села в поезд и через несколько секунд увидела его в том же вагоне. Он стоял неподалеку и читал какие-то бумаги.
На «Чистых Прудах» ей нужно было делать пересадку. Лиля стала протискиваться к выходу, и кто знает, сознательно или нет, но выбрала она именно ту дверь, путь к которой лежал мимо того мужчины. Когда она поравнялась с ним, он не оторвал глаз от своих бумаг, однако же в тот момент, когда двери открылись и пассажиры стали вываливаться из вагона, она быстро обернулась и поймала его взгляд и ту же едва заметную улыбку. Он все-таки посмотрел на нее. Или ей вслед?
Лилю охватило смущение, которое, впрочем, прошло уже минут через пять, а еще через пятнадцать она и думать забыла о красивом пассажире в дорогом пальто. А на следующее утро снова увидела его на платформе в метро. Она замедлила шаг и постаралась рассмотреть незнакомца как можно подробнее. Вот тогда и отметила она и отутюженные брюки, и сверкающие ботинки, и стрижку, и лицо, которое ей ужасно понравилось, и даже цвет глаз. Самый, надо сказать, обыкновенный цвет, серо-голубой, ничего выдающегося. Лиля снова прошла мимо него. А он снова улыбнулся ей и легонько кивнул, словно приветствовал старую знакомую. Девушка решила не выпендриваться и улыбнулась в ответ. И снова они ехали в одном вагоне, и он читал свои бумаги, а Лиля – конспект по истории, и снова она обернулась при выходе на платформу, и снова поймала его улыбку и взгляд. Она приподняла руку и сделала едва заметное движение пальцами, мол, пока, до завтра. А он еще раз улыбнулся и кивнул.
Назавтра все повторилось. Они по-прежнему не разговаривали друг с другом, мужчина не делал ни малейшей попытки познакомиться с ней, но улыбался и кивал, а Лиля в ответ тоже улыбалась и махала пальчиками. И было в этом что-то невероятно волнующее и пронзительное, такое, от чего дух захватывало куда больше, чем от поцелуев с однокурсником, в которого Лиля влюбилась перед самым Новым годом, а через месяц остыла.
А потом случились выходные. Мужчина в пальто и костюме не выходил у Лили из головы, и больше всего на свете на протяжении двух суток ее интересовал вопрос, появится он в понедельник в метро или нет? Она была девушкой рассудительной и понимала, что такой мужчина не может ездить в метро всегда. Скорее всего, у него машина в ремонте, или водитель внезапно заболел, или ему по каким-то причинам нужно успеть доехать, минуя утренние пробки, а всем известно, что на метро получается куда быстрее. Или еще какие-то обстоятельства сложились таким образом, что он не ездит на машине. Но это временно, и весь вопрос в том, насколько долгим окажется этот «временный» период. Иными словами, сколько еще раз сможет Лиля пережить эти необыкновенные мгновения, позволяющие ей почувствовать себя героиней романтического кино и дающие почву для стыдливых, робких, а порой и отчаянно смелых мечтаний. Ну так, совсем чуть-чуть, пять минуточек перед сном. Она же взрослая рассудительная девушка, к тому же правильно воспитанная мамой и папой, и прекрасно понимает, что между ней, юной студенткой, и этим дорогим и очень деловым мужчиной, к тому же порядочно старше ее, не может быть ничего общего. Сколько ему лет? Наверное, тридцать пять или около того. И конечно же, есть жена и дети. Просто невозможно представить, чтобы у такого мужчины не было жены или хотя бы постоянной женщины. Он весь воплощенная серьезность и добропорядочность. Успешный бизнесмен и отличный семьянин. И своей случайной молоденькой попутчице он улыбается исключительно из вежливости, как это принято, например, в Европе: улыбаются всем подряд, а уж тем, кого однажды видел, – обязательно.
Самые худшие ожидания оправдались, в понедельник его не было. Лиля пропустила один поезд, потом второй, третий, надеясь, что он все-таки появится. Но он не появился, зато она опоздала на первую пару и получила нагоняй от куратора курса. Как назло, именно в тот день злыдня-кураторша стояла у дверей в лекционный зал и отлавливала опоздавших. Однако долго расстраиваться девушке не пришлось: в понедельник весь институт только и говорил об убийстве студентки с первого потока, Наташи Кузиной. И точно так же, как совсем недавно Лилин отец, все вспоминали громкое барнаульское дело и пересказывали друг другу, кто что помнил из газетных публикаций, додумывая на ходу и расцвечивая собственные воспоминания жуткими подробностями. В институт приехала милиция, кого-то то и дело вызывали с занятий, вероятно, искали тех, с кем так или иначе общалась погибшая девушка. О мужчине в пальто, или, как Лиля называла его про себя, об «этом в костюме», она на некоторое время позабыла, пытаясь решить, стоит ли рассказывать милиционерам об инциденте в кафе. С одной стороны, очень похоже, что тот псих и был убийцей, во всяком случае, вид у него был какой-то патологический. Но с другой стороны, никто ее не вызывает и не спрашивает… Может быть, оперативники уже и так знают достаточно, а она со своими добровольными показаниями вызовет у них только смех. И потом, кто-то из милиционеров может оказаться папиным знакомым, и тогда папа уже через пять минут будет знать о ее приключении и запретит ходить в институт и вообще выходить из дому. А как же «этот в костюме»? Может быть, тот факт, что его сегодня не было в метро, еще ни о чем не говорит, и завтра или через несколько дней он снова появится? А Лили не будет… И тогда он решит, что она больше не ездит в это время по этой ветке и он потерял ее навсегда. Может быть, он действительно всего один раз был вынужден поехать на метро, но, увидев девушку, стал ездить каждый день, чтобы встретиться с ней… Глупо, конечно, но чего в жизни не бывает. И если она долго не будет появляться, он тоже перестанет ездить. Фу, как в дешевом сериале! Лиля изо всех сил уговаривала себя не впадать в сопливый романтизм, опомниться и перестать мечтать о несбыточном. Так только в плохом кино бывает, чтобы красавец-миллионер случайно оказался в гуще простого народа и вдруг нашел среди толпы свою избранницу и начал предпринимать шаги, чтобы познакомиться с ней. В жизни так не бывает, это во-первых. И во-вторых, даже если и бывает, то уж она никак не тянет на долгожданную избранницу такого мужчины. И лицо не так чтобы очень, и фигурой не вышла. Во всяком случае, именно это ей всю жизнь внушала мама. Но те секунды безмолвного общения, обмена взглядами и улыбками были так томительно сладки, что отказаться от них невозможно…
За этими раздумьями день пролетел незаметно. На следующее утро, во вторник, шестого апреля, Лиля взяла себя в руки и, спускаясь по лестнице в метро на станции «Сокольники», твердо сказала себе, что, если «этого в костюме» снова не окажется на платформе, она не станет ждать ни одной минуты, не пропустит ни одного поезда, а поедет в институт. Не нужны ей ни опоздания, ни разборки с куратором курса. И «этот в костюме» ей тоже не нужен. Надо выбросить его из головы и забыть.
Сказано – сделано. Незнакомца на платформе, конечно же, не оказалось, и Лиля мужественно села в первый же поезд. И в тот момент, когда двери закрылись и вагон качнулся, собираясь набрать скорость и нырнуть в тоннель, она увидела, как «этот в костюме» быстро спускается по лестнице. Сердечко Лилино замерло, потом подпрыгнуло куда-то в горло, потом упало вниз, а щеки запылали. Значит, он не исчез, он по-прежнему ездит в метро! Ну почему, почему она такая дура, почему дала себе это идиотское слово не пропускать поезд?! И не просто дала, но еще и выполнила.
На всякий случай Лиля вышла на «Красносельской» с намерением сесть в следующий поезд, в котором наверняка будет ехать «этот в костюме». Народу, конечно, много, утреннее время, и вряд ли ей удастся увидеть, в каком он вагоне, но можно рассчитывать на то, что он сядет, как и в предыдущие дни, в четвертый вагон. Поезд подошел, Лиля вошла в вагон, но его не увидела. То ли он стоял так, что его заслонял кто-то из пассажиров, то ли сел в другой вагон. Девушку охватило отчаяние.
Следующая станция – «Комсомольская», три вокзала и пересадка на Кольцевую линию, много народу выйдет, но еще больше войдет, и тогда отыскать незнакомца не останется никаких шансов. После «Комсомольской» вагоны будут забиты битком. Одно дело точно знать, где стоит интересующий тебя человек, и совсем другое – искать его в час пик по всему составу. Затея бесперспективная и бессмысленная.
«А вдруг он вообще не едет в этом поезде? – мелькнула мысль. – Может, он, так же, как я вчера, стоит на платформе на «Сокольниках» и ждет меня?»
Но подобные глупости Лиля тут же в головке своей пресекла. Да, он мне нравится, с присущим ей хладнокровием констатировала девушка, но это совершенно не означает, что я нравлюсь ему и что он вообще обо мне помнит. Завтра она поступит умнее. Завтра у нее первая пара – семинар по немецкому, она сегодня подойдет на кафедру иностранных языков, разыщет преподавателя и договорится с ним. Либо он разрешит ей опоздать, либо вообще согласится, чтобы Лиля сдала тему в другое время, может быть, даже сегодня, она готова, язык она знает хорошо. В любом случае, она сегодня сделает все необходимое, чтобы завтра прийти чуть раньше и иметь возможность стоять на платформе до тех пор, пока не появится «этот в костюме».
Вот такая маленькая смешная тайна была у Лили Стасовой, и тайна эта никак не позволяла ей отсиживаться дома, пока милиционеры будут искать маньяка, убивающего студенток. Однако же Лиля была не только дочерью сотрудника милиции, пусть и бывшего, но и постоянно общалась с женой отца и их друзьями, которые почти сплошь были следователями или оперативниками, поэтому отдавала себе отчет в том, что ее недавняя история с неприятным типом в кафе может иметь отношение к чему-то более серьезному. Ведь случилась она всего за несколько часов до того, как была убита Наташа Кузина с первого потока, и в том же районе, и главное – тоже оказалась привязанной к ночному клубу. Конечно, связи никакой может и не быть, и тот псих хотел повести ее в какой-то другой клуб, и вовсе он не собирался никого убивать, он обыкновенный наркоман, который всего-навсего вознамерился «раскрутить на бабки» девицу, имеющую денежки. Может быть, и так. Но ведь может быть и не так. И нужно, наверное, все-таки рассказать об этом эпизоде следователю. Или не рассказывать? И как сделать так, чтобы папа не узнал и не запер ее дома? Тетя Настя Каменская сказала, что есть психи, которые убирают свидетелей. А тот тип из кафе видел, что она читает учебник, и вполне может догадаться, что Лиля учится где-то неподалеку. А неподалеку от кафе только один институт – ее. Она сама-то не боится, но папе ведь не объяснишь, прикажет сидеть дома, еще и охрану приставит, Лиля даже пикнуть не посмеет, ее воспитали в безусловном послушании родителям.
Уже заканчивалась третья пара – семинар по экономике, когда дверь аудитории распахнулась и вошла ненавистная кураторша в сопровождении двух мужчин. Лиля чуть не подпрыгнула: один из них был симпатичным стройным блондином в модной куртке, а другой – дядей Юрой Коротковым, папиным другом. Совсем недавно, пару месяцев назад, Лиля вместе с отцом и тетей Таней была на его свадьбе. Дядя Юра женился на Ирине Савенич, известной актрисе, про которую мама сказала, что это «девочка с большим потенциалом». И это мама, которая известна всему свету как самый язвительный кинокритик и от которой доброго слова не допросишься, во всяком случае, мало кому из актеров и режиссеров удавалось услышать из ее уст похвалу в свой адрес. Правда, мама тут же добавила, что Ирина совершает большую глупость, выходя замуж за милиционера, и собственная мамина жизнь, испорченная Лилиным отцом-оперативником, – яркий тому пример.
– Никто не расходится после звонка, – металлическим голосом начала вещать кураторша, – с вами хотят побеседовать сотрудники милиции по поводу убийства Кузиной. Все остаются на местах и отвечают на вопросы столько, сколько нужно.
Никто не возражал. Все-таки в аудитории сидели будущие юристы, они понимали, что дело серьезное. Старичок-доцент, проводивший семинарское занятие, засуетился, начал торопливо складывать в портфель свои бумажки и посеменил к двери. До звонка оставалось две минуты.
– Не буду вам мешать, – пробормотал он, обращаясь не то к кураторше, не то к милиционерам, – мы практически закончили.
Когда дверь за ним закрылась, Коротков выступил чуть вперед.
– Господа студенты! – начал он, откашлявшись. – Позвольте представиться. Меня зовут Юрием Викторовичем, фамилия моя Коротков, я работаю на Петровке в отделе по раскрытию убийств. Рядом со мной мой коллега Максим Иванович Заточный, он – старший оперуполномоченный из окружного управления внутренних дел. Все вы знаете о трагическом происшествии с вашей однокурсницей Наташей Кузиной. Она училась на другом потоке, и мы уже подробно поговорили со всеми, с кем она посещала лекции и семинары. Теперь нам нужно побеседовать с вами. Мы понимаем, что вы общались с ней меньше, может быть, многие из вас вообще не знали ее и даже не представляют, как она выглядит. Но тех, кто ее хоть немного знал, или видел в день убийства, или просто хотел бы что-то нам сообщить, я попрошу задержаться и ответить на наши вопросы. Есть среди вас такие?
Поднялось шесть или семь рук. Лиля тоже, поколебавшись, подняла руку. Наташу Кузину она не знала, но решила поговорить с Коротковым.
Впрочем, поговорить с симпатичным блондином по имени Максим Иванович она бы тоже не возражала. От отца и его друзей она частенько прежде слышала имя Ивана Алексеевича Заточного, и как-то в их разговоре мелькнула фраза о том, что его сын тоже работает в милиции. Скорее всего, этот блондин – его сын. Как бы угадать, с кем легче договориться, с дядей Юрой или с молодым Заточным?
Коротков медленно обвел глазами тех студентов, которые сидели с поднятыми руками, заметил Лилю, она поняла это по его чуть дрогнувшему лицу, но ничего не сказал.
– Спасибо. Все остальные могут быть свободны. Пока, – добавил он загадочное слово.
Полтора десятка студентов с шумом похватали портфели и сумки и покинули аудиторию. Семь человек остались.
– Ну что ж, – вздохнул Коротков, – начнем, помолясь. Работать будем так: я займу стол преподавателя, поставим сюда стульчик, один из вас сядет рядом со мной, и мы тихонько поговорим. Максим Иванович займет самый дальний стол, второй человек сядет к нему. Повторяю, разговариваем тихо и друг другу не мешаем. Остальные пятеро пока ждут и потом подходят к нам по очереди. Это может занять много времени, поэтому заранее приношу извинения. Пожалуйста, прошу вас, первые двое. Один человек ко мне, второй – к Максиму Ивановичу.
Лиля хотела было рвануть к симпатяге Заточному, потому что решила, что, во-первых, с молодым парнем договориться легче, он наверняка еще не забыл собственных проблем с родителями, а во-вторых, он слишком молод для того, чтобы папа знал его лично, поэтому опасность утечки информации к строгому родителю все-таки поменьше. Она уже встала и сделала шаг из-за стола, но ее опередила Светка Мигунова, обожавшая худощавых блондинов. Лиля решила подождать, но выглядела она как-то глупо, ведь встала уже, так что ж теперь, снова садиться? Она поймала приглашающий взгляд Короткова и нехотя двинулась в его сторону.
– Здравствуйте, дядя Юра.
– Привет, – улыбнулся он. – Я вообще-то знал, что ты здесь учишься, но не ожидал, что попаду именно в твою группу. Сейчас во всех группах работают наши сотрудники. Надо же, как мне повезло! Как дела-то у тебя?
– Все хорошо, дядя Юра. А у вас?
– Да спасибо, не жалуюсь. Ну, Елизавета Владиславовна, выкладывай, что знаешь.
– Дядя Юра, – она набрала в грудь побольше воздуха, – я могу вступить с вами в преступный сговор?
– Это в какой же?
– Я вам расскажу одну историю, которая может иметь отношение к делу, а может и не иметь. А вы за это не скажете папе.
– О чем не скажу? – не понял Коротков.
– Ни о чем. Ни о чем не скажете. Не скажете, что я к вам подходила. Что рассказывала эту историю. Вообще ничего. Можно так сделать?
– Слушай, – шепотом возмутился Коротков, – да ты никак торгуешься со мной?