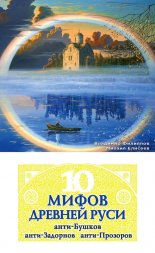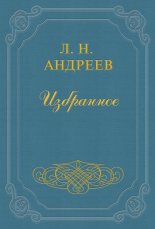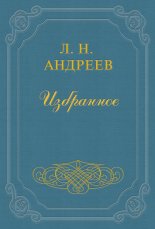Без роду, без племени Анненская Александра

Предисловие от издательства
Имя Александры Никитичны Анненской (1840–1915) сегодня почти забыто, а между тем в конце XIX – начале XX века ее повести и рассказы пользовались широкой известностью. Ими зачитывались юные читательницы.
А. Н. Анненская (урожденная Ткачева) родилась в помещичьей семье под Великими Луками. Девочка рано лишилась отца и в одиннадцать лет вместе с матерью, младшей сестрой и братом переехала в Петербург.
Там Александра окончила пансион, в шестнадцать лет сдала в Петербургском университете экзамен на звание домашней учительницы и два года проработала в одной из народных воскресных школ. В 1866 году она вышла замуж за экономиста, литератора и общественного деятеля Н. Ф. Анненского.
Анненская писала повести для детей: «Чужой хлеб», «Находка», «Сильный мальчик», «Товарищи», «Детство Чарльза Диккенса» и др. Они печатались в журнале «Семья и школа» в начале 1870-х годов.
В 1880-е годы некоторые ее произведения вышли отдельными изданиями – «Анна», «Брат и сестра», «Мои две племянницы», «Зимние вечера» и др. Анненская также перевела и пересказала для детей книги зарубежных писателей: «Хижина дяди Тома» Г. Бичер-Стоу, «Маленький оборвыш» Дж. Гринвуда, «Робинзон Крузо» Д. Дефо.
Когда в 1880 году Н. Ф. Анненского, как политически неблагонадежного, выслали из столицы, Александра поехала с ним и провела с мужем в ссылке все 15 лет.
Вернувшись в Петербург, Александра Никитична стала редактором детского журнала «Всходы». Кроме того, она написала биографии Н. В. Гоголя, Ч. Диккенса, Ж. Санд, Ф. Рабле и О. Бальзака, а также очерки о Дж. Вашингтоне, Ф. Нансене и М. Фарадее.
Повесть «Без роду, без племени» рассказывает о судьбе девочки-сироты. Аня живет в приюте, но, будучи не в силах переносить постоянные несправедливые обиды, убегает оттуда. Девочке предстоит немало пережить, прежде чем она найдет свое место и призвание.
Героиня повести «Тяжелая жизнь» – способная и любознательная девочка, она тянется к знаниям, но, увы, учеба для нее остается недоступной роскошью: семья бедна, и девочка вынуждена работать.
Ценой невероятных усилий ей все-таки удается окончить гимназию. Но Маша жертвует дальнейшим образованием и интересной работой ради более важного дела.
Глава I
Темная осенняя ночь кончалась, был шестой час утра. Город только что начал просыпаться. Магазины и ворота домов еще заперты.
Экипажей почти не слышно, разве с шумом проедет телега какой-нибудь торговки, отправляющейся на базар с картофелем или молоком. Пешеходов тоже встречается мало: то пройдет трубочист, еще не успевший покрыться слоем сажи, то прошмыгнет с корзиной на руке кухарка или хлопотливая хозяйка, спешащая на базар за покупками, то, тяжело ступая, пройдет толпа фабричных рабочих.
В большом доме, над воротами которого красуется черная с золотом вывеска: «Сиротский дом», также все тихо; только во дворе дворник приготовляется рубить дрова, да в верхнем этаже жалобно кричит больной ребенок, которого не могут успокоить ни укачивания, ни шлепки няньки.
Во втором этаже, в так называемом «Старшем женском отделении», две большие комнаты заняты кроватями воспитанниц, девочек от семи до шестнадцати лет. На жестких тюфяках, под тощими одеялами крепко и спокойно спят дети. Одним ночь принесла сладкие сны: щеки их разгорелись, губы полураскрыты в улыбку; другие уткнулись головой в подушку и так крепко закрыли глаза, точно ни за что не согласны расстаться со сном.
Но вот большие часы в коридоре с шипеньем пробили шесть. На одной из кроватей, отделенной от прочих небольшими ширмами, поднялась всклоченная голова помощницы надзирательницы. Сон, видимо, одолевает ее, она с трудом может открыть глаза, но делать нечего – надобно исполнить тяжелую обязанность: она всовывает босые ноги в туфли, накидывает на плечи полинялую ситцевую блузу и, схватив колокольчик, стоящий на столе возле ее постели, начинает с каким-то остервенением звонить в него. Самый крепкий детский сон не может устоять против этого резкого, неприятного звона. Девочки начинают шевелиться, некоторые открывают глаза и со вздохом осматриваются кругом, как бы удивляясь, что видят опять все то же, вчерашнее; другие, еще не очнувшись от сна, быстро вскакивают и хватаются за чулки, сами не понимая, что делают; третьи, наконец, крепче закутываются в одеяла, надеясь поспать еще хоть лишнюю минутку. Напрасная надежда. Ненавистный звон раздается над самым ухом их, грубая рука стаскивает с них одеяла: «Вставать, вставать скорее», – кричит им помощница.
Мало-помалу звон и строгие приказания производят действие: все девочки поднялись и начали одеваться. Нерадостны первые впечатления, встретившие их утром: в комнатах холодно, небольшие керосиновые лампочки бросают тусклый свет на серые стены и низкий, закоптелый потолок; при этом свете все лица кажутся угрюмыми, болезненными. Немудрено, что трем-четырем девочкам захотелось еще хоть на несколько минут продлить утренний сон и, воспользовавшись временем, когда помощница ушла за ширмы, чтобы привести в порядок свой туалет, они снова юркнули под одеяла.
Минут через десять опять раздался резкий голос помощницы, и она сама появилась уже умытая, наскоро причесанная и одетая.
– Скорей, скорей, девочки, – кричала она. – Не копайтесь. Где дежурные? Малаша и Саша Большая – вам сегодня на кухню, Дуня и Паша – в классы, Ольга Петрова и Глаша Иванова – топить печи, Параша и Саша Малова – убирать спальню. Скорей, скорей. Дуня, чего ты целый час полощешься? Будет, вытирайся. Ольга, говорю, поворачивайся живей. А ты, Малаша, чего стала? – Слышала ведь: тебе дежурить на кухне.
– Да с кем же мне дежурить, Марья Семеновна? – спросила Малаша, высокая, полная девушка лет семнадцати, жившая еще в приюте до приискания хорошего места в горничные. – Ведь Саша Большая в больнице, сами знаете.
– Ну, возьми кого-нибудь другого. Это что такое? Анна Колосова, ты еще валяешься, лентяйка. – Она быстро стащила одеяло с одной из девочек, заснувших было после звонка, и затем продолжала: – Вот ее и возьми. Смотри же, Анна, одеваться скорей. Ты сегодня дежурная вместо Саши Большой.
– С какой стати я дежурная, – протирая глаза, возразила та, – третьего дня я дежурила, и сегодня опять.
– Ты еще рассуждаешь. Без булки к чаю. А будешь копаться, Катерине Алексеевне пожалуюсь, она тебе покажет, как не слушаться.
Анна сердито сдвинула свои темные брови и, как только помощница отошла от нее, чтобы торопить других девочек, проговорила ей вслед несколько весьма нелестных прозваний.
А между тем в обеих комнатах происходил шум, суета. Девочки толкались перед большими медными умывальниками, каждой хотелось умыться прежде других, дежурные по спальне ворчали на тех, кто проливал воду на пол и не клал мыла на место; одетые стлали свои постели, при этом иногда в шутку бросали друг в друга подушками; одна девочка потеряла полотенце и приставала ко всем: «Кто его взял?»; двое маленьких подрались из-за передника и преусердно тащили его каждая в свою сторону, пока Марья Семеновна не помирила их, дав каждой по чувствительному щелчку в лоб и приговорив обеих остаться без булки к чаю.
В половине седьмого все дежурные отправились исполнять свои обязанности.
В сиротском доме не полагалось прислуги; за исключением дворника, кухарки и двух прачек, всю остальную работу исполняли в младшем отделении няни, присматривавшие за малютками, в старших – сами воспитанники и воспитанницы. На каждую работу обыкновенно назначали двух девочек – одну большую, лет пятнадцати-шестнадцати, другую поменьше, от десяти до четырнадцати лет; младшие же совсем освобождались от дежурств. Дежурные по кухне заваривали в огромном чайнике чай, который выдавала им надзирательница, разливали этот чай по кружкам и ставили к прибору каждой воспитанницы такую кружку вместе с куском ситного хлеба. Они же подавали кушанья за обедом и ужином, мыли и убирали посуду после каждой еды. Дежурные по спальне приносили воду для умыванья, выливали грязную воду, чистили умывальники, смотрели, чтобы все постели были убраны аккуратно, и вытирали шваброй пол. Третья пара дежурных топила печи и заправляла лампы1во всем отделении, четвертая должна была приводить в порядок классную комнату, большую залу, служившую и столовой, и рабочей комнатой, широкий коридор и две комнаты главной надзирательницы. Эта обязанность особенно пугала девочек: надзирательница требовала от них ловкости и аккуратности настоящих горничных и за малейшую оплошность очень строго наказывала их.
Пока дежурные исполняли свое дело, остальные девочки должны были штопать чулки, зашивать свое белье и платье: новое выдавалось им редко, и потому в дырках, требовавших починки, никогда не было недостатка.
В восемь часов все девочки собирались на общую молитву и затем садились за столы, на которые дежурные ставили кружки с жидким чаем, слегка побеленным молоком и почти без сахара. Из пятидесяти девочек, составлявших «старшее отделение», восемь лишены были в этот день утренней порции хлеба в наказание за ту или другую провинность. Они должны были пить чай стоя, чтобы все прочие, и в особенности главная надзирательница, видели, что они провинились.
Во время чая явилась эта главная надзирательница. Катерина Алексеевна Полозова была высокая женщина, сухая и желтая, внушавшая страх не только детям, но и всем, кому приходилось иметь с ней дело. Никогда она не сердилась, никто не слыхал, чтобы она возвысила голос, никто не видел краски гнева на ее впалых щеках, но зато никто не слышал от нее слова участия и одобрения, никто не видел ласковой, приветливой улыбки. Со своими помощницами и с прислугой она была требовательна, суха, с воспитанницами – неумолимо строга.
– За что наказаны? – спросила она, подходя к столу и отвечая едва заметным кивком головы и на почтительный поклон помощницы, и на единогласное громкое: «Здравствуйте, Катерина Алексеевна!» девочек.
Помощница поспешила подойти и отвечала не совсем твердым голосом:
– Глаша, Феня и Клавдя шалили вчера вечером в постели, Таня и Феклуша подрались сегодня утром, Матреша смеялась за молитвой, Даша не заштопала себе чулок, Анна нагрубила мне…
Катерина Алексеевна окинула холодным взглядом виновных.
– Пусть Матреша после обеда повторит все молитвы, а Даша заштопает два старых чулка, – проговорила она, ни к кому особенно не обращаясь. – А ты как смеешь грубить? – спросила она у Анны.
– Я не грубила, – ответила девочка, – а только она меня назначила дежурной, когда не мой черед, так я сказала…
– Ты говоришь дерзко, – остановила Катерина Алексеевна. – После чая поставить ее на два часа на колени, и чтоб она связала шесть дорожек чулка. Смотрите, чтобы все было в порядке. Сегодня приедет директор с новой надзирательницей…
– А вы разве уезжаете, Катерина Алексеевна? – робко осмелилась спросить помощница, подавляя радостный огонек, сверкнувший в глазах ее, и стараясь придать лицу своему удивленно-испуганное выражение.
– Конечно. Я давно хлопочу избавиться от этой каторжной жизни, да все никак не могли найти на мое место, наконец, говорят, нашли…
Она сжала губы с нескрываемым презрением к своей преемнице и вышла из комнаты в сопровождении помощницы.
– Слышите, девушки, новая надзирательница, – закричали девочки, едва замолкли шаги уходившего начальства. – Уходит наша кикимора (это нелестное прозвище давно утвердилось за Катериной Алексеевной). Слава тебе, Господи. Ишь, говорит: «каторжная жизнь», а, небось, десять лет здесь жила… Ей с нами каторжная жизнь, а нам с ней сладко, что ли, было?
Девочки позабыли о недопитом чае, о недоеденных кусках булки, они повскакали с мест, шумели, волновались. Много труда стоило помощнице привести их в надлежащий порядок. Сама она была взволнована, может быть, не меньше их: перемена надзирательницы должна была отразиться и на ее судьбе, но она привыкла сдерживать свои чувства, только на бледных щеках ее выступили два красных пятна, руки ее дрожали, и голос, которым она отдавала приказания, звучал раздражительнее, чем обыкновенно:
– Маленькие – в класс. Дежурные, скорей убирать посуду! Зачем встаете с булкой в руках? Уносите, уносите кружки. Кто не допил, тому и не нужно. Маленькие, не толкайтесь, идите попарно! Феклуша, ты опять драться. На колени захотела? Старшие, за работу. Тише, не кричать! Чей услышу голос, того без обеда. Анна, ты чего усаживаешься? Забыла разве, что велела Катерина Алексеевна. Вот твой чулок, смотри, не зевай по сторонам, пока не свяжешь шести дорожек, не спущу с колен.
– Да ведь Катерина Алексеевна уходит, как же она смеет наказывать, – проговорила Анна, очень неохотно берясь за толстый нитяный чулок.
– Уходит она или нет, это тебя не касается, а пока она здесь, ты должна слушаться и ее, и меня. Ты думаешь, новая надзирательница потерпит грубость? Как бы не так! Вот, постой, я тебя продержу на коленях, пока они с директором приедут и увидят, какая ты дрянная девочка…
Во время грозной речи Марьи Семеновны Анна стала на колени в угол комнаты с чулком в руках. На лице ее не выражалось ни тени покорности или раскаяния, напротив, она злобно глядела исподлобья, а при последних словах самым дерзким образом высунула язык.
Между тем остальные девочки усаживались по местам. Младшие ушли в соседнюю классную комнату, где они должны были учиться грамоте под руководством учительницы. Старшие в это время занимались рукоделием: они шили белье и платья как на свое отделение, так и на верхний этаж, где помещались малютки от двух- до семилетнего возраста. Работы всегда было много, и она исполнялась небрежно или медленно. Марья Семеновна, обучавшая воспитанниц рукоделию, получала выговоры и от надзирательниц, и от самого директора, а между тем девочкам было очень скучно проводить три часа за однообразными швами, и они всячески старались увильнуть от дела и дать себе минутку отдыха: у одной вдруг делалось кровотечение носом – и ей необходимо было бежать в спальню, у другой ломалась иголка, у третьей наперсток был слишком велик и все сваливался с пальца, так что приходилось отыскивать его, ползая по всему полу. Беспрестанно раздавались сердитые возгласы Марьи Семеновны:
– Перестаньте шалить! Дуня, не разговаривать! Катя, ты все криво нашила, распори! Феня, ты опять ничего не делаешь? – без обеда! Даша, работай стоя. Маша, ты опять встала с места, дрянная девчонка! Анюта, где твоя работа? Без гуляния!
Иногда, не довольствуясь окриками, Марья Семеновна собственноручно расправлялась с провинившимися.
В этот день ей было особенно трудно справляться с воспитанницами. Они были взволнованы известием о приезде новой надзирательницы, и вместо того, чтобы сидеть как можно тише, работать как можно прилежнее, показать себя с лучшей стороны, они беспрестанно вскакивали с мест, перешептывались, хихикали и делали стежки вкривь и вкось. Марья Семеновна уже оставила половину класса без обеда и четверть без прогулки, двух заставила шить стоя, одной посулила засадить ее за работу на все воскресенье, но ничто не помогало. Щелчков и пощечин она раздавала менее обыкновенного: кто знает, понравится ли такая бесцеремонная расправа с детьми новой надзирательнице, лучше было на всякий случай несколько сдерживать свои руки…
Между тем время шло, а эта новая начальница все не являлась. На больших часах в коридоре пробило десять, половина одиннадцатого, одиннадцать. У Анны сильно болели колени, и она пользовалась каждой минутой, когда помощница не видела ее, чтобы присесть на корточки. Два часа, назначенные ей Катериной Алексеевной, прошли, но чулок подвигался медленно вперед, она связала всего только четыре дорожки из заданных шести.
При каждом шуме на улице Марья Семеновна нервно вздрагивала и прислушивалась. И вот, наконец, у подъезда раздался резкий звонок, послышался громкий голос директора, шаги… Марья Семеновна побледнела, все девочки невольно притихли, Анна вытянулась и усиленно зашевелила спицами.
Глава II
Дверь отворилась, и в комнату вошел директор приюта – толстенький, низенький, вечно улыбающийся Петр Степанович. За ним следовала высокая, худощавая дама, одетая в глубокий траур. Сзади, как бы нехотя, выступала Катерина Алексеевна.
– Здравствуйте, здравствуйте, деточки, – громко, быстро заговорил директор, отвечая на единогласное «Здравствуйте», которым его приветствовали девочки. – Ну, что? Все здоровы, веселы? И слава Богу! Мое почтенье-с, – отвесил он полупоклон в сторону Марьи Семеновны. – А я к вам, деточки, так сказать, и с горем, и с радостью. Горе наше в том, что наша почтенная Екатерина Алексеевна не хочет больше оставаться с нами, – устала, говорит, заботиться о деточках, здоровье порасстроила, отдохнуть надо… Что делать, пусть отдохнет. А мы помолимся Богу, чтобы за ее доброту он послал ей и здоровья, и счастья. А пока, знаю я, нельзя вам оставаться без заботливой попечительницы, без маменьки, так сказать. Вот я и нашел вам новую маменьку (тут он отступил шаг назад и сделал рукой жест, как бы указывая на даму в трауре). Добрейшая Нина Ивановна согласилась заменить вам маменьку. Любите, слушайтесь ее, деточки, во всем, и она будет любить вас.
– Мы понемножку познакомимся, и тогда, надеюсь, полюбим друг друга, – проговорила Нина Ивановна, несколько озадаченная слишком слащавой речью директора. Она подошла к столу, стала рассматривать работу девочек и расспрашивать об их занятиях и времяпровождении.
Директор в это время бегло оглядел комнату и сделал Марье Семеновне замечание по поводу пыли на подоконнике и двух бумажек, валявшихся на полу. Марья Семеновна покраснела, растерялась и что-то начала приводить в свое оправдание, жалуясь на непослушание воспитанниц, но директор перебил ее на полуслове и обратился к Нине Ивановне, приглашая ее пройти в другие комнаты.
– Пойдемте, – согласилась Нина Ивановна, – только позвольте мне сперва обратиться к вам с просьбой. Здесь, я вижу, стоит в углу одна наказанная, нельзя ли простить ее ради моего приезда?
– Наказанная? – спросил директор и только теперь обратил внимание на Анну, все время исподлобья оглядывавшую посетителей. – А пожалуйте-ка сюда, молодая преступница, как изволили нашалить?
Анна встала с колен, неохотно подошла к директору и, вместо того чтобы ответить на его шутливый вопрос, угрюмо молчала, низко опустив голову.
– Слышишь, глупенькая, – продолжал директор, слегка трепля ее по щеке, – какая у вас добрая новая мамаша, хочет простить тебя, шалунью, благодари же ее…
Анна отступила шаг назад и так сердито взглянула из-под наморщенных бровей, что, заметь этот взгляд Петр Степанович, он навряд ли бы счел возможным отменить назначенное ей наказание, но Нина Ивановна быстрым движением подошла к ней, наклонилась, поцеловала ее в лоб и тихим, ласковым голосом сказала ей:
– Иди к подругам, моя милая, и постарайся вести себя хорошо…
Она повернулась к двери соседней комнаты, а вслед за ней поспешил туда же и директор, и Катерина Алексеевна, не нашедшая нужным сказать на прощанье ни одного ласкового слова своим «деточкам».
Девочки волновались. Они не смели говорить громко, так как и директор, и «новая мамаша» были в соседней классной комнате, но никакие убеждения и угрозы бедной Марьи Семеновны не могли заставить их снова взяться за работу. Каждой хотелось хоть шепотом высказать свое мнение и узнать мнение других.
– Она еще нестарая, моложе Катерины Алексеевны, – говорила одна.
– Видели, вся в черном, должно быть, у ней умер кто-нибудь, – громким шепотом замечала другая.
– Кажется, добрая, спросила, не устаем ли мы три часа подряд шить, – сообщала третья.
– Анну простила, должно быть, и нас простит, – выразила надежду толстенькая Матреша.
– А что он говорил-то про Катерину-то Алексеевну, слышали, девушки? Вот умора! За доброту Бог ей здоровья пошлет…
При воспоминании о речи директора девочки не могли удержаться от смеха; сквозь ладони и передники, которыми они зажимали себе рты, прорывалось хихиканье, приводившее Марью Семеновну в отчаяние.
Одна Анна не принимала участия в общем оживлении. Она не последовала совету Нины Ивановны, не пошла к подругам, а стояла неподвижно на одном месте.
«Сказала “милая”, поцеловала… Что это такое?» Никто до сих пор так не целовал девочку, никто не говорил с ней таким голосом… Это новое обращение, эта непривычная ласка вызвали в ней какие-то новые, странные ощущения, какие-то смутные мысли, непонятные чувства. Она стояла среди комнаты недоумевающая, взволнованная, в ушах ее все как будто раздавался ласкающий голос, слово «милая», и она не смела шевельнуться, чтобы не разрушить очарования…
– Что же это, Анна? Тебя простили, так ты думаешь и работать не надо, – окрикнула ее Марья Семеновна. – Садись скорей, дорубливай свою простынку, еще двенадцать минут осталось, успеешь.
К удивлению Марьи Семеновны, Анна без всякого возражения уселась за стол и молча принялась за работу. За обедом дети не видели новую надзирательницу: она была занята приемом от Катерины Алексеевны разных счетов и вещей. Наказанные без обеда уселись за стол вместе с прочими, искоса посматривая на Марью Семеновну. Марья Семеновна недоумевала, как ей поступить. При Катерине Алексеевне она щедрой рукой рассыпала наказания: они обе одинаково находили, что это единственное средство заставить воспитанниц слушаться и работать; но новая надзирательница сразу простила Анну, пожалуй, она будет недовольна, когда увидит у стены целый ряд девочек, побледневших от голода и с жадностью следящих глазами за каждым куском, который проглатывают их более счастливые подруги.
– Куда ни шло, пусть себе едят сегодня, а там – как захочет «новая», – решила она и оставила без внимания своевольство девочек.
Только что дежурные вымыли и убрали посуду, как в комнату вошла Нина Ивановна, ведя за руку бледную, худенькую девочку лет семи, одетую в черное платьице. Увидев ее, воспитанницы, затеявшие было какую-то довольно шумную игру, в одну минуту присмирели и сбились в кучку, как испуганные овцы. Нина Ивановна подошла к ним.
– Дети, – сказала она, – я привела к вам свою дочку, Любочку. Она будет учиться и работать вместе с вами. Надеюсь, вы не будете ее обижать, – она еще маленькая, кажется, меньше всех вас, и почти такая же сирота, как вы: у нее нет отца. Иди же, Любочка, познакомься с девочками, не бойся.
Малютка держалась обеими ручками за платье матери и очень боязливо посматривала на своих будущих подруг.
Несколько девочек тотчас же окружили ее: одна брала ее за руку, другая наклонялась поцеловать ее, третья ласково шептала ей «пойдем, миленькая, иди играть с нами».
Появление «новенькой» доставляет удовольствие воспитанницам всех учебных заведений. Мальчики подвергают обыкновенно более или менее тяжким испытаниям своих новичков, девочки же, напротив, почти всегда встречают своих «новеньких» очень приветливо. А эта новенькая была, кроме того, еще совсем особенная: дочь надзирательницы, главной начальницы, от которой можно было и потерпеть много горя, и получить много милостей. Не только взрослая Малаша, но даже маленькая Таня понимала, что очень выгодно заслужить ее расположение, приласкав малютку. Кроме того, это была девочка, непохожая на «сирот», как будто из другого мира: и одета она была не так, как они, – не в длинном сером платье, неуклюжем переднике и толстых башмаках, а в коротеньком черном платьице, в черных чулках и маленьких туфельках. Белокурые волосы ее не были острижены под гребенку, как у всех них, а вились барашком вокруг головы и спускались бесчисленными локонами на белую шейку, красиво окаймленную кружевцами, пришитыми к вороту платья. Этот простой, но очевидно сшитый заботливой рукой матери наряд показался девочкам удивительно красивым и богатым, а вся она – со своей нежной кожей, крошечными ручками и ножками, застенчивыми манерами и тоненьким голоском – представлялась каким-то необыкновенным существом.
– Вы, кажется, играли, дети, – опять заговорила Нина Ивановна, – пожалуйста, продолжайте, не стесняйтесь, а я посижу здесь с Марьей Семеновной: мы совсем еще не успели с ней познакомиться.
Она отошла вместе со своей помощницей в угол комнаты и предоставила детям играть и резвиться.
Прерванная игра опять началась, но без прежнего оживления, как-то тихо, боязливо. Несмотря на позволение надзирательницы, девочки боялись при ней шибко бегать, громко кричать. Кроме того, они считали своей обязанностью занимать Любочку, а та продолжала дичиться и совсем не умела играть с ними.
Свободное время детей было непродолжительно. В половине второго старшие должны были идти в класс учиться, а младшие приниматься за работу – за вязание чулок или за шитье. Заниматься рукоделием с младшими казалось Марье Семеновне едва ли не труднее, чем со старшими. Те только ленились и шалили, а эти, кроме того, оказывались в высшей степени непонятливыми. Они ставили вкривь и вкось громадные стежки, беспрестанно выдергивали нитку из иголки, кололи себе пальцы, и тому подобное. Особенно же мучительно было и для учительницы, и для учениц вязание. Маленькие ручки не могли удержать четырех спиц толстого нитяного или шерстяного чулка, петли как-то незаметно соскальзывали, клубки скатывались на пол. Долгое сидение на месте и однообразная работа утомляли детей, пальцы у них потели и болели, глаза слипались, голова неудержимо клонилась к столу. Чтобы возбудить их внимание и прилежание, Марья Семеновна знала одно только средство – строгость, и в комнате беспрестанно раздавался плач побитых или наказанных ею.
Нина Ивановна взялась сама помочь ей вести урок, и дело пошло лучше. Во-первых, она решила, что после каждого часа работы дети должны иметь десять минут отдыха; во-вторых, она позволила двум самым младшим, для которых чулок составлял непреодолимую трудность, вязать на двух спицах узкие длинные тесемки вместе с Любочкой, наконец, она задала каждой девочке не очень длинный урок и пообещала тем из них, которые кончат этот урок раньше четырех часов, новое, гораздо более веселое занятие. Всем девочкам очень хотелось узнать, что это такое за занятие, и к половине четвертого только четыре ленивицы еще сидели за своими чулками. Все остальные убрали работу в шкаф и окружили Нину Ивановну, с нетерпением ожидая, что такое она им покажет. Она дала каждой из них по паре ножниц и по листу синей бумаги, из которой они должны были вырезать какие хотели фигурки, с тем чтобы сберечь их и на другой день наклеить в тетради белой бумаги. До сих пор детям позволяли брать ножницы только для того, чтобы обрезать нитки при шитье, лишней же бумаги у них никогда не было в руках. Они обрадовались этой замене неприятного чулка, но еще больше удивились и несколько минут совсем не знали, как взяться за дело. Оказалось, что в этом маленькая Любочка была искуснее всех. Она тотчас же вырезала из своей бумаги кружок с загнутой палочкой сверху и назвала это «яблочком». Дети нашли, что это в самом деле яблоко, и попробовали вырезать то же. Нина Ивановна помогала самым неумелым, и скоро на столе появилось множество кружочков, палочек, трех- и четырехугольников, которые, по мнению детей, представляли ту или другую вещь. Час пролетел незаметно, и когда в половине пятого старшие вернулись из класса в столовую, их встретили не хмурые, заплаканные, а веселые, оживленные личики. Дежурные раздали всем по куску черного хлеба с солью. До пяти часов все девочки отдыхали, а с пяти до семи работали старшие – теперь их была очередь вязать ненавистные чулки.
– Что, они, я думаю, не меньше маленьких скучают за этой работой? – спросила Нина Ивановна у Марьи Семеновны, совсем не знавшей, как держать себя, когда не приходилось ни наказывать, ни бранить детей.
– Да, очень ленятся, – отвечала Марья Семеновна. – Только тем и можно заставить работать, что поставишь среди комнаты на колени. К семи часам почти что ни одна не сидит на месте.
Нина Ивановна решила и на старших подействовать иначе. Она им, так же, как и маленьким, задала уроки, закончив которые, они могли убрать работу и заниматься, чем хотели, предложила им вязать каждый ряд наперегонки, записывая, кто будет чаще завершать прежде всех, и обещала, что самым лучшим работницам даст на другой день вязать или тонкие детские чулочки, или перчатки. Она не запрещала, как Марья Семеновна, разговоров во время работы, напротив, сама разговаривала с детьми, выспрашивала их, чем они занимались в школе, какую книгу читали, и сама рассказала им маленькую сказку. Нельзя сказать, чтобы все девочки равно и усердно принялись за дело. Некоторые зевали, глядели по сторонам, пересмеивались друг с другом и беспрестанно вскакивали со своих мест, так что их работа почти не подвигалась. Но большей части очень понравилось вязать наперегонки. Оказалось, что маленькая Саша три раза кряду закончила прежде всех. Это раззадорило старших девочек; Малаша и Ольга стали так быстро шевелить пальцами, что Нине Ивановне приходилось только удивляться, как скоро кончались у них ряды. Анна обыкновенно считалась самой ленивой работницей, и ей всегда приходилось одной из первых становиться на колени. Вязать она умела, и даже очень хорошо, когда хотела, но дело в том, что не хотела она почти никогда. Чуть только примется она за работу и заметит, что Марья Семеновна следит за ней, как у нее является непреодолимое желание «сделать назло». Она или бросит клубок вверх, как мячик, или напялит чулок на руку, или начнет разматывать нитки, пока они все запутаются. Марья Семеновна, конечно, не спускала ей ни одной из этих шалостей. Но наказания не смиряли, а еще больше ожесточали девочку: отхлопают ее по рукам, выдерут за уши, продержат несколько часов на коленях, оставят без обеда или ужина, запрут на целый день в темную комнату – она побледнеет, нахмурится, но продолжает лениться, отвечать грубостью на замечания и пользоваться всяким случаем, чтобы сделать неприятность Марье Семеновне. Задавая всем уроки, Нина Ивановна сказала ей с ласковой улыбкой:
– Я хочу задать тебе поменьше, Анна, ты сегодня утром долго вязала. Или, может быть, тебе будет обидно взять урок меньше, чем у Даши и Усти: ты, ведь, кажется, старше их?
Никогда прежде Анне не приходило в голову, что можно обидеться из-за маленького урока, но теперь ей показалось, что в самом деле стыдно ей, большой, сделать меньше девочек, недавно перешедших из младших в старшие.
– Задавайте мне как всем, – проговорила она нетвердым голосом.
– Ну, вот и отлично! – похвалила Нина Ивановна. – Я так и знала, что ты не захочешь отстать от других.
Это опять-таки было новостью для Анны: она отставала всегда во всякой работе, но теперь ей вдруг захотелось доказать Нине Ивановне и всем девочкам и, кажется, главное самой себе, что она в самом деле не хуже других.
Она усердно принялась за чулок и, если бы не ловкая Саша, закончила бы свой ряд первой. Она торопится, щеки ее горят, пальцы дрожат от волнения – опять Саша, какая досада! Теперь Малаша… Теперь Ольга… Опять Саша! Противная! А Анне оставались только две петли.
Нина Ивановна замечает, что соперничество волнует не одну Анну, и, чтобы утешить тех, кто не может быть первыми, предлагает записывать и вторых, и третьих.
Теперь Анна торжествует. Она беспрестанно оказывается третьей и даже раза четыре второй.
Чулки удлиняются в руках девочек, они незаметно подвигаются к концу урока, и Марья Семеновна с удивлением замечает, что сегодня, пожалуй, никого не придется ставить на колени.
Между тем маленьким так понравилось вырезывание из бумаги, что они выпросили себе у Нины Ивановны ножницы и усердно истребляли старые тетради, превращая их в весьма мало сходные с действительностью изображения разных предметов. Любочка работала успешнее всех, и перед ней разложено было множество окошек, лестниц, бочонков, двуногих собачек и совсем безногих девочек. Ее искусству завидовали, у нее выпрашивали ее произведения, но она крепко защищала свою собственность и на все просьбы подруг отвечала:
– У тебя есть ножницы, режь сама…
– Любочка, – приставала к ней Матреша, никак не умевшая справиться с ножницами, – давай меняться: я тебе подарю вот эту косыночку (она положила на стол какой-то кривой отрезок бумаги), а ты мне дай собачку.
– Не хочу, – решительно проговорила Любочка, – моя собачка лучше.
– Нет, так нельзя, – заспорила хитрая Матреша, – косыночка уже лежит с твоими вещами, я возьму собачку.
И она потянулась за одной из безногих собачек, но Любочка прикрыла свои сокровища обеими руками и даже легла на них головой. Матреша, не долго думая, ухватилась за ее курчавые волосы и со всей силы потянула их. Любочка громко вскрикнула от боли, но прежде чем Нина Ивановна или Марья Семеновна успели подоспеть ей на помощь, Матреша получила такой сильный удар по рукам и по спине, что, оставив свою жертву, с криком и слезами отбежала прочь, а подле Любочки очутилась Анна, взволнованная, раскрасневшаяся.
По правилу заведения, строго соблюдавшемуся Марьей Семеновной, в случае драки все виновные в ней без всякого разбора дела равно подвергались наказанию. Но Нина Ивановна находила, что и Любочка, и Матреша достаточно наказаны. Любочка, никогда прежде не подвергавшаяся подобным нападениям, прижималась к матери и жалобно рыдала, Матреша плакала от боли и от неожиданности удара… Что касается Анны, то, прежде чем осудить ее, Нина Ивановна хотела узнать – вследствие чего она так непрошенно вмешалась в дело. Сидела себе спокойно, вязала, по-видимому, прилежно, радуясь, что урок почти кончен, и вдруг в одну секунду очутилась в другом углу комнаты и так бесцеремонно расправилась с подругой.
– Анна, из-за чего это ты так набросилась на Матрешу? – спросила у нее Нина Ивановна серьезным, но ласковым голосом.
– А зачем она обижала Любочку, – проговорила девочка, смотря, по обыкновению, угрюмо исподлобья.
– Да ведь они поссорились, и ты не знала, кто из них виноват, может быть, и Любочка, – за что же ты прибила Матрешу?
– Все равно она не смеет трогать Любочку! – решительным голосом сказала Анна.
– Отчего же? Мне бы хотелось, чтобы вы считали Любу совсем такой же девочкой, как вы, и обращались с ней так же, как друг с другом. Правда, она меньше всех; может быть, ты оттого ее пожалела?
Анна отрицательно покачала головой. Она чувствовала, что заступилась за Любочку совсем не как за маленькую, слабенькую. Каждый день она совершенно равнодушно смотрела, как старшие девочки били младших, и сама нисколько не щадила слабых, но Любочка другое дело… «Любочка ваша, а вы меня приласкали, вы сказали мне доброе слово, я для вас это сделала», – хотела бы она сказать, но не сумела и не посмела.
– Я никогда и никому не позволю обижать Любочку, – проговорила она после нескольких секунд молчания.
Должно быть, Нина Ивановна отчасти прочла на лице девочки ее чувства, и у нее не хватило духу бранить ее за расправу с Матрешей.
– Благодарю тебя за мою глупенькую дочку, – еще более ласковым голосом сказала она, – только, пожалуйста, из-за нее не бей других: мне это будет очень, очень неприятно… А теперь иди скорей – довязывай свой урок: видишь, уж пятеро закончили, мне не хочется, чтобы ты отставала от других.
Анна подняла голову, глаза ее блеснули. Отставать – вот еще! С какой стати ей отставать? Она схватила свой чулок и так усердно принялась за него, что кончила урок ранее семи часов. За ужином она исполняла свое дежурство так ловко и расторопно, что даже Малаша, всегда ворчавшая, зачем ей дают в помощницы такую «неповоротливую дуру», ни разу не сделала ей ни одного замечания.
Глава III
Порядки, которые Нина Ивановна стала вводить в сиротском доме, вызвали прежде всего общее недоумение.
– Не выдрать за уши, не хлопнуть по руке девчонку, – ворчала Марья Семеновна, – да это ни на что не похоже! Они после этого и уважения никакого к нам не будут иметь.
– Слышали, девушки? – объявляла Паша: – Нина Ивановна сказала, чтобы Соню Крылову вовсе не назначать никогда на дежурство.
– Это отчего? Что такое? – волновались воспитанницы.
– Она говорит, что Соня слабая, что ей не под силу дежурить, – объяснила Паша.
– А что, она и вправду слабая, – согласилась Ольга. – Намедни мы с ней вместе таскали воду в умывальники, так жаль было на нее смотреть. Я несу два ведра – мне нипочем, а она с одним взошла на лестницу, а дальше и не может, села на ступеньку – бледная вся, еле дышит…
– Эка беда! Из-за этого не дежурить? – возражали другие. – Баловство какое! Она будет сидеть сложа руки, а мы за нее работай! Этак всякая скажет: «больна, не могу».
– Тебе-то, Глаша, нельзя сказать: ты вон какая толстая да краснощекая, а Соня – посмотри, в чем душа только держится! – заметила Ольга.
– Чего «в чем душа»? – не унималась Глаша. – При Катерине Алексеевне, небось, работала, не смела жаловаться. Посидела бы денька три на хлебе и на воде, так забыла бы свои болезни.
Ольга, не любившая спорить, замолчала, но в глубине души и она, и многие другие сознавали, что Нина Ивановна права, что нельзя слабую, болезненную Соню заставлять работать наравне с крепкими, сильными девочками…
Паша дежурила в столовой и, перемывая посуду, нечаянно разбила кружку. Разбить или разорвать что-нибудь считалось в сиротском доме одним из важнейших преступлений. Паша, девочка вообще робкая, вся побледнела и с ужасом глядела на черепки, валявшиеся на полу. Ни Марьи Семеновны, ни Нины Ивановны в комнате не было. Девочки засуетились вокруг бедной Паши, и каждая давала ей какой-нибудь совет.
– Ты скажи, что не знаешь, кто разбил, – учила ее одна, – скажи, что кружка лежала на столе разбитая, и мы все скажем, что не знаем.
– Нет, лучше возьми скорей черепки в карман и выбрось их: может, сегодня не заметят, – советовала другая.
– Еще лучше вот как сделай, – предлагала третья: – составь все кусочки вместе да и поставь в шкаф. Марья Семеновна начнет считать кружки, у нее в руках и развалится…
Никому из девочек и в голову не приходило, что все это ложь, обман, что несравненно хуже солгать, чем разбить чашку. Да и с чего бы им это пришло в голову? Они часто лгали, обманывали, и ложь их иногда оставалась неоткрытой, а следовательно, и ненаказанной, за каждую же испорченную вещь их наказывали, и наказывали очень сурово. За такую же разбитую кружку Саша Большая оставлена была без чаю на целую неделю, а Пашу, за то, что она разбила стекло от лампы, Катерина Алексеевна сама била линейкой по рукам до того, что все пальцы девочки распухли.
В коридоре раздался голос Нины Ивановны. Одна из девочек собрала черепки и быстро сунула их в карман Паше, которая продолжала стоять в каком-то оцепенении. Войдя в комнату, Нина Ивановна тотчас заметила, что что-то не ладно.
– Что случилось, дети? – спросила она. – Паша, что с тобой? Чего ты так побледнела?
Паша от страха сама не понимала, что делает. Машинально опустила она руку в карман и машинально же вынула оттуда несчастные черепки.
– Что это такое? Как же это с тобой случилось? Ты шалила?
Паша ничего не отвечала. Она опустила голову и заплакала.
– Она нечаянно-с, Нина Ивановна, право, нечаянно, – заговорило несколько голосов. – Стала вытирать кружки, а кружка и выпала. Она не шалила, право, не шалила, Нина Ивановна…
– Ну, если вы это говорите, так я вам верю, – сказала Нина Ивановна. – Не плачь, Паша, беда не особенно велика; только в другой раз старайся быть осторожнее.
И это все? Ни побоев, ни наказаний, ни даже строгого выговора?.. Паша долго не могла прийти в себя от удивления, да и все девочки были в порядочном недоумении.
– Ну, девушки, – провозгласила в тот же день Дуня Краснова, – новая надзирательница и впрямь наказывать не будет. Вчера Феня Малова так нашила, что все пороть пришлось, а она ей хоть бы что, сегодня Паше также ничего, да после этого неужели я работать буду? Нашли дуру. Да ни в жисть.
– И вправду! Не наказывают, так из-за чего стараться?.. И Марья-то Семеновна нынче тихая стала: не дерется, не кричит. Все: «пожалуйста» да «пожалуйста», думает – мы ее слушать станем, как бы не так!
И шалуньи поднимали такой шум, такую возню, обращали так мало внимания на увещания Марьи Семеновны, что та приходила в совершенное отчаяние. Однако их надежда на безнаказанность оказалась неосновательной. Правда, Нина Ивановна не била их, наказывала гораздо реже и мягче прежнего, но ее наказания показались им едва ли не более тяжелыми, чем наказания Катерины Алексеевны. Стоять на коленях среди комнаты, рядом с дюжиной подруг, было, конечно, неприятно, но гораздо менее неприятно, чем работать за отдельным столиком и шить не то, что шили большие, а какое-нибудь толстое полотенце или грубый передник, как маленькие. Щелчки и колотушки Марьи Семеновны заставляли детей вскрикивать от боли, но когда боль проходила, у них оставалась только злость, желание отмстить за нее. Когда же Нина Ивановна уличала кого-нибудь в проступке и старалась мягкими, но серьезными внушениями довести до сознания и раскаяния, виновная горько плакала, но ни на кого не злилась и была некоторое время необыкновенно тиха, внимательна к своим поступкам.
– Право, уж лучше бы она меня прибила, чем такие жалкие слова говорить, – рыдала резвая, но очень чувствительная Дуня. – Так она этими самыми словами пронимает, точно ножом по сердцу скребет.
Нина Ивановна очень часто представляла девочкам, в какое несчастное, беспомощное положение они будут поставлены, если, прожив до шестнадцати лет в приюте, ничему не научатся, не сумеют заработать сами себе на кусок хлеба. Ее рассказы производили впечатление, особенно на старших; они стали задумываться, понимать, с какой целью от них требуют аккуратности и прилежания, стали внимательнее относиться к своим обязанностям, работать и учиться не только ради одного страха наказания.
Младшие не останавливались на таких серьезных мыслях. Им оставалось жить в приюте еще четыре, шесть, восемь лет, – стоит ли думать о том, что будет после? Но многие из них просто полюбили Нину Ивановну. Ее приветливое обращение, ее ласки тронули сердца детей, которые до сих пор во всякой начальнице, во всякой воспитательнице видели только своего врага. Они стали ценить ее похвалу, ее одобрение, боя лись рассердить, огорчить ее, и это удерживало их от многих шалостей.
Влияние Нины Ивановны отразилось всего сильнее на Анне Колосовой. Передавая своей преемнице список воспитанниц заведения, Катерина Алексеевна сказала ей про Анну: «это самая испорченная из всех девчонок, ее следовало бы просто выгнать, на нее уж ничто не действует». Она и не подозревала, как подействует на девочку один поцелуй, одно ласковое слово.
Когда Анне было всего несколько дней от роду, ее нашли у дверей приюта, завернутую в какие-то тряпки, полумертвую от холода и голода. Она не знала ни родителей, ни родных, не видала никакой другой жизни, кроме жизни в приюте. Крикливый ребенок, она не пользовалась расположением нянек, а главная надзирательница младшего отделения постаралась как можно скорее отделаться от нее, благо она была довольно высока и сильна для своего возраста. Шести лет ее перевели в старшее отделение, где ей пришлось работать и учиться наравне со всеми.
С первых же дней дело пошло дурно. Малютка скучала и уставала долго сидеть на одном месте, работа валилась у нее из рук, ей неудержимо хотелось побегать, покричать, а Марья Семеновна немедля стала приучать ее к труду и послушанию своими обычными средствами. Первые наказания не смирили Анну, не внушили ей благодетельного страха к начальству: они только злили ее, вызывали упорное сопротивление. Она упрямо отказалась становиться на колени; когда ее оставили без обеда, она принялась топать ногами и кричать страшнейшим образом, когда Марья Семеновна ударила ее, она сердито засверкала глазами и сама замахнулась на нее сжатым кулачком. Наказание розгами редко применялось в приюте, и то в особенных случаях. Решили, что только этим средством можно смирить необузданную девочку. Анну высекли, высекли так больно, что она захворала и затем поняла необходимость послушания. Она перестала кричать, перестала замахиваться на Марью Семеновну, она по первому приказанию становилась и в угол носом к стене, и на средину класса, и на колени, но это не сделало ее ни трудолюбивее, ни, главное, добрее. Она пользовалась всяким удобным и неудобным случаем, чтобы увильнуть от работы и, не смея открыто восставать против начальниц, в душе ненавидела их сильнейшим образом. Насмешливая улыбка, с какой она исполняла всякое приказание, выводила из себя Марью Семеновну. Когда она, кусая побледневшие от злости губы, смотрела исподлобья сердитыми глазами на Катерину Алексеевну, та непременно удваивала назначенное ей наказание. Подруги также не очень любили Анну. Одни боялись дружить с ней потому, что она была на дурном счету у начальства и из-за нее легко было попасть в беду, другим не нравилась ее раздражительность и неуступчивость. А между тем Анна вовсе не была девочкой злой, неспособной к нежным чувствам. Она видала, как к некоторым девочкам приходили их бабушки или тетки, как они их ласкали, давали им гостинцы и разные мелкие вещицы.
«Отчего это ко мне никто такой не придет?» – думалось девочке. Ей становилось невыносимо грустно, ей хотелось плакать, но о чем – она и сама не понимала. Если в эти минуты подруги звали ее играть или приставали к ней с разговорами, она отвечала им сердито, отталкивала их, а они называли ее «противной злючкой». Часто вечером, лежа в постели после особенно несчастного дня, она представляла себе, как было бы хорошо, если бы вдруг к ней пришла такая же маленькая беленькая старушка, какая приходит к Тане, и положила бы эта старушка свою морщинистую руку ей на голову и сказала бы таким же тихим, добрым голосом, каким говорила Танина бабушка: «Дитятко ты мое бедное, много тебе приходится терпеть!» Анна сочиняла целые длинные разговоры с «беленькой старушкой», она и плакала, и улыбалась, и хорошо ей было… Вдруг раздавался резкий голос Марьи Семеновны:
– Все спят, ты одна вертишься в постели да пялишь глаза, Анна. Мало была наказана сегодня, еще захотела?
Мечты Анны разлетались, она сердито куталась в одеяло и засыпала со злобой в сердце.
Когда девочки волновались при известии о перемене надзирательницы, Анна оставалась безучастной.
«Не все ли равно: эта ли, другая ли? Они ведь все злые», – думалось ей, когда она, стоя на коленях, исподлобья поглядывала на Нину Ивановну, только что приехавшую в приют. И вдруг эта «другая» подходит к ней, избавляет ее от неприятного наказания, говорит с ней ласковым голосом, целует ее… В первую минуту Анна была до того изумлена, что как-то совсем не могла прийти в себя. Это слишком походило на ее мечты о «беленькой старушке»… Но часы проходят, ласковый голос опять слышится, хвалит, ободряет ее, – нет, это уж «вправду».
И Анна вдруг в первый же день почувствовала к Нине Ивановне что-то особенное, чего она еще ни к кому не чувствовала, – сильную, нежную любовь, страстное желание угодить ей, заслужить ее внимание. Ради этой любви заступилась она за Любочку, ради этой любви работала она, как никогда в жизни.
– Что это вы так бранили Анну Колосову? – говорила Нина Ивановна Марье Семеновне. – Мне кажется, она очень старательная и хорошая девочка.
– Да она и вправду последнее время как-то стала получше вести себя, – отвечала Марья Семеновна, – а может быть, она это просто хитрит; без вас она ведь совсем не такая, как при вас.
Марья Семеновна была отчасти права. Хотя Анна вовсе не хотела хитрить, но действительно в отсутствие Нины Ивановны ничто не побуждало ее вести себя хорошо, и она очень часто становилась той грубой, ленивой, заносчивой девочкой, которую преследовала Катерина Алексеевна.
– Анна, садись за стол, видишь, все уже сели! – говорила ей Марья Семеновна.
– Сама знаю! Чего вы пристаете? – тотчас огрызалась девочка.
– Анна, смотри-ка, Феня взяла твой наперсток, – доносила Паша.
– А вот я ей покажу, как брать чужие вещи!
И Анна налетала на маленькую Феню, вырывала у нее наперсток и при этом толкала ее так грубо, что та падала на пол.
Иногда Нина Ивановна входила именно в ту минуту, когда Анна дерзко говорила с ее помощницей или слишком бесцеремонно расправлялась с младшими подругами. Увидев ее, девочка робела, конфузилась и смотрела на нее такими умоляющими глазами, что у Нины Ивановны не хватало духа бранить ее.
– Привалило Колосовой счастье, – подсмеивались девочки. – Бывало, ее каждый день бьют и наказывают, а нынче все похваливают. Других Нина Ивановна бранит, а ей все «милая» да «умница». В «любимки» попала.
Может быть, девочки отчасти и были правы. Нина Ивановна вовсе не хотела баловать Анну, отличать ее от других, делать ее «любимкой», как они выражались, но с первых же минут своего вступления, при взгляде на бледную черноглазую девочку, терпевшую тяжелое наказание, ей стало жаль этой девочки, ей захотелось приглядеться, заслуживает ли она в самом деле жестокий приговор Катерины Алексеевны. В первый же вечер Анна заступилась за ее маленькую дочку и этим расположила ее в свою пользу. Она видела, что у девочки вследствие дурного воспитания развилось много недостатков, но что у нее все-таки есть желание и сила воли поступать хорошо. Ей нравилось, что Анна, грубая и своевольная с другими, была всегда кротка и послушна с ней. Невольно отличала она ее от прочих, невольно показывала ей больше внимания и больше снисхож дения.
Раз как-то Анна проснулась с головной болью и в очень дурном расположении духа: она была в этот день дежурной по спальне, а этого дежурства воспитанницы особенно недолюбливали. Таскать ведра с грязной и чистой водой, подтирать пол, чистить умывальники – все это были работы и трудные, и неприятные. А Анне, как нарочно, пришлось дежурить вместе с Лизой Сомовой, ленивой и хитрой девушкой, всегда сваливавшей большую часть труда на младших помощниц.
– Выноси грязную воду, пока я чищу умывальники! – сказала она Анне.
Анна ничего не возразила и хоть ворчала про себя, но аккуратно стащила во двор и вылила в помойную яму все восемь ведер мыльной воды. Она устала, голова ее разболелась еще сильнее, руки и плечи ныли, она присела отдохнуть, пока ее ленивая подруга, еле двигая руками, продолжала копаться над чисткой умывальников.
– Анна, ты чего же это расселась? – закричала вдруг Лиза. – Неси скорей чистую воду, я сейчас кончу…
– Ишь, выдумала! – рассердилась Анна. – Я таскай и помои, и воду? Как бы не так! Бери сама ведра да отправляйся.
– Скажите, пожалуйста, я буду работать, а она сидеть сложа руки? Нашла дуру! Давно ты не бита, так зазналась… Иди сейчас же за водой, не то я тебе таких тумаков надаю, что ты у меня вскочишь. Не посмотрю и на твою Нину Ивановну.