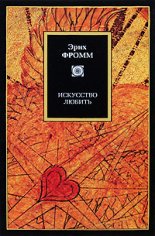Москва Ква-Ква Аксенов Василий

Часть I
Чертог чистых чувств
В начале 50-х годов ХХ века в Москве, словно в одночасье, выросла семерка гигантских зданий, или, как в народе их окрестили, «высоток». Примечательны они были не только размерами, но и величием архитектуры. Советские архитекторы и скульпторы, создавшие и украсившие эти строения, недвусмысленно подчеркнули свою связь с великой традицией, с творениями таких мастеров «Золотого века Афин», как Иктинус, Фидий и Калликратус.
Эта связь времен особенно заметна в том жилом великане, что раскинул свои соединенные воедино корпуса при слиянии Москвы-реки и Яузы. Именно в нем расселяются все основные герои наших сцен, именно в нем суждено им будет пройти через горнило чистых, едва ли не утопических чувств, характерных для того безмикробного времени. Возьмите центральную, то есть наиболее возвышенную, часть. Циклопический ее шпиль зиждется на колоннадах, вызывающих в культурной памяти афинский Акрополь с его незабываемым Парфеноном, с той лишь разницей, что роль могучей городской скалы здесь играет само гигантское, многоступенчатое здание, все отроги которого предназначены не для поклонения богам, а для горделивого проживания лучших граждан атеистического Союза Республик.
С точки зрения связи с античным наследием любопытно будет рассмотреть также рельефные группы, венчающие исполинские, в несколько этажей въездные арки строения. Периферийные группы изображают порыв к счастью, в то время как центральные обобщают эти порывы в апофеоз – счастье достигнуто! Мужские фигуры рельефов обнажены до пояса, демонстрируя поистине олимпийскую мощь плечевых сочленений, равно как и несокрушимую твердыню торсов. Женские же фигуры, хоть и задрапированные в подобие греческих туник, создают отчетливое впечатление внутренних богатств. Что касается детских фигур, то они подчеркивают вечный ленинизм подрастающего поколения: шортики по колено, рукавчики по локоть, летящие галстуки, призывные горны. Над всеми этими рельефными группами порывов и апофеозов реют каменные знамена. Грозди, снопы и полные чаши завершают композицию и олицетворяют благоденствие. Интересно, что динамика рельефов как бы завершается статикой полнофигурных скульптур, расположенных то там, то сям на высотных карнизах. Эти могучие изваяния с обобщенными орудиями труда вполне логично олицетворяют завершенность цели.
Позволим себе все-таки несколько слов критики и для пущей беспристрастности вложим их в уста нашей юной героини Глики Новотканной, проживающей со своими родителями в одной из самых просторных квартир этого здания-града. Всем хороши скульптурные группы нашего дома, иногда задумчиво произносит за семейным обедом Глика, однако с позиций художественного совершенства они все-таки чуть-чуть отстают от прототипов Эллады. Посмотрите, товарищи родители, как воздушны последние и как отчасти несколько тяжеловаты первые. Задуманные, как легконогие девы-нимфы, фигуры у нас чуть-чуть слегка гипертрофически раздуты в области плодоносительного потенциала. Вдохновенные юноши, в которых хотелось бы видеть Париса, все-таки больше тяготеют к дородности Геркулеса, не так ли?
Иногда ей даже хочется чуточку высказаться по поводу общего архитектурного концепта: дескать, не кажется ли вам, любимые товарищи родители, что в общей задумке нашего непревзойденного строения, созданного великолепным скульптором, товарищем Чечулиным, должны звучать не только флейты Аттики, но и роги долины Тигра и Евфрата с ее несколько чуть-чуть как будто бы мрачноватыми шишаками и шарами? Тут она все-таки останавливает свою пытливость, чтобы не задеть чувства родителей, особенно маменьки, Ариадны Лукиановны Рюрих, доктора искусствоведческих наук, широко известной общественной деятельницы, члена правлений Комитета защиты мира, Комитета советских женщин, а самое главное, Комитета по Сталинским премиям СССР.
Ариадна Лукиановна, cама весьма отдаленная от нынешнего скульптурного воплощения женщины, все же направляет на дочь несколько чуть-чуть слегка обеспокоенный взгляд и дает себе зарок в близком будущем урезонить дочь по части греческих богов и тактично подвести ее к фундаментальной мысли о единой вдохновляющей силе Производительного Труда. Ведь не может же современная советская девушка, студентка-отличница МГУ, не понимать, как далеко мы ушли от рабовладельческого строя Древней Греции, в которой и родились эти мифы.
Впрочем, зарок этот немедленно забывался, едва лишь маменька бросала взгляд на папеньку, в широком обществе совершенно неизвестного, то есть абсолютно, по высшей схеме, засекреченного академика-физика и генерала Ксаверия Ксаверьевича Новотканного, своей уверенной и убаюкивающей статью напоминающего как раз Геракла.
Между прочим, Глика (полное имя – Гликерия) и сама вносила свой веский, хоть и юный, вклад в первостатейную семейную устойчивость. Будучи комсомольским лидером студенческого потока на журфаке МГУ да к тому же перворазрядницей по гребле на байдарках, она ничего, кроме стопроцентного одобрения, не снискала в том высотном дворце, который с Ленинских гор ежечасно посылал привет своему собрату в междуречье Москвы-реки и Яузы. Стройная и лучезарная, она отличалась удивительной способностью замыкать на себе внимание учащихся масс, то есть повышать тонус коллектива. Говоря «коллектива», мы имеем в виду всех, ну а о мальчиках уж и говорить не приходится. Все-таки скажем несколько слов. Всякое появление Глики Новотканной среди университетских потоков производило своего рода магнетическую струю, под влиянием которой все стриженные «под бокс» или «полубокс» головы поворачивались в ее сторону, да и как, судите сами, могли эти юноши остаться равнодушными к идеальному существу своего поколения?! Глика Новотканная! Иногда можно было увидеть, как она выпархивает из огромного ЗИСа-110 с ослепительными белыми кругами на великолепных шинах. Ходили неясные слухи, что ее отец принадлежит к числу сугубо засекреченных создателей сверхмощного оружия для завоевания мира во всем мире. Поговаривали также, что живет она с двумя своими родителями, то есть втроем, в восьмикомнатной квартире на восемнадцатом этаже в одном из новых высотных колоссов. Кто-то однажды добавил, что такие квартиры снабжены двумя (!) ванными и двумя (!) туалетами, но этому кому-то тут же советовали помолчать, дабы не расходились по городу дурацкие сплетни.
Так или иначе, но студенческая масса видела в Глике не только ярчайшего представителя своего поколения, но, пожалуй, даже некое существо из феерического близкого будущего, когда вся Москва будет застроена высотными чертогами победоносного Сталинизма, а жители столицы счастья будут передвигаться на личных мотоходах по подвесным виадукам, а то и пассажирскими вертолетами.
Иногда казалось, что она и сама себе представляется чем-то в этом роде, какой-то парящей Девой Социализма сродни той, что осеняла своим полетом обширный перекресток улицы Горького и площади Пушкина. В такие минуты она смиряла свой полудетский скок-перескок по ступеням МГУ, чтобы с должной торжественностью пройти, или, лучше сказать, вознестись, мимо вдумчивого изваяния девушки с книгой. Следует сказать, что некоторая шаловливость не покидала девушку даже в такие моменты. Ах, товарищи скульпторы, слегка чуть-чуть укоряла она, почему же даже «читающая девушка» в вашей интерпретации обладает чертами некоторой, хоть и незначительной, тяжеловатости? Ведь здесь, в храме науки, вы же нам, юным, легким, посвящали свой труд, но не зрелым же нашим победоносным женщинам, не так ли?
Такими шаловливыми мыслями Глика делилась только с тремя ближайшими своими людьми, то есть со своими родителями, плюс еще с одной близкой душою… тут читатель должен крепко упрочиться в своем стуле, как бы в ожидании сдвига земной коры, ибо третьей ближайшей персоной в жизни Глики Новотканной был ее жених. Кто бы поверил на потоке, что у этой вроде бы даже не совсем реальной, высоко парящей девушки, у этого символа нашей советской девственности, уже есть суженый? Ну а если бы стало известно имя этого счастливца, то тут уж точно дрогнули бы все семь московских холмов, качнулись бы шпили всех семи высоток, воссияли бы радостными зарницами наши мирные небеса, потому что женихом Глики был не кто иной, как поэт, шестижды лауреат Сталинской премии, Герой Советского Союза, воитель всех советских войн, начиная с озера Хасан, завершая освободительной борьбой Корейской Народно-Демократической республики, Кирилл Илларионович Смельчаков.
К началу нашего повествования Кирилл подходил уже к 37-летнему рубежу, однако всякий, кто бросил бы на него первый взгляд, тут же бы подумал: вот идеал молодой мужественности! Статный и бравый, он был все еще по-юношески легок в походке, в жестах, в голосе, в мимике. Даже приглядевшись, то есть отметив некоторое серебро в висках и в ворошиловских усиках, всякий бы подумал: вот перед нами великолепные «тридцать с небольшим».
Вообще-то великое множество советских людей прекрасно было знакомо с образом этого героического поэта и только удивлялось, как этот молодой человек сумел так преуспеть в своих деяниях на протяжении стольких пятилеток во славу Родины. Многие еще помнили его суровые репортажи из траншей Гвадалахары и из гущи уличных боев в Барселоне, не говоря уже о его дерзких, под пулями шюцкоровцев, проникновениях за линию Маннергейма.
В мирные периоды очеркист Смельчаков без промедления становился своим человеком на стройках Магнитки, Днепрогэса и Каракумского оросительного канала. Вновь звучала труба классовых битв, и Кирилл за рулем одной из многосотенных армад красных танкеток прокатывался по улицам Таллина, Риги, Вильнюса, Львова, Белостока и пел, пел зарю нового века пролетарской свободы. Ну, и наконец, великое поприще Отечественной войны, сопряженное с парашютными десантами в тыл врага, с прямыми репортажами из пекла танковых ристалищ на огненной Курской дуге, с полетами на бортах челночных «летающих крепостей», с подводными эскортами полярных конвоев антигитлеровской коалиции, это поприще давало ему возможность проявить свою отчаянную смелость и писательское мастерство в создании исполненной сдержанного патриотического восторга галереи портретов сталинских полководцев и рядовых тружеников тыла и бойцов фронта, бьющих фашистского зверя в его собственной берлоге.
С той же решимостью и его привычной, едва ли не «аристократической» сдержанностью (это определение, впрочем, никогда не употреблялось на официальных страницах, что естественно в государстве рабочих и крестьян) Смельчаков примкнул после войны к блестящей плеяде сторонников мира, к Илье Эренбургу, Константину Симонову, Фредерику Жолио-Кюри, Манолису Глезосу и другим всем известным личностям, бесстрашно бросавшим вызов реакционным оборотням империализма, готовым ради сверхприбылей ввергнуть человечество в пучину атомной войны.
Это новое поприще было во многом сложнее поприщ старых. «Лейки и блокноты, а то и пулеметы», конечно, все еще шли в ход, особенно там, где патриоты бросали прямой вызов реакции – ну, предположим, на горных склонах Македонии, в рядах армии генерала Маркоса или на зенитных батареях корейской 38-й параллели, – однако не меньшее мужество требовалось, чтобы неспешными шагами выйти в центр сцены какого-нибудь зала Мютюалите и произнести несколько завораживающих слов:
- Товарищи, сидящие в этом зале,
- как Маяковский, обращаюсь я
- к вашему костяку.
- Встаньте в наш всемирный полк,
- где командиром
- Сталин,
- чтобы прибыло здравого смысла
- человеческому
- косяку!
Эта мирно-партизанская в тылу врага деятельность по причине отсутствия в ней прежнего героического резонанса, может быть, не привлекла бы к личности Кирилла Смельчакова привычного читательского внимания, если бы не сопровождалась она удивительной по своему объему и вдохновению сугубо писательской, а особенно сугубо поэтической деятельностью. Подумать только, в молодые свои годы он был уже автором пятнадцати поэтических сборников, каждый толщиной не менее двух спусковых пальцев. И в каждом из этих сборников возникали перед любителями поэзии образы героических немногословных мужчин, тружеников, или лучше сказать профессионалов войны, в каждом разворачивались драматические пейзажи, готовые ежеминутно расколоться в артиллерийских дуэлях, в поэтическом мире с его мирным закатным небом, с его тонким серпиком луны, что напоминает тебе о любимой, и где вдруг начинается воздушный бой, похожий снизу на детскую игру, откуда время от времени падают вниз отыгравшиеся, наши и немецкие профессионалы и куда вдруг с земли начинают бурно вздыматься гигантские черные клубы дыма от пораженного нефтехранилища, и стоит немалого труда еще прослеживать тоненький серпик луны; ну, в общем, в этом духе.
Вот лишь один пример его рожденной в самом пекле фронтовой лирики.
- Боспорский царь, проснешься ль ты
- От наших пушек?
- Восстань средь кладов золотых!
- Целы ли уши?
- Враг пер, как ошалевший зверь,
- На катакомбы,
- Мы брали Керчь,
- Спускались в смерть,
- А юнкерсы на нашу твердь
- Валили бомбы.
- Где черпал древний Митридат
- Истоки веры?
- Мы верили в свой автомат,
- В порывы штурмовых команд
- И пили за своих солдат,
- За наших рухнувших ребят
- Трофейный вермут.
Стихи такого рода поднимали дух «штурмовых команд», то есть всякого рода десантников и диверсантов, на всем гигантском пространстве действующей армии. Перед смельчаковским культом мужского солдатского братства бледнели трафареты Главполитупра. Именно из этого почтенного управления поползли шепотки о том, что «смельчаковщина» с ее чуждым духу советской военной поэзии «неокиплингианством» противоречит самому духу основной доктрины патриотизма. Стало известно, что в «Красной звезде» готовится основополагающая статья, в которой к Киплингу будет еще пристегнут контрик Гумилев с его «святой жатвой войны».
Однажды Кирилл летел в Польшу на личном самолете маршала Градова. Главком пригласил его зайти в кокпит (он обычно сидел в штурманском кресле) и с улыбкой протянул свежий номер «Звездочки». В статье, которой была отдана целая внутренняя полоса, не было ни одного термина со зловещим суффиксом «щина». Под заголовком «Ты помнишь, товарищ, как вместе сражались» речь там шла о том, что фронтовые стихи молодого коммуниста Смельчакова – это не что иное, как продолжение поэтического эпоса гражданской войны, а также всей традиции патриотизма в ее высшей фазе (запятая и уточнение в стиле Верховного), в фазе сражающейся вместе со всем советским народом литературы социалистического реализма. Именно этим объясняется популярность его стихов среди героев фронта и тыла.
Герой статьи испытал троякое чувство: с одной стороны, угроза идеологического избиения была развеяна, со второй стороны, было лестно узреть себя продолжателем великой традиции, с третьей же – было слегка досадно от того, что весь этот набор фраз засовывал его в привычную обойму мастеров хорового пения, всех этих сурковых, исаковских и лебедевых-кумачей. Кому же я обязан такими суперлятивами? – спросил он главкома. Уж не вам ли, НикБор? Тот усмехнулся. Подымай выше. Выше маршалов, главкомов фронтов, в тогдашнем мироздании парило только одно существо. Градов многозначительно, но с явной ухмылкой покивал. Ну а киплингианство твое, Кирилл, вкупе с гумилевщиной мы сохраним для внутреннего пользования.
Он умолчал о том, что третьего дня на пиршестве у Микояна он преподнес вождю сборник стихов Смельчакова под титулом «Лейтенанты, вперед!». Здесь вы, Иосиф Виссарионович, найдете героев нашего времени, поколения победителей. Сталин полистал книжечку, попыхтел в трубочку, потом произнес тост: за наших лейтенантов, за поколение победителей!
Другие темы
Что касается других тем поэта, то среди них была одна, не упоминающаяся критикой, но находящаяся во «внутреннем пользовании» многомиллионных масс; имя ей – эрос, любовь. Любовная лирика Смельчакова в отличие от героических или сугубо гражданственных стихов в его сборники почти не попадала по причине «излишней чувственности», которая могла бросить тень на высокую мораль советского человека. Ну а если уж такие стихи выходили в свет, то лишь в разрозненном виде, в глубине каких-нибудь, скажем, сугубо женских журналов «Работница» или «Крестьянка», а чаще на внутренних полосах газет, порою весьма заштатных, вроде «Учительской» или «Медицинской», иной раз и в периферийных, ну, скажем, в «Уральской кузнице» или в «Крымской здравнице», и всегда вроде бы между делом, в каком-нибудь уголке: дескать, не обязательно и читать, а вникать и вообще не нужно. Между тем всякая такая публикация любимца читающей публики вызывала сущий трепет, ибо в стихах угадывались, хоть и смутно, черты его очередной пассии, романтической красавицы, звезды. Этот образ Жены, или Любимой, словно некий кинематографический миф, всегда сопровождал всесоюзного кавалера, мелькал то там, то сям даже и в самых отчаянных боевых эпизодах. Ну вот, например:
- Ныряет «дуглас», как дельфин,
- Ревет проклятья.
- Закрыв глаза, я вижу фильм:
- Твои объятья.
- Готовьсь! Душа, обожжена,
- В успех не верит.
- Но ты летишь со мной, жена,
- В пустые двери.
- В единоборстве с сатаной
- Кичиться – глупо!
- Но ты раскроешь надо мной
- Надежды купол.
Прочтя такой стих, скажем, в газете «Советский спорт», публика начинает гадать, кто эта Надежда: может быть, Целиковская или Любовь Орлова, а то, глядишь, может, и Дина Дурбин? Стих вырезают из газеты, перепечатывают на машинке, переписывают в альбомчики. Где-нибудь в хронике промелькнет красавец Смельчаков, и тут же по этим кадрикам расплодятся фотопортретики с текстом «Надежды», что идут нарасхват в киосках «Союзпечати» или даже на колхозных рынках. Народ жаждет знать своих героев.
Послевоенные годы были в творчестве Кирилла отмечены нарастанием любовной лирики. Поклонники, а особенно поклонницы поэта впадали даже в некоторое подобие головокружения, пытаясь угадать прототип его лирической героини. Ну, вот, например, стих из цикла «Дневник моего друга»:
- Мой друг спешил на мотоцикле…
- Река, безлюдье, парапет…
- И вдруг увидел юной цапли
- Замысловатый пируэт.
- О, юность, нежность, липок почки,
- Хор лягушачьих батарей!
- Девчонка пляшет в одиночку,
- Поет при свете фонарей.
- Он заглушил мотор стосильный
- И подошел к ней не спеша,
- Мужчина, странник в куртке стильной,
- Типаж спортсмена и спеца.
- Надюша, цапля, примадонна,
- Что приключилось в поздний час?
- Запомни номер телефона,
- Как он запомнил свет в очах.
- . . . .
- Прошло пять лет. Он в город вышел
- Купить «Дукат». И вдруг застрял:
- Ее увидел на афише
- Над кассами в концертный зал.
Поклонницам остается только гадать и судачить. Ну, конечно, под видом какого-то друга Кирилл пишет о самом себе. О своих встречах, в том числе и – ох, девочки! – о мимолетных! Но почему опять у него появляется неведомая Надежда – помните, девочки, «Надежду парашютиста»? Да, но там была Надежда как надежда, а здесь это все-ш-таки Надюша, а не надежда. И все-ш-таки, девчонки, любовь для Смельчакова – это всегда и надежда, и Надежда. Ах, если бы можно было его увидеть, поговорить по-дружески, порасспросить обо всем! Ах, Светка-Светка, небось о таком вот мотоциклисте мечтаешь? А вот и мечтаю, полжизни бы отдала такому мотоциклисту, всю жизнь! И я бы отдала, и я бы! Да как же вам не стыдно, девчонки, комсомолки, предаваться таким мечтаниям?
Насколько нам известно, к началу пятидесятых годов в жизни Кирилла Смельчакова не было Надежды. Прошло уже семь лет с той незабываемой весны 1945 года, когда он потерял свою большую любовь Надежду Вересаеву, молодую докторшу из дивизионного медсанбата. В разгромленной Германии она натолкнулась на своего мужа, которого давно считала погибшим. Оказалось, что он еще в сорок втором был отправлен в какую-то сверхсекретную экспедицию за линию фронта. Чувство Надежды Вересаевой к мужу оказалось сильнее увлечения великолепным поэтом. Кирилл страдал и так себя взвинтил, что память о ее объятиях едва ли не приобрела реальные – вот именно, девчонки, – весьма чувственные очертания.
Следует сказать, что у него еще с довоенных времен была семья и даже рос мальчик Ростислав. Жена, известная в свое время стахановка текстильного производства (белозубая и сияющая, как Марина Ладынина в кинофильме «Трактористы»), боготворила мужа, а по мере того как тот становился все более знаменит (и как все более тускнели ее зубы), стала робеть: ой, бросит он меня, ой, бросит, перерос Кирка меня, неудержимо изменился.
Так и получилось. Стахановка не могла себя узнать в образе звезды-жены-надежды; Образ этот вконец ее измочалил, да он и ему самому не давал жить. После потери старшего лейтенанта медслужбы Вересаевой ему стало казаться, что весь его мир покачнулся, что никогда уже не вернутся прежние очарования, безоглядные порывы, дерзновенность. Он зачастил в рестораны, где собирались фронтовые друзья, где вспоминали невернувшихся, где поднимались бодрящие тосты, а когда все тосты были исчерпаны, пили просто так, под заклинание «ну будем!». Иногда ему казалось, что не только он, но и все друзья пребывают в какой-то странной растерянности, как будто все они, без исключения, потеряли, как и он, своих Надежд. В застольях тех всегда возникал определенный момент, когда товарищи офицеры, хмельные, слегка злобноватые, слегка несчастные, направлялись в толпу танцоров, где немало еще было девиц, танцующих парами, «шерочка-с-машерочкой», и выбирали среди них партнершу на ночь.
Однажды утром, проснувшись рядом с какой-то звонко посапывающей особой и сразу начав смолить свой «Дукат», он подумал, что потерял не только любимую женщину, но также четырехлетний кусок жизни, наполнявший его отвагой и смыслом. Иными словами, и он, и его друзья потеряли Войну, всю эту волшебную интоксикацию, все бесконечные вызовы смерти вместе с бесконечными, почти сумасшедшими восторгами спасения. Тогда он вспомнил эпиграф к повести Хемингуэя: «Все вы – потерянное поколение».
И вдруг все снова переменилось. Мир снова сел на свою ось с последовательной чередой закатов и восходов. Он встретил Кристину Горскую, укротительницу тигров. Судьба послала ему фантастическое существо – ошеломляющий водопад темно-золотых волос, высокие бедра, смеющийся рот, сверкающие глаза, способные держать в узде полосатую труппу. После первого свидания она сказала ему: «Смельчаков, ты оправдал ожидания, я могу выпустить тебя на арену под кличкой Тарзан!» Он хохотал и сочинял забавные стихи:
- Кристина Горская, артистка гордая,
- Шкура из норки,
- Грива волос,
- Попка – две горки,
- Но где же хвост?
Он переехал к ней, в большую захламленную квартиру. Все сложности войны и мира вдруг были забыты, жизнь приобрела сугубо цирковые, едва ли не клоунские очертания. Раз она принесла домой выводок тигрят: Акбара, Ашота, Земфиру, Шамиля, Брунгильду, еще пару неназванных, а также Штурмана Эштерхази. Звери должны с рождения увидеть во мне мать, категорически заявила человеческая тигрица.
Полосатые котята сначала ползали по полу, какали и писали на ковры, забирались в шлепанцы и сапоги, потом, обретя устойчивость, начали носиться по комнатам, нападать друг на дружку, сплетаться в клубки, а главное – с удивительной быстротой расти. У них проявился значительный интерес к кожаным предметам. В частности, их интриговала лендлизовская пилотская куртка Смельчакова. По всей вероятности, они принимали ее за бенгальского барашка, каковым она, собственно говоря, и была в прежней жизни. Однажды Кирилл взялся искать этот, едва ли не легендарный, не раз упомянутый в стихах и прозе, предмет одежды и нашел только то, что осталось от него, – железную змейку застежки с двумя-тремя зажеванными полосками кожи.
Достигнув размеров внушительного кота, тигрята иной раз стали забираться на брачное ложе и засыпать под боком разлюбезнейшей матери. Однажды во время сеанса любви поэт почувствовал за своей спиной какую-то опасность сродни той, что чувствуешь иной раз в ночном дозоре. Он повернул голову и увидел, что у них в ногах сидят трое тяжелолапых котов. Поблескивающими под светом уличного фонаря глазами они недружелюбно наблюдали его старания. «Ну что ты их боишься, милый? – промурлыкала Кристина. – Ведь это крошки». Дождавшись, когда красавица уснет, он нашел в чемодане именного «Макарова» и положил его в карман висящих на стуле штанов. Крошки явно стали ревновать свою мамочку с ее мягким тигриным ароматом к пропахшему нестерпимыми запахами одеколона и табака мужлану.
Прошло всего лишь полмесяца, когда он заметил, что некто Штурман Эштерхази уже превзошел любого из живущих с людьми котов и стал напоминать габаритами кота-камышатника. Однажды во время семейного обеда этот Штурман прыгнул на Кирилла и сорвал у него с вилки люля-кебаб. Смех Кристины напомнил Кириллу серебристую коду марша в исполнении циркового джаза. Он отшвырнул вилку. «Послушай, моя пэри, так дальше продолжаться не может! – сказал он. – Не для того я прошел всю войну, чтобы меня растерзали эти твари. Тебе придется сделать выбор: или я, или тигры». Кристина закурила длинную папиросу и погрузилась в раздумье. Стряхнув последнюю кроху пепла, встала и отошла к окну. Весь выводок собрался вокруг нее. Акбар и Штурман Эштерхази стояли на задних лапах, упершись передними в ее бедра. «Тигры!» – наконец, провозгласила она. Кирилл стал вытаскивать свои чемоданы. Она поставила на патефон пластинку «Сказки Венского леса». В дверях он обернулся. Тигрята прыгали через обруч. Она вальсировала.
- Прощальный вальс,
- Конец страстей тигриных,
- В глазах у вас
- Одни хвосты и гривы, —
подумал он. Вынес чемоданы в коридор. Какие еще, к черту, гривы? Это у львов. Хотел было вернуться, но отмахнулся. Как можно отмахнуться, таща два тяжелых чемодана? А, к дьяволу! Вывалился из дома и ахнул от счастья: как свеж этот мир за пределами зверинца!
Пока ехал на своем «Хорьхе» через Москву, думал, куда теперь деваться. Ведь не возвращаться же к героине труда: не пустит же, разыграет же бурную драму, кинется же в партком Союза писателей. Вдруг припомнилась «гарсоньерка» на Кузнецком мосту, которой обзавелся еще во время войны для прилетов из действующей армии, для поэтических уединений, а также и для мечтаний о звезде-надежде. Туда и отправился. Ключ, как засунут был под коврик, так там и лежал, словно не было никаких страстей тигриных.
Что ж, снова пришла пора одиночества, ну что ж, вот ведь и Иннокентий Анненский писал о «прекрасных плодах» таких состояний. Наберу книг, табаку, бульонных кубиков, буду читать и писать, ездить отсюда на Ленгоры, ходить там часами, выборматывать строчки, теплым взором старого солдата провожать стайки юных студенточек. «Когда-то дрались на Судетах, – вспоминал он, —
- Врага громили в пух и прах,
- И вдруг московская студентка
- К нему пришла в ночных мечтах».
Однажды после многочасовой прогулки он остановился на балюстраде, с которой открывался вид на бескрайнюю столицу. Закатное солнце отсвечивало в иных многоэтажных домах. Извивающаяся внизу река отражала многоцветную палитру неба. Стоял ранний октябрь. Слева от поэта сквозь облетевшую уже рощу просвечивала заброшенная и заколоченная церковь Живоначальной Троицы. Глубочайшее волнение посетило его, как будто он на миг приблизился к своему тщательно забытому дворянскому происхождению.
- В ночном просторе над Европой
- Шли тучи, словно сонм овец,
- В мечтах, приправленных сиропом,
- Он шел с подругой под венец.
Чертовы рифмы, подумал Кирилл. Вечное хулиганство! Мечты, приправленные сиропом! А ведь виновата Европа, черт бы ее побрал!
Тут справа долетел до него знакомый мужской голос: «Мать моя, советская авиация, да ведь это не кто иной, как Кирка Смельчаков!» Он повернулся и увидел на пустынной площадке рядом со своим «Хорьхом» огромный правительственный ЗИС с антенной радиотелефона. Мощная длань с золотыми нашивками, высунувшись из заднего окна, делала ему приглашающие жесты. Подойдя ближе, он узнал кирпичного цвета физиономию маршала авиации Ивана Гагачеладзе.
Кирилл хорошо знал Ивана. Тот командовал во время войны авиационным крылом Резервного фронта да и сам многократно поднимался в воздух на «аэрокобре» и вступал в бои с «мессершмитами». Ходили также слухи, что он участвовал в сверхсекретных разработках чудо-самолета, поднимавшегося на невероятную высоту и обеспечивавшего поверх всех фронтов прямую связь Москвы с Лондоном. В конце концов, уже после войны, он и сам достиг фантастической высоты, став к пятидесяти годам маршалом авиации. Веселый нрав, доставшийся ему в наследство от грузинских предков, выгодно отличал его от слегка несколько чуть-чуть сумрачного советского генералитета. На пирушках в трехнакатных блиндажах лучшего нельзя было найти тамады и собутыльника. Нередко он обращался к Кириллу с просьбой почитать его «киплингианские стихи» и слушал их всякий раз с каким-то особым выражением лица, изобличавшим в нем истинного ценителя словесной отрады.
Подбежал капитан, открыл дверь, маршал бодро вытряхнулся из лимузина и заключил поэта в объятия.
«Слушай, Кирка, я, кажется, прервал процесс сочинительства?»
«Слушай, Гага, ради встречи с тобой я готов отряхнуть весь словесный блуд!»
«Слушай, Кирка, я наконец женился!»
«Слушай, Гага, я так рад за тебя! Кто она?»
«Вот она, посмотри и упадешь в обморок!»
Он показал на стоящую в отдалении, спиной к ним, у края балюстрады женскую фигурку в светлом плаще. «Эсперанца! – позвал он. – Иди, познакомься со Смельчаковым!» Женщина повернулась и стала медленно приближаться. Лицо ее было опущено и потому скрыто упавшими темными локонами. Казалось, она созерцает свой пуп. Что с ней, подумалось Кириллу. Маршал авиации тут же ответил: «Заядлая фотографиня, не расстается с цейсовской зеркалкой».
Она шла, направив камеру на Кирилла, и щелкала кадр за кадром. И только в двух метрах от него подняла лицо и откинула волосы. И он тут же понял, что начинается новый крутой вираж.
Эсперанца была испанкой, точнее, каталонкой. В десятилетнем возрасте, то есть в 1937 году, вместе с сотнями других детей ее вывезли на пароходе «Красная Абхазия» из горящей Барселоны. Родители ее, члены ЦК Социалистической партии, так и пропали в тех вихрях огня и дыма, именно в тех вихрях девочке и запомнились, а в других обстоятельствах более не встречались. Однажды в Ивановский международный дом сирот приехала Пассионария. Эсперанца, или, как ее в том доме называли, Надюша, бросилась к великой революционерке. Тетя Долорес, не встречались ли вам мои родители в каких-либо других, кроме дыма и огня, обстоятельствах? Несмотря на имя Долорес никогда не плакала, вместо слезоизлияний у нее сгущался пигмент. Так и тогда, узнав отродье друзей, она только сжала костлявыми пальцами ее плечики и потемнела лицом, не уронив ни капли.
В 1947 году на празднестве в честь 30-й годовщины Октября Эсперанца, которой уже минуло двадцать лет, вдруг увидела еще одного друга своих родителей, великолепного генерала авиации. Пробравшись через толпу студентов, она позвала его по имени, под которым он был известен среди интербригадовцев в Испании: «Себастиано!» В отличие от Пассионарии Себастиано, то есть Иван Гагачеладзе, не смог сдержать слез при этой встрече. Он, кажется, что-то знал о судьбе ее родителей, во всяком случае, о каких-то еще других обстоятельствах, кроме барселонского огня и дыма, однако не стал огорчать девушку. Вместо этого он перевез ее из жалкого студенческого общежития в просторную квартиру его родителей, где она и прожила под чуткой опекой добродетельных людей несколько лет, пока не вышла замуж за своего Гагу, уже маршала авиации.
Всю эту историю маршал поведал фронтовому другу за ужином в загородном доме, похожем отчасти на небольшой дворец. Бесшумно скользили подтянутые ординарцы. В глубине зала американская радиола бесшумно меняла пластинки камерной музыки. При звуках «Фанданго» Луиджи Боккерини маршальша посмотрела прямо в глаза Кириллу Смельчакову. Муж ее в этот момент, отойдя в угол, деликатно материл штаб ПВО Москвы. «Кто она, эта ваша Звезда-Надежда?» – спросила она. «Это вы, Эсперанца», – ответил Кирилл.
Они стали встречаться. Комнатенка Кирилла украсилась кожаным диваном и двумя туркменскими коврами. Прижавшись друг к дружке то на коврах, то на диване, они старались не упустить ни единого трепетания. В полузабытьи она бормотала что-то по-испански, и ему казалось, что вернулась его сумасшедшая засекреченная юность. Маршал авиации, проводивший бессчетные недели на Корейском полуострове, ни о чем не догадывался. «Укради меня! – требовала Эсперанца. – Докажи мне свою любовь!» В разгаре зимы, в слепую пургу, он решился.
Всего лишь вьюга
«Хорьх» как назло не завелся. Дерзновенный, он бросил вызов снежной стихии и отправился на «Цундапе» с коляской. В двух кварталах от городской квартиры Гагачеладзе он ждал Эсперанцу, постепенно превращаясь в сугроб.
- Словно бродяга с ранцем,
- Полуживой идиот,
- Жду я свою Эсперанцу;
- Придет или не придет? —
думал он и тут же начинал себя честить за дурацкую рифмовку: при чем тут ранец? С ранцем ходит солдат, а не бродяга. Почему не сказать: «с румянцем»? «Словно снегирь с румянцем…»
И наконец увидел ковыляющий сквозь метель неясный силуэт с двумя чемоданами. Даже в огромной шубе она казалась тростинкой.
Неделю они упивались друг другом, разлучаясь только «по-маленькому» или «по-большому». Вдохновение его можно было сравнить лишь с затянувшейся на всю эту неделю и все усиливающейся пургой. «Снегирь с румянцем» вырастал в огромную лирико-эпическую поэму. Вечерами она играла на виолончели. Вид ее с инструментом между ног приводил его в полный экстаз. Нигде, разумеется, не появлялись; особенно это касалось Дома писателей и Дома офицеров. Обедали около полуночи в шоферской столовой. Там было сытно и не особенно грязно, а главное – никто их там не мог опознать.
Он восхищался каждым ее движением и каждым ее словом, а также ее манерой петь что-то по-испански в глубоком сне. Всему этому пришел конец однажды ночью, когда она вот так что-то напевала во сне с маниакально-неотразимой улыбкой, а он щелкал на «смит-короне», свесив свой все еще богатый чуб. Зазвонил телефон. Раздвинув облако рифм и метафор, он снял трубку.
«Кирилл, ты, надеюсь, еще не спишь?» – спросил глухой бронхиальный голос.
«Кто спрашивает в такой час?» – ошеломился он.
«Это Сталин», – был ответ.
«Что за дурацкие шутки?» – прошипел он, стараясь не прервать вокал Эсперанцы.
«Почему шутки? Что же, разве Сталин не может позвонить другу в тревожный час?»
У Сталина к старости стали проявляться разные чудачества, и одним из таких чудачеств была его склонность к Кириллу Смельчакову, вернее, его уверенность в том, что на эту полулегендарную личность можно полностью положиться, что он в лихую минуту отбросит все свои дела, включая и женщин, и придет на помощь народной легенде, то есть Сталину Иосифу Виссарионовичу, 1879 года рождения. Сейчас, наверное, все уже позабыли, что торжество победы над Германией было у Сталина сопряжено с вечной тревогой. Странно, но тревога эта возникла как раз в те дни, когда Сталин выдвинулся в ряды самых могущественных людей мира, а из этих рядов выдвинулся уже в самого могущественного властителя-одиночку.
Произошло это в 1945 году, когда ближайший товарищ по оружию, тоже маршал, но еще не генералиссимус, Иосип Броз Тито предложил ему включить всю Югославию в СССР на правах союзной республики. Сталину эта идея сначала пришлась по душе. Одного взгляда на глобус было достаточно, чтобы увидеть, как красиво расширился бы тогда Советский Союз, как он вышел бы прямо в сердцевину колыбели человечества, как приблизился бы он с полуострова в виде пирога к другому полуострову в виде сапога.
Тито ликовал. Друже Иосиф, писал он ему как бы запанибрата, наш союз прогремит на весь мир как пример пролетарской солидарности и всеславянского единства. Вдвоем с тобой мы поведем наши народы к новым победам. Твой Иосип.
Сталину такая фамильярность не очень-то понравилась. Что это значит: «вдвоем с тобой»? Кто в конце концов сокрушил товарища Гитлера, те, что в течение четырех лет держали гигантский фронт от моря до моря, или те, что в горах отсиживались? Разведка тем временем собирала неутешительные сведения. Тито, оказывается, планирует исторические празднества в Москве и триумфальный въезд югославского руководства в Кремль. Вот здесь-то, в крепости, и разыграется трагедия поистине шекспировских масштабов. Дождавшись ночи, гайдуки из титовской охраны вырежут и передушат все руководство Советского Союза, а утром объявят генеральным секретарем своего коренастого вождя. Таким образом заговор был раскрыт, а многонациональный и великий СССР и конфедерация южных славян вместо радостного слияния вступили в многолетний период конфронтации; теперь пусть Тито дрожит на своем острове Бриони.
Все вроде бы обошлось, однако с тех пор титовские гайдуки превратились в персонажей постоянных сталинских кошмаров. Именно тогда вождь народов и перешел на ночной образ жизни. Не надеясь на свою стражу, он прислушивался к ночным шорохам. Гайдуки, однако, появлялись в коридорах Кремля без всяких шорохов. Их зловещие рожи мелькали даже в колоннах демонстрантов как весной, так и осенью. Подрывают всесоюзную борьбу с природой, являются вместе с суховеями. Водружают издевательски огромные статуи Иосифу, а в них проглядывают черты Иосипа. А что, если Тито забросит сюда целую замаскированную колонну? Что, если начнется штурм Кремля? На кого можно положиться? На чекистов? Предадут за милую душу. Сталин страдал и даже временами стонал, пугая весь персонал. И вдруг однажды среди мучительной бессонницы, над книжечкой стихов «Лейтенанты, вперед!», подаренной ему еще главкомом Резервного Никитой Градовым, пришло озарение: есть, есть люди, готовые беззаветно сражаться за Сталина, непобедимые герои нашего времени, смельчаковцы! Статные, ясноглазые, с маленькими усиками, все, как один, как тот, вечно молодой вечный друг-поэт, полковник армии мира Кирилл Смельчаков. С тех пор, стоило только мелькнуть каким-нибудь злодейским гайдукам, как их немедленно вытесняли образы смельчаковцев. Сталин воспрял.
Кирилла стали приглашать чуть ли не на все кремлевские приемы. Стоя в толпе ближайших соратников, он нередко ловил на себе внимательный, если не пытливый, взгляд Вождя. Подержав его минуту-другую через весь зал под своим взглядом, Сталин поворачивался то к Ворошилову, то к Поскребышеву и задавал какой-нибудь вопрос, словно желал удостовериться, что это именно он, Смельчаков во плоти, присутствует на приеме. Получив удовлетворительный ответ, Сталин сдержанно улыбался. Кирилла, признаться, иногда брала оторопь: что все это значит? Однажды он не выдержал и поднял над головой бокал с киндзмараули таким жестом, каким в стихах своих поднимал оружие: «Лейтенанты, вперед! За Родину, за Сталина!» В ответном жесте Вождя проскользнуло явное «алаверды!». После этого обмена жестами Смельчаков начал с интервалами в полгода получать свои Сталинские премии; и получил их шесть.
Кто может так шутить со звонком от Сталина в тревожный час, если только не сам Сталин? «Я слушаю вас, товарищ Сталин, и готов выполнить любой приказ». Он отнес телефон в самый дальний угол «гарсоньерки» и поставил его там на подоконник.
«Кто это там у тебя подвывает, Кирилл?» – спросил Сталин.
«Это вьюга», – четко ответил Смельчаков.
«Значит, и у меня это она подвывает, – вздохнул Сталин. – Всего лишь вьюга».
«Так точно, товарищ Сталин».
«Послушай, Кирилл, мы с тобой наедине по-дружески говорим глубокой ночью. Нас никто не слышит. – Он покашлял со смешком. – Никто, кроме маршала Тито, может быть. Ну и пусть слышит, кровавая собака. Пусть знает, что я по ночам говорю со Смельчаковым, с другом. Знаешь, в таком интимном разговоре называй меня просто Иосифом».
«Как я могу вас так называть?! – искренне ужаснулся Кирилл. – Ведь вы же вождь народов».
«А ты командир моих с м е л ь ч а к о в ц е в. – В голосе Сталина промелькнули и отчаяние, и надежда. Кирилл, потрясенный, молчал. Сталин вздохнул. – Ну хорошо, зови меня Иосиф-батоно».
«Буду счастлив, Иосиф-батоно».
Возникла пауза, после которой Сталин пояснил: «Пью коньяк».
Глотки.
«У тебя есть коньяк?»
«Открываю „Арарат“, Иосиф-батоно».
«Это говно. Через полчаса тебе привезут ящик „Греми“. Ладно, пей пока это говно „Арарат“, а потом перейдешь на „Греми“.
Глотки.
«Слушай, Кирилл, а кто у тебя там поет непонятное немужским голосом?»
«Это моя жена поет во сне о любви, Иосиф-батоно. Она испанка».
Глотки. Глотки.
«Послушай, Кирилл, я знаю, чья это жена. Ты увез ее у моего земляка. Ты знаешь его не хуже меня. Он пришел ко мне в растрепанных чувствах, а ему нельзя быть в растрепанных чувствах, потому что он противостоит огромным авианосцам поджигателей войны на восточных рубежах лагеря мира. Знаешь, Кирилл, верни-ка ты Вано эту Эсперанцу».
«Но это невозможно, Иосиф-батоно!» – потрясенный, воскликнул Кирилл.
«Для коммуниста нет ничего невозможного», – суховато парировал Сталин.
«Поймите, мы не выдержим разлуки», – в отчаянии бормотал Кирилл.
Голос генералиссимуса стал еще суше: «Вы, кажется, сказали, что готовы выполнить любой мой приказ, а такие слова на ветер не бросают, товарищ Смельчаков».
Отбой. Кирил уронил голову на подоконник, стучал лбом, шептал: «Боже, боже…» Новый звонок пронзил его до пят. «Это к кому ты так обращаешься, Кирилл?» – спросил Сталин. Несчастный любовник попытался взять себя в руки и ответил с некоторой даже твердостью: «К векам, к истории и к мирозданью…» Он стоял теперь, распрямив плечи, прижав к уху страшную трубку, и весь поэтический мрак русской литературы кружил перед ним за окном вместе с космами пурги: строчки из последнего стиха Маяковского, есенинское «до свиданья, друг мой, ни руки, ни вздоха»… В снежных просветах отпечатывались и блоковские «аптека, улица, фонарь».
Голос Сталина между тем набирал директивную силу: «Перестань маяться, Кирилл, и маяковщиной меня не пугай. Ты думаешь, нам, профессиональным революционерам, неведома любовь? Мою жену, между прочим, тоже Надеждой звали!» Сраженный историческим совпадением, Кирилл не мог уже найти никаких слов в ответ. А голос Сталина все продолжал набирать директивную силу. «От Ильича это пристрастие у нас с тобой, Смельчаков, идет, от бессмертного. Жертвенные костры революции не гаснут. Буди Эсперанцу, пусть допоет свою песню дома». Отбой.
С трудом, словно чугунный, Кирилл отвернулся от окна. Эсперанца стояла перед ним в полный рост, уже облаченная в свою драгоценную шубу. Оба ее чемодана были готовы к отъезду. «Прости меня, каро мио», – прошептала она и опустилась перед ним на колени на туркменский ковер. В последний раз он запустил свои пальцы в ее шелковистые, пронизанные электричеством пряди. В душе Кирилла пробудились давно забытые советской литературой строки: «Я изучил науку расставанья в простоволосых жалобах ночных». Когда это кончилось, всеобъемлющий голос Сталина, уже без всяких звонков, заполнил жалкую комнатенку:
«Теперь покидай Кирилла Смельчакова, Эсперанца, и ничего не бойся: никто не припомнит тебе детскую болезнь левизны в коммунизме».
Кирилл понес ее чемоданы вниз, она шла следом. В темном подъезде с увечными кариатидами «арт нуво» двигалась с фонарями военная агентура. На Кузнецком стояли под парами три больших автомобиля. Вьюга улеглась. Свежайший снег серебрился под луной.
Завязка драмы
Прошли своим чередом «тимофеевские морозы» с их ядреными солнечными днями и лунными ночами. Март стал разворачиваться к весне, когда пришибленному и прозябающему Смельчакову позвонили из Комитета по Сталинским премиям и попросили срочно подготовить к номинации сборник стихов «Дневник моего друга». В тот же день позвонили также из Управления высотными домами при МВД СССР и сказали, что по совместному ходатайству Союза писателей СССР и Управления стратегического резерва при Минобороны Моссовет выделил ему четырехкомнатную квартиру на 18-м этаже в Яузском высотном доме, с видом на Кремль. Знакомый уже с такого рода щедротами судьбы, он ждал теперь и третьего звонка, поскольку щедроты, или, осмелимся сказать, усмешки, прежде обычно являлись не по одиночке и даже не парно, но непременно в тройственном варианте. И верно: последовал и третий звонок, на этот раз из ВААПа (Всесоюзного агентства по авторским правам), которое если и имело какую-то связь с Ваалом, то лишь через двойную гласную. Кто-то оттуда, то ли согласный, то ли гласный, а может быть, и вся восхитительная аббревиатура, любезнейшим образом поинтересовался, почему Кирилл Илларионович никогда не заходит, не интересуется своим счетом, а между тем на нем накопилась весьма привлекательная сумма в 275 тысяч 819 рублей и 25 копеек. Сумма сия представляет отчисления за художественное исполнение его текстов на концертах как чтецами-декламаторами, так и эстрадными певцами, поющими песни на его стихи по всему пространству нашего необъятного государства.
Кирилл вдруг каким-то несколько зловещим образом развеселился, хватанул стакан «Греми» – благо всегда теперь этот напиток был под рукой с той памятной ночи, – хохотнул: «А вы не ошиблись, мой дорогой, с этой суммой рублей и копеек? Ведь на нее, пожалуй, можно купить полсотни новеньких „Побед“, не так ли?» В ответ послышались весьма благоприятственные рулады. «Какой вы шутник, Кирилл Илларионович, недаром все у нас в СССР вас любят. Ну зачем вам столько „Побед“, батенька мой? Начните хоть с мебели, обставьте какую-нибудь четырехкомнатную квартиру, что ли. Ну потом можно дом построить в Крыму или в Гульрипше, верно? Да и после этого еще немало у вас останется денежной массы, батенька мой. Так что можно будет как-то поспособствовать аэронавтике, согласны? Сконструировать, скажем, какой-нибудь гидроплан для ДОСААФа».
«С кем я говорю, представьтесь, пожалуйста!» – категорически предложил Кирилл.
«Меня тут многие зовут еще с военных времен Штурманом Эстерхази. Вы, как солдат, помните, конечно, те бесконечные анекдоты, – ответил, очевидно, мечтательно глядя в потолок, его внушительный собеседник. – Но вообще-то мое имя Остап Наумович, и я уже несколько лет работаю в ВААПе, у меня тут выгородка на антресолях. Так что заходите, батенька мой, деньги вас ждут. И вообще давайте поддерживать контакт, лады?»
«Представьте себе, лады!» – дерзновенно ответил Кирилл, и на этом они разъединились.
Через несколько дней он поехал обследовать свое новое жилье. Оставив машину на другом берегу Яузы, он несколько минут разглядывал гигантское здание. Вспоминал свои многочисленные путешествия по делам мира и прогресса, пытался сопоставить его с другими мировыми небоскребами. Что-то общее он нашел у высотки с нью-йоркскими доминами начала ХХ века или, скажем, со зданиями стиля «арт-деко» в некогда процветавшем городе Ашвил, штат Северная Каролина. Ближе всего, пожалуй, великан соседствовал с домами двадцатых годов на известной набережной реки Ханьпу в Шанхае. Так он стоял и смотрел, пока холодное созерцание внезапно не сменилось высочайшим восторгом. Нет, ни на что он не похож, этот чертог, и никаким предыдущим урбанистическим стилям он не следует! Это уникальный чертог нашего уникального и величайшего социализма! Только посмотри, какая в нем заключена могучая тяжесть, сопряженная с ощущением неумолимого полета! В нем чувствуется мощный исторический посыл! Ведь он сейчас не только подпирает восточные склоны московского небосвода, не только закрывает от моих глаз грязную Таганку, нет, он вместе с шестью своими собратьями обозначает для нас топос будущего, неоплатоновский град, населенный философами и солдатами!
В этом состоянии экзальтации, которая так хорошо сочеталась с непокрытой волнующейся под ветром шевелюрой, Кирилл зашагал через мост к центральному, увенчанному фигурами и шпилем корпусу, а вышедшее из-за облака мартовское солнце зажгло перед ним все тридцать жилых этажей.
В комендатуре знаменитому товарищу Смельчакову с превеликим почтением был вручен ключ от его квартиры. Хотели было всем коллективом сопроводить его на 18-й этаж, однако он предпочел совершить свой первый подъем в одиночестве. Коллектив с пониманием и умилением смотрел ему вслед: поэт-патриот, красавец-герой уже и внешним видом своим весьма отличался от основного состава достопочтенных жильцов-тяжеловесов, академиков, министров, генералов, тузов промышленности и культуры, а главное – безопасности.
Едва он вышел из лифта в холле 18-го этажа, как отворилась одна из дверей, сильная солнечная полоса резко пересекла все мягкое кремовое освещение холла, и вместе с этой полосой прошла к лифтам приятно очерченная женская фигура. Дверь захлопнулась, восстановилось мягкое освещение, и тогда он опознал в женской фигуре не кого иного, как свою сокурсницу по ИФЛИ Ариадну Рюрих.
«Адночка! Княжна варяжская! Да неужели это ты?!»
Женщина приятных очертаний да и совсем не отталкивающих объемов не сразу увидела его в мягком освещении холла и остановилась в недоумении: кто это произносит здесь почти уже забытые ее клички студенческой поры? Он шагнул к ней, взял ее за плечи. «Как замечательно ты вышла из этого луча, Ариадна, внучка Солнца!» Она отшатнулась на миг, опознала и припала. «Боги Эллады, о, Гелиос, о, Минос и Пасифая! – с очаровательным юмором воскликнула она. – Да неужели это ты, мой Тезей, Герой Советского Союза?! Что ты делаешь здесь, на нашем восемнадцатом этаже?»
Они не виделись, почитай, двенадцать или тринадцать лет с того вечера, когда состоялись проводы полумифического «батальона ИФЛИ», романтических добровольцев, пожелавших дать отпор агрессивным белофиннам, осмелившимся поднять руку на родину социализма. Ариадна пришла на встречу с семилетней дочкой. Он вспомнил сейчас, что у нее всегда была дочка, даже на первом курсе. Больше того, за ней всегда, в том смысле, что нередко, таскался также и постоянный муж, физик Ксавка Новотканный. Влюбчивый Кирилл, едва увидев ослепительную девушку-мать, ринулся было к ней со стихом «Нить Ариадны», но она, однако, каким-то ловким движением как бы сказала ему «не спеши» и тут же познакомила с постоянным супругом Ксавкой. Блаженные времена, романтика сражающейся Испании, хоровое исполнение «Бригантины», Павка Коган, Миша Кульчицкий, Сема Гудзенко, Володя Багрицкий, Сережа Наровчатов, полярные подвиги Водопьянова, Ляпидевского, Чкалова, Коккинаки, восторги 1937 года, мимолетные встречи, когда времени всегда не хватало, чтобы дочитать до конца все разрастающийся стих «Нить Ариадны».
Узнав, что Кирилл пришел сюда «навеки поселиться» в соседней четырехкомнатной квартире, Ариадна Лукиановна просияла да так, что едва ли не затмила ту курсовую красавицу, которая всегда так торопилась к своей маленькой дочке и постоянному мужу. Как это здорово, что ты, такая замечательная знаменитость, будешь теперь так близко! Ну у меня еще есть минут десять, пойдем, я покажу тебе нашу квартиру. Он взял ее за руку. Ах, ты по-прежнему все торопишься? В таком случае лучше покажи мне мою квартиру. Вот ключ, открывай! Посидим на голом полу, попьем воды из-под крана. Ого, да тут все обставлено совминовской мебелью с инвентарными номерками. Адночка, Варяжка, а знаешь, я еще не дописал «Нить Ариадны». Кирка, ты как был красивой балдой, так красивой балдой и остался, о, боги Олимпа, несмотря на все твои шесть премий и на седьмую, которую мы сейчас оформляем. Чья это тень пролетела мимо всех твоих окон, какой большевик мифологии, Дедалус или Икарус?
Ну, что ж, мой Тезей, теперь пойдем к нам. И, так вот болтая, смеясь и вздыхая о прошлом, но не касаясь будущего, они пересекли холл 18-го этажа и вошли в квартиру, где и раскроется для читателя сердцевина нашей пуританской драмы.
Если четыре окна нового смельчаковского пристанища, включая и двойное окно гостиной, смотрели на запад, то все многочисленные окна семейства Новотканных были повернуты к юго-западу, и потому вся огромная квартира в этот час была залита лучами Гелиоса. И первое, что открылось перед Кириллом и что сразу же радостно ошеломило его, была удивительная девичья фигура, будто бы пронизанная этими лучами. Удлиненная и долгоногая эта фигура с правой рукой на затылке стояла спиной к вошедшим у окна, как будто поглощенная каким-то сокровенным созерцанием.
«Ну-ка, Глика, посмотри, какой у нас объявился новый сосед!» – интригующим тоном воскликнула мама.
Девушка вздрогнула, резво повернулась, на мгновение превратилась в силуэт, сделала шаг к гостю, вспыхнула, опять же на мгновение, каким-то удивительным счастьем, протянула руку, приветствуя гостя в духе журфака МГУ: «Вот это да, ну и ну, неужто сам товарищ Смельчаков собственной героической персоной?!» – и вдруг, снова на мгновение, чуть-чуть задрала подбородок в мимолетном высокомерном отчуждении.
Здесь мы должны вместе с Гликой отступить на шаг назад, чтобы пояснить читателю природу этого мимолетного отчуждения. Дело в том, что за час до этой встречи между девушкой и ее матушкой разгорелся разговор исключительной важности.
«Послушай, мать, ты не можешь мне объяснить, что такое любовь?» – вдруг ни с того ни с сего спросила Глика.
Обе тут споткнулись в разных дверях квартиры; одна от неожиданности вопроса, вторая от того, что уже нельзя забрать его обратно. Ариадна внимательно смотрела на дочь, Глика делала вид, что выискивает на полках какую-то книгу.
«Ведь мы с тобой недавно говорили на эту тему, – сказала мать. – Любовь – это благородное, вдохновляющее чувство. Она способствует созданию первичной ячейки человеческого общества».
«Что же, в этом и заключается объяснение любви? – вежливо, будто в разговоре с посторонним человеком, поинтересовалась девушка, и вдруг трахнула найденную книгу о паркет. – Я хотела у тебя спросить, как делают любовь, а ты ускакала на какой-то свой комитет. Ты даже сказала тогда, что любовь – это влечение, которое испытывают женщина и мужчина друг к другу, но ни слова не сказала о том, к чему и – главное! – как это приводит. Ускакала на свою дурацкую секцию, где все, небось, знают, КАК это делается. Весь мир знает, КАК это делается, кроме меня! – Голос ее задрожал, и будто бы для того, чтобы побороть подступившие слезы, Глика пронеслась через зал, повалила мать в кресло, а сама уселась у ее ног, обхватив эти ноги. – Давай, рассказывай о половых органах!»
Мать стала гладить ее по волосам, обцеловывать ее тройную макушку. «Ну что ты, Гликушка, что с тобой, влюбилась, что ли, моя родная? Скажи мне сначала: кто он?»
«Я не знаю, кто он, но просто изнемогаю от этих мыслей с утра до утра, – бормотала дочь и уже плакала, не скрываясь. – Я просто с ума схожу от того, что ничего не знаю!»
«Гликушенька моя, лягушенька, не плачь, моя родная, – увещевала мать. – Понимаешь, когда возникает любовь, с ней вместе приходит такая страсть, что все происходит само собой, без всяких объяснений. Так будет и у тебя».
Глика вытерла свое мокрое лицо нижней юбкой матери. «А я боюсь, что у меня никогда этого не получится, потому что… потому что все это кажется мне до отвращения противоестественным».
«Как раз наоборот, детеныш, нет ничего более естественного! – вскричала мать и тут сама как-то чуть-чуть передернулась, сообразив, что ей, столь серьезной особе, одному из оплотов советской нравственной структуры, будет как-то неестественно говорить об этом самом естественном, то есть делиться собственным опытом, даже в интимном разговоре с дочерью. Все же она начала говорить о естественности того влечения, которое испокон веков в нашем языке называется „половым“, то есть нижним, или даже низким. – Это слово, детка моя, пришло из темных веков, но в наше время высокой морали мы переносим его в высокий контекст чистой семейной жизни и высшей формы дружбы, именуемой любовью. Конечно, с точки зрения физиологии мужчина и женщина отличаются друг от друга, мужчина проникает, а женщина принимает… Ну что ты вздрагиваешь, лягушенька?.. Именно с этой целью природа так организовала наши, ну не буду говорить „половые“, наши репродуктивные органы, ну это же так естественно, а без этой функции разрушится весь коллектив». – Она замолчала, потому что не знала, что еще можно сказать. Подняла ладонями лицо дочери, заглянула ей в глаза и почувствовала страх. Что за волшебное существо мы взрастили? Она выросла не женщиной, а воплощением девственности.
Глика освободила мамины ноги и сама выпросталась из ее объятий. Зашагала по гостиной, как-то странно иногда подпрыгивая, словно через скакалку. Начала говорить громко, но не обращаясь к матери, а словно разбираясь сама с собой. Совокупление естественно для животных, но людям разве не может оно показаться странностью природы? Почему у человека мужского типа висит между ног какая-то сарделька? Разве не напугает она всякую девицу, у которой такой сардельки нет? Меня, например, от этого страха уже заранее тошнит. Почему при любви эта сарделька стремительно увеличивается? Так, что ли, мамка, она стремительно увеличивается? И укрепляется, ты говоришь? Стремитель-но укрепляется? Почему она, вернее, он, словом, то, что пишут на заборах, ну как ты сама иной раз выражаешься, я подслушала, йух, почему он так жаждет проникнуть в человека женского типа? Какого он размера, когда укрепляется, ну покажи! Фу, но этого не может быть! Как он может пройти ко мне вот сюда, такой, продраться меж моих лепесточков? Нет, я не могу себе даже представить такое зверство!
Выплеснув все это скопление восклицательных и вопросительных знаков, Глика в позе отчаяния замерла у большого окна, из которого как на ладони можно было увидеть древнюю крепость с торчащими, то есть укрепившимися, башнями.
«Ах, Глика, когда любишь, когда сама жаждешь, это вовсе не кажется зверством, преобладает нежность», – с досадой произнесла Ариадна Лукиановна.
«Ну расскажи мне теперь о себе: кого ты больше всех любила?» – потребовала девушка.
Мать посмотрела на нее исподлобья. «Как кого? Конечно, твоего отца. Чем ты так поражена? Ну, конечно, Ксаверия. Мы и сейчас с ним очень любим друг друга, ласкаем друг друга, совокупляемся. Ну что ты так вылупилась, глупышка? Мы ведь еще не старые люди, мне сорока нет. Делаем это в супружеской постели, два или три раза в неделю. И заверяю тебя, Гликерия, в этом нет никакого зверства. В литературе, ну в классической литературе, это называется „супружескими обязанностями“.
«Ты уж только, Ариадночка, не считай меня ханжой и истеричкой. Просто что-то нахлынуло на меня сегодня. – Глика снова подсела к матери, положила ей на колени свои ноги. Вдруг весело рассмеялась. – Как-то слабо представляю себе нашего папочку в роли идеального любовника! Признайся, грешница: наверное, были у тебя и другие, романтические, так сказать, эпизоды?»
Ариадна тоже рассмеялась. «В ИФЛИ ребята часто злились на Ксавку. Называли его „наш постоянный муж“. Был один такой поэт. Он все пытался прочесть мне до конца свою поэму „Нить Ариадны“. Так и не дочитал. Знаешь, я вот сейчас смотрю на тебя и думаю: вот кому тот парень должен был написать поэму „Клубок Гликерии“. Ты меня понимаешь?»
Глика вскочила. «Не понимаю и понимать не хочу! Останусь девой навсегда! Очень жаль, что в нашей стране нет социалистических монастырей. Охотно бы стала социалистической монахиней!»
Мать тоже встала. «Надеюсь, в университете ты не остришь вот таким странным образом. Я еду в Комитет защиты мира. Отца сегодня не будет, он улетел на объект. Так что, если хочешь, мы продолжим вечером нашу беседу, только на этот раз я призову на помощь классиков марксизма и дарвинизма». С этими словами она взяла шубку, открыла дверь и по солнечной дорожке вышла в холл 18-го этажа.
Вот что предшествовало встрече однокурсников и тому, что последовало за этой встречей, то есть знакомству юной девы с кумиром всех дев страны победившего социализма, вспышке счастья, а затем мимолетной гримасе высокомерного отчуждения. Затем все трое сели чай пить. Супружеская пара охраны, Фаддей и Нюра, выписанные из Арзамаса-16 для обеспечения московского быта великого ученого, быстро сервировали стол. По квартире они передвигались с полной бесшумностью, поскольку обуты были в толстенные носки вологодской вязки. Молчаливая улыбчивость этой пары вкупе с исключительной сноровкой и полнейшей бесшумностью создавали впечатление какого-то странного, чуть ли не японского театрального действа. Опытному Смельчакову показалось, что пара сия имеет отношение к несуществующему подразделению СБ-2, и впрямь: в один момент, поднося блюдо с мини-наполеончиками, Фаддей издали улыбнулся ему как своему. Да Бог с ними, кем бы они ни были, на кого еще можно смотреть, если рядом с тобой сидит сущий ангел социализма, если уж нельзя назвать ее музою Арт-Деко. Все в ней казалось Кириллу совершенством: золотистые волосы, собранные в увесистую косу, высокая шея, трогательные ключицы, робкие груди под свитерком, – мог ли он представить двенадцать лет назад такое преображение семилетней девчурки? И лишь в лице ее сквозь отменно классические черты проявлялось невинное детство. Высокомерного отчуждения и след простыл, в быстрых и как бы случайных ее взглядах он видел присутствие какой-то робкой надежды; отнюдь не той Надежды-Звезды, которой он столько времени поклонялся, а той, которая будто бы была готова поклоняться ему, то есть Надежды-Мольбы.
Он видел во время всего чаепития, что Ариадна внимательно наблюдает за своей дочерью и как бы старается оценить, какое впечатление произвел на нее новый сосед, наблюдает и за ним, автором все еще не завершенной «Нити», наблюдает за ними двумя, как будто оценивает, какие отношения могут возникнуть между ними. Затем она встает и с деланой сердитостью говорит, что из-за них опоздала на секцию, что теперь ее оттуда «турнут» и все это произойдет из-за «взбалмошной девчонки» и этого вечного поэтического балбеса Кирилла Смельчакова.
Мартовский гид
Оставшись вдвоем с Гликой, Кирилл попросил разрешения закурить. Разрешение было немедленно даровано одним движением тонкой ладони с поистине фортепьянными пальцами. Она с интересом смотрела, как он зажигает свою еще фронтовую «Зиппо», как в его кулаке начинает трепетать щедрое пламя.
«А что вы курите, Кирилл Илларионович?» – спросила она. Он удивился, что она знает его отчество.
«За время войны, знаете ли, привык к вирджинскому табаку, а потом пришлось перейти на наш пролетарский „Дукат“. К счастью, недавно появились албанские, вот видите, „Диамант“. Великолепный турецкий табак».
«Дайте попробовать», – попросила она.
«Да неужто вы курите, барышня?» – с юморком спросил он.
«Вы так вкусно это делаете, что хочется последовать».
Специалисты СБ-2, видя, что чаепитие окончено, бесшумно и мастерски убирали со стола. Албанский дымок тоже не остался незамеченным. Неизвестно откуда в некурящем доме появилась чехословацкая пепельница из толстого стекла. Глика еще одним движением кисти отослала Фаддея и Нюру. Закурила.
«Ой, как здорово! – воскликнула она. – Крепкие, пахучие, как будто прочищают дурную башку!»
С минуту они курили молча, сквозь дым улыбаясь друг другу. Потом она сказала:
«Между прочим, дядя Кирилл, у нас на журфаке прошел слух, что вы скоро выступите перед студентами».
«Для вас, мадмуазель, готов в любой момент». Он был слегка покороблен «дядей».
«Ой, как здорово! – Она по-детски всплеснула руками. – Завтра же пойду в деканат и в комитет комсомола, чтобы назначили дату. Только уж не скажу, конечно, что вы для какой-то мадмуазели придете. – Тут она потупилась и посмотрела на него исподлобья, от чего голова у него слегка закружилась. – Ведь вы же просто пошутили, Кирилл, насчет мадмуазели, правда? Ведь вы же для встречи с коллективом придете, верно? Ваше творчество, Кирилл, у нас хорошо известно, ну и, конечно, среди некоторых мадмуазелей, которые все ваши стихи наизусть знают».
Кирилл, весьма ободренный утратой отчества, не говоря уже о «дяде», смотрел на девушку уже с нескрываемым восхищением. «Ну уж вряд ли, Глика, они все стихи знают, я столько их навалял, что и сам многое забыл».
Она вся засветилась. «Даже и я, Кирилл, с которой вы вот так незаконно покуриваете, могу прочесть и „Высадку в Керчи“, и „Надежду парашютиста“, и из „Дневника моего друга“, и даже из цикла „Снова Испания“.
«Позвольте, но „Испанию“-то вы откуда взяли? – поразился он. – Ведь ни одного стиха оттуда не было напечатано!»
Она по-детски залукавилась. «А это уж у нас такие есть мадмуазели, мы их смельчаковками зовем, которые из любой редакции ваши стихи стибрят. Ведь эти особы, Кирилл, в вас просто-напросто… ну, словом, вы их кумир».
Сказав это, то есть чуть-чуть не проговорившись, она отвернулась и даже как-то сердито, с некоторой нелепостью притопнула на себя ножкой. Ведь нельзя же сказать этому удивительному человеку, что он, быть может, главенствует среди ее героев, таких, скажем, красавцев-мужчин, как Кадочников, или Дружников, или, скажем, как тот из «Моста Ватерлоо», чьего имени никто не знает, – словом, тех героев, что сквозь сон подсаживаются на край ее кровати и исчезают, отверженные ее возмущенным естеством.
«Это правда, Кирилл, что вас часто критикуют за… за… за чувственность?» – Она уставилась на него расширившимися, совершенно детскими глазами.
Он расхохотался. «Правда, правда, дитя мое, иной раз грешу чувственностью».
«А в чем она выражается, эта ваша чувственность?» Она вроде бы смотрела в отдаленные окна, в которых, словно парусники на гонке, быстро шли мартовские тучки, и тыкала давно погасшую сигарету в пепельницу, однако время от времени бросала на него чрезвычайно серьезные взгляды.
Он пожалел, что она перестала называть его «дядей»: может быть, легче было бы разговаривать. «Как будто ты сама не знаешь, в чем она выражается», – сказал он и подумал, что так все-таки будет правильней; я ее на «ты», а она меня на «вы».
«Ах, – с досадой вздохнула она, – я ведь ничего не знаю из этой области. – В лице ее снова промелькнуло то надменное отчуждение, которое он заметил в первую минуту встречи. – И постараюсь никогда не узнать», – добавила она.
«Это как же прикажешь тебя понимать?» – спросил он. Она теперь сидела на диване, поджав под себя ноги. Эта поза напомнила ему юную немку, которую он когда-то, в сорок пятом, спас от пьяных солдат. Несколько минут она сидела молча, опустив голову и теребя свою косу, потом посмотрела ему прямо в глаза и вместо ответа задала ему ошеломляющий вопрос:
«Скажите, Кирилл, а вы могли бы стать моим женихом?»
«Опомнись, Глика, ведь я однокурсник твоей матери, я… я… старше тебя на восемнадцать лет… у меня сын двенадцати лет… Послушай, Глика, дитя мое, ты же чистая дева, а я… а я столько раз был женихом, да и вообще, как я могу посягнуть на твою чистоту, на твою идеальную красоту, я – весь прокуренный, изрядно пропитый, прошитый к тому же очередью в грудь, ну давай, подойдем к зеркалу, и ты увидишь себя рядом со мной: это же парадокс!» Он то восклицал, то бормотал, вытирал пот со лба, отмахивался от нее, но сам-то почему-то уже знал, что он будет ее женихом, что он потому и въехал в этот дом, потому и так радостно, так жарко встретился с Ариадной, что нить ее, очевидно, размоталась до конца и он теперь станет женихом ее дочери.
Он потащил ее за руку с дивана и поставил рядом с собой перед зеркалом. Получился отнюдь не парадокс. Отражалась вполне изящная пара – моложавый дядя и серьезная, скорее даже печальная племянница.
«Послушайте, Кирилл, я ведь прошу вас стать не обычным женихом, а совсем необычным таким. Что-то вроде вечного жениха вечной девы. Вот мне недавно одна умная подруга рассказывала про Александра Блока. Его Любовь была для него Небесной Невестой. Он ее боготворил без всяких этих постельных мерзостей. Почему и мы не можем стать Небесной Парой?»
«Глика, ты меня поражаешь. У Блоков ведь это связано с религией, а мы с тобой коммунисты!»
«Блок ведь тоже был коммунистом».
«Блок был символистом».
«Он написал первую революционную поэму».
«Прочти внимательно, и ты увидишь, что это поэма Апокалипсиса».
«Кирилл, я вас не возьму в женихи!»
«Нет уж, дорогая, сама напросилась в невесты, обратного хода нет!»
Они наконец-то рассмеялись. Хохотали без удержу и в хохоте даже обнялись. Вдруг хохот прервался и объятие распалось. «У вас, товарищ Смельчаков, имеется какая-то повышенная чувственность. А ведь вам предстоит стоять на страже идеальной советской девственницы». Такую выволочку сделала «невеста» «жениху».
«Тебе тоже, товарищ Новотканная, надо быть поосторожнее, – проворчал он. – Пойдем-ка лучше погуляем по весне».
Правильная интонация между женихом и невестой, кажется, была найдена. Они весело оделись, спустились с 18-го этажа, прошли через вестибюль, напоминающий своим мрачноватым величием то ли станцию метро, то ли римский храм главного божества, к тому же и оно было здесь представлено в виде подсвеченного бюста черного мрамора. Дежурный персонал проводил их внимательными, но, в общем-то, вполне благорасположенными взглядами.
День был, словно по контрасту с архитектурой, веселый, с капелью, с порывами южного ветра, под которым интенсивно таяли крупнопористые сугробы. Глика была в одной из шести маминых шубок, в котиковой, которая ей была и по фигуре и к лицу. Кирилл в своем лондонском твидовом пальто (трофей борьбы за мир) вполне соответствовал юной красавице, тем более что шевелюра находилась в постоянном подветренном шевелении. Они пошли по набережной, мимо неразберихи Зарядья, в сторону Кремля. Купола соборов горели под солнцем в странной цветовой гармонии с символами великой атеистической державы.
Глика попросила «дядю-жениха» рассказать ей побольше о Блоке. Надо сказать, что после обратного похищения Эсперанцы большую часть времени наш герой проводил за чтением разных старых поэтических изданий, которые находил в постоянных походах по букинистическим магазинам Кузнецкого и Столешникова. Он рассказал ей о том, что Блок видел в Любе Менделеевой воплощение Святой Софии. Он настоял на… ну, в общем, на платонических отношениях, не зная, какие страдания принесет им обоим эта мистическая платоника. Вместе с ними страдал и третий, их ближайший друг Андрей Белый. Втроем они читали стихи своего символистского властителя дум Владимира Соловьева:
- Не Изида Трехвенечная
- Нам спасенье принесет,
- А сияющая вечная
- Дева Радужных Ворот.
Глика повторила за ним эти строки три раза, чтобы запомнить навсегда.
Кирилл подумал, что надо запомнить, как у нее глаза засияли при виде этих Радужных Ворот. Такие моменты нельзя просто так проскакивать, иначе проскочишь всю жизнь, будто просто проехал в переполненном плацкартном от аза до ижицы. Итак: 1952-й, март, сильный южный ветер, мы идем с моей невестой по набережной Москвы-реки, приближаемся к священной для каждого коммуниста крепости Кремль, какая все-таки яркая терракота, я читаю ей стих философа-идеалиста про Деву Радужных Ворот. Она просит повторить это три раза, чтобы запомнить навсегда. Глаза ее вдруг возжигаются невероятным огнем. Всего этого не повторить. Нужно просто запомнить.
Спросить ли мне жениха, почему он говорит о страданиях, думает Глика. Чего больше у Блоков было: страдания или блаженства? Кто был этот третий, Белый? Почему мы не читаем его на курсе? Белый – это всегда не красный, так, что ли? В радуге этих ворот всегда весь спектр, не так ли? Включая белый? Белый – это быть может цвет чистоты, чистые одежды, чистые простыни, в идеале он вытесняет все, включая и саму жизнь. Может ли невеста задавать жениху такие каверзные вопросы?
«Кирилл, вам не кажется, что белый цвет – это цвет небытия? Вы вообще думаете о небытии? Я должна вам признаться, что меня иногда чуть ли не сводят с ума эти мысли. Жизнь представляется мне каким-то крошечным пузырьком посреди непостижимого небытия. Мы попадаем в этот странный, ну пусть комфортабельный, пусть красивый, но пузырек из ниоткуда, а потом уходим из него никуда. Почему мы кричим в младенчестве, может быть, потому, что чувствуем ужас рождения? Потом мы вырастаем и забываем об этом ужасе, и тогда нас начинает посещать ужас неминуемой смерти. Скажи, жених, ты испытываешь этот ужас? Ведь ты прошел столько войн, где гибнут многие».
Он снял с ее правой руки перчатку и засунул ее (руку!) в левый карман своего пальто. Потом снял перчатку со своей левой руки и засунул ее (руку!) туда же. Левая рука обняла правую, и правая ответила ей тем же. Глубочайшая нежность пронизала всю его суть: это избалованное существо страдает в своем дивном теле, быть может, не слабее, чем узница в концлагере.
«Знаешь, Глика, девочка моя, на войне мы испытывали какую-то другую смерть, общую, смерть в борьбе. Все ходили как бы хмельные, а часто и в самом деле под банкой. Без этого там свихнешься. Как ни странно, общий ужас существования редко посещал души. А вот теперь я, как и ты, попадаю в какую-то философскую ловушку, сродни той, что Толстой однажды пережил в городе Арзамасе». При слове «Арзамас» пальцы девушки дрогнули в его кармане: ведь это было как раз то место, где папочка постоянно обретался, трудясь над своим «устройством».
Кирилл продолжал: «Особенно эта ловушка страшна для таких, как мы с тобой, носителей марксистско-ленинской материалистической философии».
«Ах, Кирилл, как ты прав! – Она выхватила свою руку из его кармана и прижала ее к его щеке. – Как это страшно! Мы знаем, что в мире нет ничего идеального, что существует только материя, да? Значит, со смертью мы просто растворяемся в материи, вот и все – да? Превращаемся просто в химические элементы – да? – и навсегда, и больше никогда, да? Но самое страшное состоит в том, что и Он умрет, а я просто не представляю себе, как без Него тут все может продолжаться!»
«Ты говоришь о Сталине?» – шепотом спросил он.
Она кивнула. На несколько минут между ними воцарилось молчание. Они уже обогнули Кремль и шли мимо Александровского сада. На Манежной в ранних сумерках детишки под отеческим наблюдением МГБ лепили снеговиков и катались на санках с обледенелых пригорков.
«Сталин не умрет, – наконец проговорил Кирилл. – То есть он умрет, как все, но в отличие от всех после смерти он станет Богом. Таким образом наша философия подвергнется кардинальным изменениям».
«Вот это да! Вот это здорово!» – в восторге закричала Глика и даже влепила в щеку своему «жениху» платонический, хоть и весьма горячий, поцелуй.
«Только молчи! – предупредил Кирилл. – До поры никому ни слова! Ты чувствуешь, подмораживает? Хватит философствовать, пойдем-ка лучше в „Националь“ и разопьем бутылку шампанского за наше столь невероятное обручение».
В «Наце» Смельчакова, конечно, знали. Без всяких дрязг им дали столик на два куверта под картиной «Чесменская битва». Из посетителей весь заядлый клубный народ раскланивался, или помахивал, или кивал издалека, и все умирали от любопытства, глядя на новую спутницу Кирилла, юную фею. Никто к этому часу еще не успел надраться, все пока что изображали безукоризненных денди, и потому никто не лез с хамскими вопросами, а тем более не подсаживался с мокрой чушкой.
Жених и невеста пили массандровское шампанское и улыбались друг другу. Глика, будто забыв о своей схиме, смотрела на Кирилла лучистым взглядом. Чего доброго, она еще влюбится в меня, думал он. Если уже не влюбилась. Отчего это женщины так быстро и бесповоротно в меня влюбляются? Ведь не из-за известности же, не из-за молодцеватости же внешнего облика. Кроме этих бесспорных данных, они еще что-то чувствуют во мне, что-то не совсем типичное для нынешних мужланов, которые лишь жаждут овладеть бабой, подчинить ее тело своему телу, излить свою похоть и отвалить в сторону. Быть может, они чувствуют мою склонность к нежности, понимают каким-то чутьем, что я хочу не только ими овладевать, но также им принадлежать, бесконечно их ласкать, взывать к какой-то их божественности, быть вместе, всегда вместе. Да, вот таков я, Герой Советского Союза Кирилл Смельчаков, и только одно непонятно: как я смог так надраться, не допив еще бутылки массандровского?
Пришли три музыканта: пианист, контрабасист и трубач. Заиграли довоенный еще фоксик.
- На далеком Севере
- Эскимосы бегали,
- Эскимосы бегали
- За моржой.
Глика вдруг захлопала в ладоши, словно дитя: какое чудо! Оказалось, что она никогда не слышала этот старый шлягер. Трубач играл, подражая Луису Армстронгу, потом отводил трубу и пел:
- Эскимос поймал моржу
- И вонзил в нее ножу,
- А потом взвалил ее на воз,
- И повез по льду.
- Ту-ру-ру-ру-ру!
- Надоело тут морже
- Так валяться на барже.
- Она лапти в руки и бегом
- Босиком по льду.
- Ту-ру-ру-ру-ру!
Глика изнемогала от восторга, барабанила лапами по столу и чуть не свалилась со стула.
Кирилл по-командирски взглянул на свои «Командирские». «Пора домой, моя фея. Чувствую, что Ариадна уже оттягивает свою нить назад». По дороге к выходу он приостановился возле столика, за которым торжественно восседал маленький человек с большой головой. «Юрий Карлович, познакомьтесь с Гликой, это моя невеста». Человечек тут же вскочил, щелкнул каблуками. «Надеюсь, Смельчаков, вы не нарушаете кодекса РСФСР?» Глика с театральной жеманностью произнесла: «Мне уже девятнадцать, сударь!» «Прошу прощенья, сударыня, как я мог не понять этого сразу?»