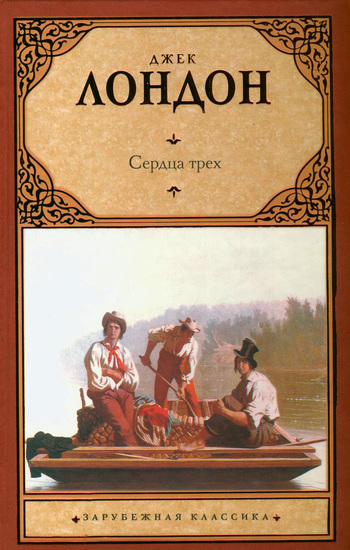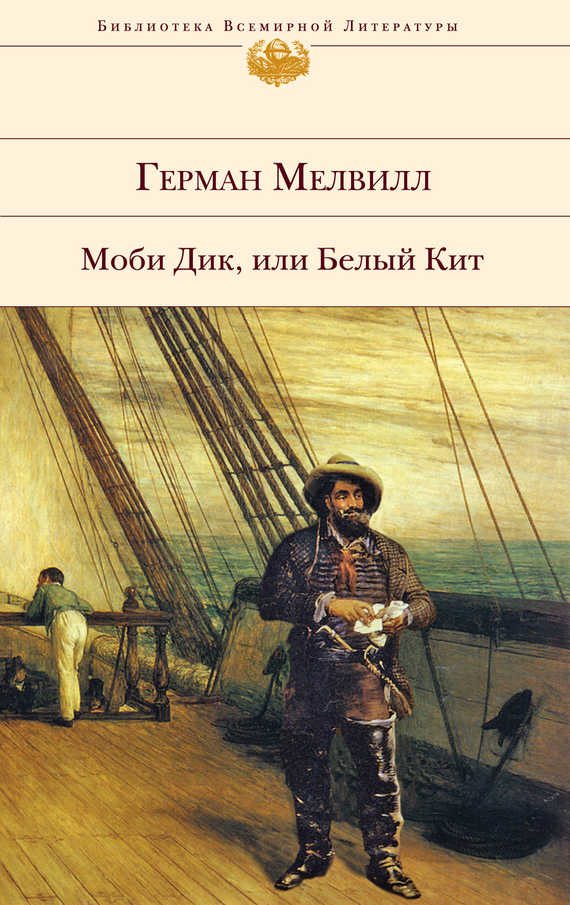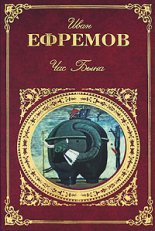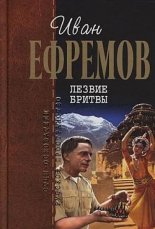Путь Меча Олди Генри

Во-первых, нас остановил звериный рык.
В металлической клетке у стены метался из угла в угол пятнистый чауш – зверь редкий не только для Кабира, но и для Мэйланя, в окраинных солончаках которого зверь, собственно, и водился. Сам чауш походил на катьярских бойцовых собак – короткошерстных, плотных, с узкой крысиной мордой и налитыми кровью глазками, – но был в несколько раз крупнее, с кривыми, не по-собачьи острыми когтями; и хвост чауша не обрубался, как у собак, а от рождения был похож на сжатый кулак, невесть каким образом выросший из зада зверя.
Сейчас этот хвост-кулак дрожал мелкой дрожью и злобно подергивался.
…А во-вторых, меня заставил обернуться голос.
– По-Беседуем, Единорог?
Их солнцеподобие царственный ятаган Шешез Абу-Салим появился бесшумно и внезапно из потайной двери в углу помоста.
Он был в темных нелакированных ножнах, явно подчеркивая этим будничность встречи, и его грузный Придаток держал Шешеза в руке, словно забыв прицепить кольца ножен к кожаному подбиву кушака.
Я не ответил. Предложив мне Беседу, Шешез добивался совершенно определенной цели: проверить лично все то, что он слышал о новом, сумасшедшем Дан Гьене и новой руке его Придатка – а слышал он, вне всяких сомнений, немало.
И в основном – от Дзюттэ Обломка, шута-мудреца. Можно представить, что Обломок растрезвонил Шешезу…
– Это подарок, – Шешез небрежно кивнул в сторону глухо ворчавшего зверя. – Вчера доставили. Ну так как, Единорог, по-Беседуем?
Ятаган коротко лязгнул, до половины высунувшись из ножен и резко войдя обратно, Придаток Шешеза неожиданно легко соскочил с помоста, и я почувствовал, что Шешез Абу-Салим боится меня.
Боится. Для того и клетку со зверем в зал велел поставить, чтоб ярость слепая звериная ему самому храбрости добавила; для того и принимал меня в зале, где спал старик Фархад – славное прошлое Кабира; видать, подточили последние события былую уверенность Ятаганов фарр-ла-Кабир… испытать хочет, а боится!
А я, я сам, былой, прежний – неужели не убоялся бы тот Дан Гьен Беседы с Блистающим, о ком знал бы то, что знал Шешез Абу-Салим обо мне? Если бы ведал – вот передо мной тот, кому доверено правителем преследование Тусклых; тот, кто едва не убил Придатка, служившего Детскому Учителю и шуту семьи Абу-Салим; кто заставил своего собственного Придатка сжать стальные пальцы…
Да, ятаган фарр-ла-Кабир, и я бы испугался. Сознавшись в этом перед самим собой, я в церемонном салюте вылетел из ножен и весело сверкнул навстречу Шешезу.
И ятаган сгоряча не заметил, что его со-Беседник Дан Гьен находится в левой руке Придатка.
В левой.
В живой.
5
…Шешез пошел, как обычно, от левого плеча в полный мах; я увел Чэна назад и скользнул под второй удар, сбрасывая ятаган в сторону и угрозой встречного выпада заставляя Шешеза умерить пыл и перейти к более тщательной обороне.
Ошибся, ошибся сиятельный ятаган, все учел в мудрости своей, да просчитался – не выйдет у него проверки Единорога, сорвется испытание!.. Будь на месте Шешеза эспадон Гвениль или та же Волчья Метла – не совладать мне с ними, оставаясь в левой Чэновой руке; а в правой-то, в железной перчатке, нет у меня уверенности… какая уверенность может быть в чуде, пусть даже в однажды свершившемся?!
Беседуй, ятаган фарр-ла-Кабир, Беседуй, спрашивай, отвечай, да не забывай вовремя сам уворачиваться и Придатка своего уводить! Не рубка у нас сейчас, а Беседа; не сила с весом в почете, а уменье Блистающего, так что я для тебя и в левой руке – Мэйланьский Единорог… давай, Шешез, гоняй пыхтящего Придатка, звени веселей, будь ты хоть тридцать три раза фарр-ла-Кабир!..
Я даже успевал думать о постороннем. Есть ли в колыбели новорожденный Придаток или нет; если есть – то почему не плачет в голос от шума нашего? Всерьез ли спит на подставке старый Фархад, или исподтишка наблюдает древний боец за чужой Беседой? Отчего взбесился пятнистый чауш, отчего раз за разом бросается на гудящую решетку, выпустив кривые кошачьи когти? Ну, тут как раз все понятно, зря подумал, зря отвлекся… А вот то, что Шешезов Придаток уже на помосте – так и мы уже на помосте, и видим то, чего другие не видят!
– Мэй-лань!
Знатно летел Шешез, почти через весь зал летел, выбитый мною, да еще и по полу четыре длины клинка проехал и остановился лишь тогда…
Когда уперся в когтистую лапу.
Не выдержал замок, лопнуло в нем что-то – и распахнулась дверь клетки, выпуская на волю красноглазую злобу; припал зверь к мозаике пола, и торжествующий рык прокатился по залу Посвящения, заметавшись меж колонн.
Лежал на холодных цветных плитках ятаган Шешез Абу-Салим фарр-ла-Кабир; лежал на палисандровом ложе ятаган Фархад иль-Рахш фарр-ла-Кабир; замер в левой руке Чэна Дан Гьен из Мэйланя – и ничего не мог сделать нам освободившийся пятнистый чауш, изготовившийся к прыжку.
Ничего. Зубы его, когти его – ничего.
Да и не стал бы он нам ничего делать.
Стоял на помосте Чэн Анкор из Анкоров Вэйских; стоял рядом с ним запыхавшийся Шешезов Придаток – и ничего не мог сделать им пятнистый чауш, потому что рядом была дверь, рукой подать, та самая дверь, и совсем-совсем рядом…
Не успел бы чауш. Прыгай не прыгай – не успел бы.
А я все думал об одном, хоть и незачем вроде бы Блистающему об этом думать; думал и не мог, не смел отвлечься, боялся отвлечься, да так и не знал…
Есть в колыбели младенец-Придаток или нет его?!
Если нет – вот дверь; вот сталь, которой нипочем клыки и когти…
Если есть – вот дверь, вот сталь… вот зверь и хрупкая плоть в колыбели.
Будущий Придаток Фархада иль-Рахша. Который станет бывшим, так и не став настоящим.
– Ильхан мохасту Мунир суи ояд-хаме аль-Мутанабби! – глухо прозвенело позади меня.
Никогда в своей жизни не слышал я ТАКОГО звона; и неведомо для меня было значение сказанного.
Треснула одна из опор деревянной подставки, две других не выдержали веса старого ятагана, согнулись, спружинили, покачнулся палисандровый постамент…
Я это видел.
Скрежетнули когти по гладкому полу, рывком разогнулись мощные лапы, посылая чауша в воздух с неотвратимостью взбесившейся судьбы…
И это я видел.
Двое летели навстречу друг другу: освободившийся зверь, обуянный жаждой убийства, и обнаженный ятаган Фархад, чьи ножны зацепились кольцом за обломившуюся опору подставки, пославшую Блистающего в полет.
– …Мунир суи ояд-хаме аль-Мутанабби! – эхом прозвучало во второй раз. Грозно и непонятно.
А потом Чэн, словно во сне, протянул правую руку и легко поймал Фархада за рукоять.
Впервые мой Придаток держал одновременно со мной другого Блистающего; но разве не впервые существовал Придаток (опять это проклятое слово!) с невесть чьей латной перчаткой вместо руки?!
Сгоряча я даже и не заметил – почти не заметил, – что вновь думаю о Чэне как о Придатке, а потом я внезапно увидел пылающий Кабир, проступивший сквозь стены зала, гневно заржал призрачный гнедой жеребец, и я сделал то, что должен был сделать.
Сделал.
Сам.
Или не сам?..
Но я это сделал.
6
…Придаток Шешеза тяжело спустился с помоста, словно прошедшие мгновения состарили его на добрый десяток лет – срок, ничтожный для Блистающего, но не для Придатка, – и, обойдя убитого чауша, приблизился к лежащему Шешезу.
Нагнулся.
Поднял.
Шешез Абу-Салим фарр-ла-Кабир молчал.
Его Придаток еще немного постоял и вернулся к мертвому зверю. Присев у тела, он замер на корточках; Шешез осторожно потянулся вперед и почти робко коснулся разрубленной головы с навечно оскаленной пастью.
Разрубленной.
Чисто и умело.
Как умели это делать ятаганы фарр-ла-Кабир, рубя неживое; и я еще подумал, что легенды о Фархаде могут оказаться правдой, и старый ятаган рубил некогда многое, о чем не стоит лишний раз вспоминать.
Окровавленный Фархад иль-Рахш по-прежнему находился в правой руке Чэна.
Потом Шешез толкнул голову чауша, и та запрокинулась, открывая бурую слипшуюся шерсть на пронзенной насквозь шее зверя.
Ятаганы так не умеют.
Так умею я.
О Дикие Лезвия, ставшие Блистающими, – как же это оказалось просто! До смешного просто!..
И я негромко рассмеялся. Смерть и смех – вы, оказывается, часто ходите рядом!
Да, сегодня передо мной и Фархадом был зверь, дикий безмозглый зверь, хищный обитатель солончаков, – но, может быть, с Придатками все получается так же просто? Так же естественно? Значит, дело не в руке – верней, не только в руке из металла, – но и во мне?! В кого ты превращаешься, Мэйланьский Единорог? Куда идешь?!
Неужели таков Путь Меча?!
Чэн спрыгнул вниз, подошел к Придатку Шешеза и отдал ему Фархада. Сам Шешез Абу-Салим слабо вздрогнул, когда его Придаток коснулся железной руки Чэна; я сделал вид, что ничего не произошло, и тщательно вытерся о шкуру убитого чауша.
Так, словно не раз делал это раньше.
– Фархад! – тихо позвал я потом (мне легче было обращаться к старому ятагану, когда его держал чужой Придаток). – Фархад иль-Рахш фарр-ла-Кабир!
Он не отозвался.
Он спал. Или притворялся. Или думал о своем.
Какая разница?
– Что ты хочешь спросить… Высший Дан Гьен? – ответил вместо иль-Рахша Шешез, и голос его был неестественно бесстрастен.
– Я хочу знать, что кричал Блистающий Фархад перед тем, как…
Я не договорил.
Шешез Абу-Салим поднял на ноги своего Придатка, возвратился к сломанной подставке, долго смотрел на нее, а потом его Придаток осторожно положил иль-Рахша просто поперек колыбели, так и не облачив его в потерянные ножны.
– Здесь никого нет, – бросил Шешез, отвечая на еще один вопрос, который я так и не задал вслух. – Дитя-Придаток Фархада в другом месте. В этой колыбели он только спит по ночам, да и то не всегда. Значит, Высший Дан Гьен, ты хочешь знать, что кричал мой двоюродный дядя Фархад?.. Он кричал: «Ильхан мохасту Мунир суи ояд-хаме аль-Мутанабби!» Я и не думал, что когда-нибудь услышу этот забытый язык, да еще в своем доме…
Я ждал.
– Это означает, – сухо продолжил Шешез Абу-Салим, – это означает: «Во имя клинков Мунира зову руку аль-Мутанабби!» Ну что, ты доволен, Единорог?
Мое прозвище почему-то далось ему с трудом.
– Аль-Мутанабби? – задумчиво лязгнул я, опускаясь в ножны. – Это Блистающий?
И тут же устыдился собственной глупости. Раз у этого аль-Мутанабби была рука – кем он мог быть, если не Придатком?
Шешез будто и не заметил моего промаха.
– В роду Абу-Салим, – заметил он, – бытует старое предание, что когда южный поход Диких Лезвий увенчался взятием Кабира и лучший ятаган нашей семьи стал первым фарр-ла-Кабир… так вот, его Придатка якобы звали Абу-т-Тайиб Абу-Салим аль-Мутанабби. И я не раз слышал от того же Фархада, что в черные дни Кабира вновь придет время для руки этого Придатка. Правда, я всегда посмеивался над велеречивостью старика, когда он в очередной раз принимался излагать мне одно и то же…
– Во имя клинков Мунира зову руку аль-Мутанабби… – повторил я. – А клинки Мунира – это тоже из ваших родовых преданий? И кто такой Мунир? Имя? Город? Местность?
– Не знаю, – ответил Шешез, – ничего я толком не знаю… Я знаю только, Единорог, что время испытаний для тебя закончилось. И еще кое-что закончилось…
Он резко взлетел вверх и описал двойную дугу над головой своего Придатка.
– Смерти! – взвизгнул ятаган. – Смерти, убийства, несчастные случаи, призраки Тусклых – все это закончилось! Тишь да гладь! Вот уже две недели, как в Кабире все спокойно! И я не могу больше, я все время жду неведомо чего, я боюсь собственной тени… Это проклятое затишье вымотало меня хуже ежедневных сообщений об очередных убийствах! И вдобавок этот харзиец, пылающий ненавистью, этот Пояс Пустыни… последнее его сообщение было с дороги Барра, что ведет к границе с Мэйланем, – и с тех пор он молчит! А сообщал, что напал на след… Выходит, однако, что след напал на него…
Шешез успокоился так же неожиданно, как и вышел из себя.
– Мир переворачивается, Единорог, как песочные часы, и прошлые песчинки вновь сыплются в чашу настоящего… Я схожу с ума от неизвестности, Кабир мечется от стены ужаса к двери благополучия, ты веришь Дзюттэ Обломку и пытаешься спасти испорченного Придатка, Маскин Седьмой из Харзы… он учится убивать, Шипастый Молчун заставляет своего Повитуху приклепать твоему Чэну неизвестно чью руку, а Фархад глядит на нее и взывает к руке аль-Мутанабби!.. Наверное, и впрямь настали черные дни Кабира! А я – я плохой правитель для черного времени… слишком уж долго за окнами было светло.
И я понял, что аудиенция закончена.
А еще я вспомнил, что в тот момент, когда в доме Гердана впервые сжались стальные пальцы, Дзюттэ Обломок сказал почти то же самое, что и Фархад иль-Рахш.
Дзюттэ сказал: «Во имя клинков Мунира!..»
Глава восьмая
1
А вечеринка – или празднество, как пышно выразился Заррахид, – прошла на редкость успешно.
Гости были милы и подчеркнуто беззаботны, Гвениль все время острил и все время неудачно, зато Махайра – удачно, но тому же Гвенилю стоило больших трудов не обижаться на Бронзового Жнеца; Заррахиду я строго-настрого запретил прислуживать – для этого понадобился приказ по всей форме о переводе эстока на сегодняшний вечер в ранг гостя, – и теперь мой Заррахид рьяно ухаживал за Волчьей Метлой и был совершенно неотразим…
Детский Учитель семьи Абу-Салим молчал, как всегда, но молчать он умел весьма выразительно, передавая различные оттенки настроения, – и я решил, что на этот раз Детский Учитель молчит доброжелательно. Помалкивал и Обломок, словно растеряв с того памятного дня изрядную долю своих причуд и чудачеств.
Беседы велись исключительно светские, не на победу, а так – для развлечения, с многочисленными уступками Беседующих сторон друг другу, и я просто диву давался, глядя на галантного эспадона или почти благопристойного Дзюттэ.
Сам я в Беседах не участвовал, довольствуясь ролью зрителя и – иногда – третейского судьи. Меня останавливала отнюдь не неуверенность в железной руке – после убитого чауша я не сомневался в ее своеобразных возможностях и лишь слегка побаивался их, – а просто я по гарду был сыт происшедшим, да и гости мои старались не очень-то задевать Единорога.
На всякий случай. Тем более что случаи в наше смутное время действительно пошли – всякие…
«Да, наверное, – думал я, глядя на Придатков, уходящих по завершению Бесед к накрытому столу, и на друзей-Блистающих, собравшихся в оружейном углу вокруг тяжеловесного Гердана и оживленно спорящих о чем-то, – наверное… Если очень постараться, то они все обучатся… обучатся убивать. Собственно, почему «они»?! Нас, нас всех можно научить щербить и ломать друг друга, бесповоротно портить Придатков, бешено кидаться вперед с горячим от ярости клинком; и кровавая пена будет вскипать на телах бывших Блистающих… И в конце концов мы разучимся Беседовать, ибо нельзя Беседовать в страхе и злобе».
За столом Придатков раздался взрыв хохота, а в оружейном углу Дзюттэ блистательно изобразил помесь кочерги и Шешеза Абу-Салима, отчего восторженные зрители весело взвизгнули – не переходя, впрочем, определенных границ. Что позволено шуту… то позволено шуту, а смеяться позволено всем.
«Странно, – думал я, вежливо блеснув улыбкой, – мир так велик, а я никогда не забредал даже в мыслях своих за пределы Кабирского эмирата и граничащих с ним земель вроде того же Лоулеза! А живьем я и вообще почти ничего не видел, кроме Мэйланя да Кабира! Что происходит там, далеко, не у нас? А там ведь наверняка что-то происходит! Откуда приехал в свое время в Кабир эсток Заррахид? Да разве он один… Как ТАМ – так же, как у нас, или по-иному? Может быть, то, что для меня – память латной перчатки, для них – реальность нынешнего дня?!»
Чтобы отвлечься от невеселых размышлений, я более внимательно глянул на Придатков за столом и увидел, как мой Чэн неловко опрокинул полный кубок, по привычке ткнув в него правой рукой.
«Интересно, а сможет ли он, Чэн Анкор, вообще взять что-нибудь этой рукой – что-нибудь, кроме Блистающего? Кубок, тростниковый калам для письма, поводья? А ну-ка попробуем с другой стороны…»
Я расслабился, обвиснув на крюке, мысленно дотянулся до перчатки, прошел сквозь нее к Чэну – и он почувствовал это, он поднял металлическую руку и с удивившим даже меня упрямством вновь потянулся к опрокинутому кубку, под которым расплывалось по скатерти багровое пятно.
Да, умница, правильно, а теперь забудь про кубок… представь себе, что берешь меня… вспомни рельеф моей рукояти… ну ладно, давай пробовать вместе…
Стальные пальцы неуверенно дрогнули, потом слабо зашевелились, словно и впрямь припоминая нечто, – и плотно охватили кубок. Чэн сперва с удивлением смотрел на это, но удивление быстро проходило, и ему на смену явились понимание и радость.
Тихая, спокойная радость. Значит – могу… то есть – можем.
Можем. Кубок, калам, поводья, что угодно. Вот только почему Я так счастлив от этого события? Ведь скажи кому из Блистающих о подобных отношениях с Придатком – не поверят. Решат, что рехнулся Единорог. На почве перенесенных страданий.
Ну и пусть. Просто они еще не знают о том распутье, на котором сходятся Путь Меча и Путь Придатка; а дальше, возможно, ведет всего один Путь.
Просто – Путь.
Один против неба.
И мне вдруг захотелось вслух задать мучившие меня вопросы – хотя бы малую их толику! – но задать их не Дзюттэ Обломку или тому же Детскому Учителю, а спросить и выслушать ответы Придатков.
Как?
А вот так…
Чэн уже стоял рядом со мной. И через мгновение, когда я оказался у него на поясе, а железная рука коснулась моей рукояти, усиливая чувство цельности, – через мгновение мы не сговариваясь шагнули друг в друга на шаг дальше, на шаг глубже, чем делали это до того.
Теперь мы были не просто вместе, не просто Чэн и я – нет, получившееся существо, скорее, должно было называться Чэн-Я или Я-Чэн, в зависимости от того, чей порыв в том или ином поступке оказывался первым.
Так оно и случилось, легко и естественно, и настолько быстро, что не осталось времени ни обрадоваться, ни пожалеть.
Посему Я-Чэн не жалел и не радовался.
2
Чэн-Я помедлил, одернул халат и вернулся к столу.
Я-Чэн мельком отметил, что, похоже, никого не обеспокоило кратковременное отсутствие Чэна Анкора. Да и возвращение с Единорогом на поясе тоже никого особо не удивило. Мало ли…
Разве что чуть внимательнее прочих поглядел на Чэна-Меня Придаток Дзюттэ Обломка и Детского Учителя семьи Абу-Салим, которого сами Придатки звали Друдлом.
Друдл Муздрый, шут их величества эмира Кабирского, Дауда Абу-Салима.
Дзюттэ Обломок, шут царственного ятагана Шешеза Абу-Салима фарр-ла-Кабир.
И пусть после этого кто-нибудь попробует убедить меня, что мы не похожи друг на друга! Мы, Блистающие и Придатки, мы…
Пусть это знаю пока один я, пусть один я…
Один против неба.
А пока я незаметно отошел на второй план, превращаясь из Меня-Чэна в Чэна-Меня, и сам не заметил, как Придатки за столом обрели имена и перестали быть Придатками.
Став людьми.
Чэн-Я улыбнулся собравшимся, пододвинул высокий мягкий пуф из привезенных дворецким и сел рядом с увлеченно жующим Фальгримом, отметив попутно, что даже в доме Коблана прочно укоренилась западная мода есть за столом, а старый обычай сидеть на подушках за дастарханом если где и сохранился, то уж наверняка не в Кабире.
…Кстати, у стола Меня-Чэна ожидал приятный сюрприз. Оказывается, Чэн – просто Чэн, еще до опрокинутого кубка – уже успел задать кузнецу Коблану вопрос о клинках Мунира.
Так что ответ ждал нас.
Если, конечно, то, что Чэн-Я сейчас услышу, можно будет счесть ответом…
– Жили некогда, – распевно начал дождавшийся Чэна Коблан, – два великих мастера-оружейника, и звали их Масуд и Мунир. Некоторые склонны считать их Богами Небесного Горна или демонами подземной кузницы Нюринги, но я-то лучше многих знаю, что всякий кузнец в чем-то Бог и в чем-то Демон, и не верю я досужему вымыслу. Люди они были, Масуд и Мунир, если были вообще… А вот в то, что был Масуд учеником Мунира и от него получил в свое время именное клеймо мастера, – в это верю. И не было оружейников лучше их. Но заспорили они однажды – чей меч лучше? – и решили выяснить это старинным испытанием. Ушли Масуд и Мунир, каждый с тремя свидетелями из потомственных молотобойцев и с тремя свидетелями из людей меча, ушли в Белые горы Сафед-Кух…
Кузнец грузно встал, прошел к маленькому резному столику на гнутых ножках и взял пиалу с остывшим зеленым чаем. Он держал ее легко, бережно, и было совершенно непонятно, как корявые, обожженные пальцы Железнолапого, подобные корням вековой чинары, ухитряются не раздавить и даже не испачкать тончайшую белизну фарфоровых стенок.
– И вонзили оба мастера по лучшему клинку своей работы в дно осеннего ручья, чьи воды тихо несли осенние листья. И любой лист, наткнувшийся на меч Масуда, мгновенно рассекался им на две половинки – столь велика была жажда убийства, заключенная в лезвии. А листья, подплывавшие к клинку Мунира, огибали его в страхе и невредимыми плыли дальше по течению.
Коблан помолчал, шумно прихлебывая чай.
– Говорят, – наконец продолжил он, – что ударила тогда в ручей синяя молния с ясного неба, разделив его на два потока. И был первый поток, где стоял мудрый меч мастера Мунира, желтый от невредимых осенних листьев. И был второй поток, где стоял гордый меч мастера Масуда, красный – словно кровь вдруг потекла в нем вместо воды. И разделились с той минуты пути кузнецов. Мунир с двенадцатью свидетелями ушел от ручья, а оставшийся в одиночестве Масуд прокричал им в спину, что наступит день – и у него тоже будет дюжина свидетелей, не боящихся смотреть на красный цвет. Страшной клятвой поклялся в том Масуд, и тогда ударила с неба вторая молния, тускло-багровая… Обернулся Мунир – и не увидел ученика своего, Масуда-оружейника, и меча его тоже не увидел. А два горных ручья тихо несли в водах своих осенние листья…
И еще помолчал кузнец Коблан, словно тяжело ему было говорить, но – надо.
– Вот с тех пор и называют себя кузнецы Кабира, Мэйланя, Хакаса и многих других земель потомками Мунира. Вот потому-то и призываем мы благословение старого мастера на каждый клинок, выходящий из наших кузниц. И семихвостый бунчук кабирского эмирата желтого цвета – цвета полуденного солнца, цвета теплой лепешки, цвета осенних листьев, безбоязненно плывущих по горному ручью…
– А Масуд? – тихо спросила Ак-Нинчи. – Он что, так и не объявился?
– Пропал Масуд. Только поговаривали, что согласно данной клятве отковал он в тайной кузне двенадцать клинков, и тринадцатым был клинок из ручья испытания. Тусклой рождалась сталь этих мечей, и радует их красный цвет крови человеческой. И когда ломается один меч из Тусклой Дюжины, то вновь загорается горн в тайных кузницах, и проклятый Масуд-оружейник или один из его последователей – а нашлись и такие – берет тяжкий молот и идет к наковальне. Глухо рокочет пламя в горне, стонет железо под безжалостными ударами, и темное благословение Масуда призывается на одержимый меч. Или и того хуже – не новый клинок кует кузнец, а перековывает старый, что был ранее светлым, светлым и…
– А с чего бы это тебе, Высший Чэн, – вдруг перебил кузнеца шут Друдл, – с чего бы это тебе сказками старыми интересоваться? Вроде бы не водилось за тобой раньше любознательности излишней…
Я-Чэн ответил не сразу. Чэн-Я неотрывно смотрел на шута, на коренастого плотного человечка в смешном и куцем халате враспояску – и видел круглую физиономию с черной козлиной бородкой, которую Друдл непрерывно пощипывал, видел съехавшую на затылок фирузскую тюбетейку, пробитую мной и после аккуратно заштопанную; видел…